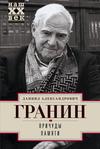Kitabı oku: «Вечера с Петром Великим», sayfa 4
Царица Наталия Кирилловна болела, писала сыну, тоже возбраняла ехать к морю.
Письмо ее поражает силой чувств: «…в тебе веселюся, сыне мой первородне, единородне чадо… утешение мое… радость моя ненасыщенная, любовь несказанная, щедрость христиан благочестивых… не удаляйся от нас, вожделенное мое чадо… Едва во вижду в смиренном вдовстве моем тебя – веселюся, и скорбь бежит от меня, не видевши же, болезную всеми моими чувствами и плачу, болезную, заливаюся непрестанно слезами… Не вдавайся, Господи, Царю страшному и ведоносному морскому пути; не изволь шествовать без пользы и потребы тебе по морю».
Материнским обожанием пылало сердце этой женщины, видимо понимавшей, кого произвела она на свет божий. Существуют великие дела, но существуют и великие чувства, считал Пушкин.
Да и бедный Иоанн тоже горячо любил своего брата и тоже пуще всего боялся за его жизнь. «Ты един светильник Российский, – писал он Петру, – аща той угаснет, и вся благая с ним имут угаснути».
Кончина матери повергла Петра в горе. Он не мог оторваться от гроба, рыдал безутешно. Дипломат Федор Головин, бывший при Петре, чтобы как-то отвлечь государя, стал предлагать ехать в Архангельск, увидеть океан, походить по морю на конвойных кораблях, сопровождая купеческие суда. Он угадал: путешествие к морю – единственное, что могло избавить Петра от печали.
Долгожданное море было совсем не то, что грезилось ему, – и больше, и страшнее. Необъятность воды соединялась в мощь, с которой ничто не могло сравниться. Хмурое северное море уходило в неведомые дали. Оно звало, грозило, обещало. Отсюда можно было добраться до любых стран и земель. Распах тускло блестел, заполняя весь окоем, позволял плыть неделями, без стеснения берегов, границ, добраться до теплых морей и океанов. В Белом море была совсем другая вода, чем в Двине, и пахла она иначе. Земля никогда не виделась ему такой огромной, как море. Счастье бескрайнего простора охватило его, это был праздник полной воли. «Я вижу красоту мира!» – воскликнул он.
Море стало его главной любовью. Любовь держится тайной, море – чем ближе он узнавал его, тем таинственнее становилось.
Он днями бродил по торговым причалам, заходил в конторы купцов. В порту стояли корабли с яркими иностранными флагами. Вкатывали бревна, грузчики несли бочонки икры, связки мехов, кожи. Сгружали шелка, сукна, ящики с какими-то украшениями, зеркала, краски. Подъезжали возы с пенькой, льняным полотном. Отъезжали возы. Скрипели сходни. Кричали, переругивались на всех языках. Огорчало, что в единственном русском порту не было ни одного русского корабля.
В свиту Петр взял Франца Тиммермана. На яхте «Святой Петр» вышли в открытое море. Сперва отправились вдоль порта, потом повернули в море сопровождать уходящие из Архангельска купеческие корабли. Качало. Петр зачерпывал воду, пробовал – вода была солонее, чем в порту. Наступил вечер, июльское солнце все не заходило. Петр рулил по золотой дорожке. Глаза его блестели, волосы развевались, он не отзывался на слова Франца, губы шевелились, словно он разговаривал с морем. Волна поднималась, у восточных берегов полуострова Франц заставил повернуть назад. Потом он рассказывал архангельскому воеводе Федору Апраксину, что, конечно, боялся уходить далеко на малом судне, но больше за царя, который словно ошалел, готов был обниматься с морем, а оно не любит безумств, оно требует почтения, для него нет ни царей, ни господ.
В следующий раз, через год, когда он вышел в море, Нептуново царство показало ему справедливость слов голландского моряка. То было в мае 1694 года, в разгар белых архангельских ночей. На той же яхте они плывут на Соловецкие острова. Это уже настоящее морское плавание. Приметы обещали спокойную прогулку. Город скрылся за горизонтом, исчезли берега, со всех сторон осталось море, тускло-белесое, с лиловыми разводами, мелкая волна шлепала о борт, холодное солнце катилось по пустому небу. И вдруг море словно заметило их, невесть откуда взялась настоящая волна. Такой Петр не видал, она стала швырять корабль, вздымалась над ним, обрушивалась всей массой. Буря налетела без облаков, корабль закружило, понесло, ветер менялся, хлопали паруса, Петр видел, как матросам приходится убирать в шторм нижние косые паруса. Царь схватился за руль, но опытный лоцман Тимофеев отстранил его: «Не умеешь – не суйся!» Свита – бояре, стольники, денщики в ужасе молились, плакали. Они никогда не были в открытом море, тем более в бурю. Петр не подавал виду, что испугался. Царское достоинство не позволяло, и любовь к морю, – оно испытывало его, проверяло его чувство, он должен был выдержать.
Молочков обратил наше внимание на то, что любой поступок Петра, его поведение рассматривались как царские. Смелость не считалась смелостью, поскольку он царь, он и обязан держаться спокойно. Когда Меншиков или Апраксин так держатся – это им в зачет. Он знал математику, астрономию – на то он и царь, он должен быть всезнающим. Никакой слабости проявлять не мог. Когда он ночью бежал из Москвы, оставив близких, чтобы укрыться от стрельцов в Троицком монастыре, никто не оправдывал его страха. О том, как он выскочил в ночной рубашке, – об этом шушукались с улыбочками, не делали скидок на то, что ему было семнадцать лет. Царь не имеет возраста.
Весь шторм он провел на мостике, рядом с капитаном. Буря умчалась так же внезапно. Она отрезвила Петра. Море не взбунтовалось, оно всего лишь схватило его за шиворот и встряхнуло, показав свои мускулы.
Когда они выпивали в каюте, он, смеясь, вспомнил, как персидский царь Ксеркс велел высечь море за то, что оно заштормило и потопило несколько кораблей из его флотилии. Нет, с морем надо ладить… Он понял, что оно другой мир, не подвластный земным законам и земной власти, чтобы жить в нем, недостаточно любить его, надо еще уметь подчиняться, оно как зеркало, в которое следует смотреться, чтобы познать себя. Море требует изучения.
С этого часа, можно считать, в нем многое определилось и забрезжила мечта о выходе к морю, европейскому, близкому.
– Сколько ему было? – спросил Антон Осипович.
– Двадцать два года.
– По нашим меркам – молодой специалист. Самостоятельного дела еще поручать нельзя.
– У Петра хватало советников.
Молочков покачал головой:
– Ни одного хорошего. Хорошие советы ему давали не до, а после.
– К этому возрасту душа должна созреть, – сказал Сергей Дремов. – В двадцать лет человек готов. Если он не определился с полной силой – плохо, он уже не сумеет раскрыться. Хочешь быть великим человеком – торопись. Все становились до тридцати лет. Дальше – пустоцвет. Гению, конечно, легко, его качества лезут из него, хочет он этого или нет. А вот мы, вся остальная толпа граждан, мечемся до конца дней, не находя себя. Кто найдет, тех считают талантами. Я утверждаю, что талант есть у каждого. Где-то в генах у каждого точно записано – судья, портной, хирург, шут гороховый, а этот шут проводником ездит, а хирург дом красит и никогда не узнает, что он замечательный хирург. Люди уходят, так и не став теми, кем сотворила их природа. Это величайшая трагедия человечества, самое большое наше несчастье…
В юности Петра поразило отличие Немецкой слободы от прочей Москвы. Чистенькие благоустроенные домики, ночные горшки, фарфоровая посуда, картины, салфетки – иностранцы жили не по-московски. Ровными рядами тянулись кирпичные дома, били фонтаны. На вечеринках дамы танцевали с кавалерами – гроссфатер.
Немецкая слобода, которую усердно посещал с юных лет Петр, обосновалась под Москвой еще до Романовых. Там жили, кроме немцев, голландцы, датчане, англичане, шотландцы. Был у них театр, который любил посещать царь Алексей, там играла музыка, читали книги.
Благоухающий оазис европейского комфорта был вызовом, подчеркивал затхлый, византийский вид столицы. Немудрено, что в Немецкой слободе Петр дышал полной грудью, веселился, мечтал, молодой ум его посещали ослепительные проекты.
Стремление к Западу не Петром началось. Еще Иван Грозный вел политику выхода к Балтике для торговли с Европой, для кратчайших и безопасных контактов. Продолжал его дело и Алексей Михайлович. Его сподвижники Матвеев, Ордын-Нащокин стояли за борьбу со Швецией ради выхода к морю. По сути, Петр выполнял завещанное отцом. Темпы, взятые Петром, его напор, радикализм оторвали его реформы от предшественников, и стало считаться, что западничество – чисто петровская затея. На самом деле Петр придал ускорение, и от его мощного толчка Россия еще надолго сохранила движение сквозь лень и бездарность преемников Петра, вплоть до Екатерины Великой – она сумела подхватить петровский раскат.
Петру вменяют в вину неосуществленные проекты. А посмотрите, сколько лет отняла у него война, смута – извечная беда всех наших великих начинаний. Он взялся за Беломорканал, Волгодон, уральскую металлургию, флоты – военный, торговый, порты, он оснащал будущее России, строил дорогу, уходящую в века, расчищал горизонт, показывая, каковы возможности этой страны. Не все получилось при нем. Получилось позже. Быт Немецкой слободы подготовил ум молодого Петра к восприятию европейской культуры. Тем сильнее впечатлило его то, что он увидел в Германии и Голландии. Громадные замки с башнями, неприступными стенами. Уходящие ввысь своды храмов, под ними гремели могучие звуки органов. Сияние витражей. На городских башнях били часы. Масляные фонари освещали желтым мощенные камнем улицы. За каждым углом его подстерегали новшества. Играли шарманки, блестели витрины. По каналам сновали баркасы. Он не сторонился толпы, он погружался в сутолоку причалов, ярмарок, любовался искусством продавцов. Заморские диковины, французские кастрюли, масляные лампы, английские компасы, подзорные трубы, пистолеты, экипажи на рессорах.
Нечто подобное испытал на себе Молочков. Когда он впервые попал в Берлин, он почувствовал себя дикарем, роскошь магазинов, обилие товаров – все удручало и обескураживало учителя. Он не представлял себе, что так хорошо живут на Западе, было стыдно за свою бедность, дикость, он не знал, как правильно переходить улицу, почему лежит Библия в его номере.
Смелость Петра в том, что он нарушил все обычаи русского двора. Никто из государей столько не путешествовал даже по России. В те времена сиднем сидели дома. Выезжать заставляла война. При Михаиле Федоровиче Романове каждого русского, хвалившего чужое государство, укоряли. Тот, кто желал ехать в Европу, считался преступником. Князя Хворостина обвинили в том, что хотел отправиться за границу. Шведские дипломаты в XVII веке отмечали – русским запрещено ехать за рубеж, опасаются, что они возлюбят чужеземные учреждения и устыдятся порядков Московии.
В Амстердаме кипучая жизнь шла на каналах города и в море, оно шумело рядом, голландцы с ним сжились, потихоньку отжимали его, отбирая у него землю. Голландцы умели ладить с морем, умели строить дворцы на сваях, строить плотины. Петр ходил в лютеранские церкви, в католические, в синагоги, осматривал памятники мореходам, рынки с невиданными восточными фруктами, тканями, африканскими масками, копьями, божками. Амстердам был самым богатым городом Европы. Глаза разбегались от оружия, драгоценностей; тюки новых товаров из Индии, Малайзии, Мадагаскара, Кипра без конца выгружали в порту. Разноязычный говор, негры всех оттенков, индусы в тюрбанах, сарацины в белых одеяниях, голоногие мавританки. Он научился курить трубку, стрелять в тире, разбираться в сортах пива.

В Голландию Петр влюбился сразу и навсегда. С тех пор оказывал предпочтение голландцам, завел себе друзей среди моряков, купцов, ученых. Во времена Петра Голландия еще сохраняла могущество, считалась богатейшей страной, в ней процветали науки, искусства. Голландское общество, дома, где бывал Петр, были взбудоражены научными спорами, запретом книги Спинозы «Этика». В ней автор решил избавить людей от суеверия. Он отрицал существование сатаны и дьявола. В историческом романе излагались идеи Спинозы. На глазах у Петра в ратуше книги эти публично сожгли. Другой философ, Локк, выступал в защиту человека от религиозного фанатизма. Терпимость, утверждал он, – это отсутствие нетерпимости, властям не обязательно знать, как гражданин собирается достичь вечного блаженства.
Работая на верфи, Петр отказывает себе в светских удовольствиях, все свободное время уделяя кунсткамерам, анатомическому театру, новым машинам. Он прослышал об изобретателе микроскопа и отправился к Антони ван Левенгуку посмотреть прибор.
Его вело любопытство чистое, без каких-либо практических побуждений, то любопытство, которое рано или поздно приводит к размышлению. Инстинктивно он определял среди множества новинок самое примечательное. Революция, произведенная изобретением Левенгука, была еще впереди.
Возможностей микроскопии никто по-настоящему не представлял. Петр просто любовался неведомой жизнью, что открылась за пределом обычного зрения. Это была другая вселенная, микромир, такой же бесконечный, как звездный. Прибор Левенгука демонстрировал новое торжество разума.
Кровообращение в медицине да и в науке о животных представлялось таинственным явлением. Как оно происходит, никто не знал. Теперь же, с помощью микроскопа, Левенгук показывал сквозь кожу угря движение крови по его телу. Молодой угорь, в стеклянном цилиндре с водой, висел вниз головой, и в его туловище видно было, как течет кровь по сосудам. Точно так же, утверждал Левенгук, движется кровь и в теле человека.
Угрюмого старика упросили показать царю в микроскопе чудо самых простых препаратов. Жало пчелы становилось сказочно огромным, грубым, волосок бобра превращался в мохнатый ствол. Петр ахал, не верил своим глазам. Польщенный его волнением, Левенгук соблаговолил подвести его к своему рабочему микроскопу. Там, в стеклянной трубочке, находилась капелька воды. Старик направил на нее луч света от зеркала. Происходило нечто завораживающее: крохотные зверюшки проворно носились, вертелись, целые толпы этих существ, несомненно живых, населяли каплю воды. Стоило оторвать взгляд от окуляра, мир этот исчезал – чистая прозрачная вода, но если опять прижаться к окуляру – фантастический мир вновь оживал.
По-видимому, Петр был первым из русских и первым из всех монархов, который узрел мир этих животных, не подвластный никому. Неизвестный ни древним грекам, ни одному из путешественников от начала времен.
Чем-то понравился русский царь недоверчивому хмурому Левенгуку. Старик объяснил ему, что эти ужасающе малые животные разных сортов обитают в воде речной, озерной, в слюне, в зубах… Откуда они берутся, каково их назначение, как они размножаются? Он не знал ответа, нужно еще наблюдать и наблюдать, ставить опыт за опытом, сотни опытов.
Устройство микроскопа требовало знаний, поверхностный осмотр мало что разъяснил Петру, несомненно одно: ему показывали не чудеса, не фокусы, зверюшки существовали реально. Надо было приобретать микроскоп, везти его в Россию. Но Левенгук наотрез отказался. Ни за какие деньги ни один из его микроскопов продан не будет. Сколько Петр ни уговаривал упрямца. В сердцах он выругался, схватил шляпу, выбежал, хлопнув дверью. На улице его окликнули. Левенгук звал из окна, просил прислать завтра за микроскопом, он приготовит его в подарок. Яростная досада царя, очевидно, понравилась старику. Это единственный известный случай, когда Левенгук подарил свой прибор.
Зато изобретатель вакуумного насоса охотно продал Петру свою машину. Петр быстро ее освоил и в России, в Кунсткамере демонстрировал зрителям, поражал их физическими опытами.
У Фредерика Рюйша имелась знаменитая анатомическая коллекция. Петр стал прицениваться к ней. Часами изучал искусство ученого. Во что бы то ни стало надо привезти ее в Россию. Заспиртованным экспонатам, будь то внутренности человека, недоношенный плод, больные органы, монстры, Рюйш умел придать живой вид, наряжал их в кружева. Неизвестным способом он сохранял естественные краски, давал причудливые позы. Ходили слухи, что мертвецы общаются с ним, возомнили, будто могут не подчиняться законам смерти. Рюйша интересовал миг смерти, что испытывает человек, когда умирает. Установил, что этого мига никто из умирающих не замечает. Так же как никто не может заметить миг засыпания. Рюйш был разочарован, мертвецы ничего нового о смерти сообщить не могли, они объясняли, что при умирании в них остается такая ничтожная доля жизни, что ее не хватает ни для боли, ни для чувств.
Как ни странно, подобная фантасмагория помогала молодому Петру избавляться от суеверий, увидеть человека изнутри как механизм, подверженный всем прихотям и бедам природы.
Будучи в Гааге, Петр узнал, что там есть ученый-математик, умеющий определить местонахождение корабля без звезд и солнца, методом счисления. Изобретение показалось Петру весьма важным, прежде всего для флота. Да и само по себе удивительным. Он попросил провести опыты в его присутствии. Снарядили специальную шлюпку, на которой построили шалаш. Шлюпку опустили в большой пруд. По всему пруду расставили шесты с номерами. Расположение этих шестов нанесли на план. Шесты представляли в масштабе разные страны и порты. Так что это была в некотором смысле модель моря. Шлюпка с гребцами плыла, куда хотел рулевой. Математик, сидя в закрытом со всех сторон шалаше, должен был со своими инструментами по солнечным лучам определить, возле какого шеста находится шлюпка. Он отмечал на плане и сообщал во всеуслышание. Петр забрался к нему в шалаш, расспрашивал, делал замечания. У голландца не все ладилось. Бывало, он ошибался и путался. Петр уличал его, подозревая в шарлатанстве. Три с лишним часа шла работа. Петр, скрючась в тесном шалаше, продлил испытание. Объехали все до одного шесты. Несмотря на ошибки, кое-чего математик все же добился в своем умении. Петр заключил, что пока еще ему недостает совершенства, но поощрить его труды следует, и щедро наградил – дал сто червонцев, – что делал редко, да и к тому же пригласил работать в Россию. Самое же важное в этом эпизоде – мысль, которую в завершение высказал Петр: «Я нимало не хулю алхимиста, ищущего превратить металлы в золото, механика, старающегося сыскать вечное движение, и математика, домогающегося узнавать долготу мест, для того что, изыскивая чрезвычайное (обратите внимание на эту формулировку!), внезапно изобретают многие побочные полезные вещи. Такого рода людей должно всячески одобрить, а не презирать, как-то многие противное сему чинят, называя такие упражнения бреднями».
– Если это так, то у него довольно современная точка зрения, – с удивлением признал профессор. – О пользе средневековой алхимии, например, недавно писал один уважаемый академик. Правда, в более осторожных выражениях, чем Петр, и то это было сочтено за смелость. Его поздравляли с новым взглядом.
Но тут Гераскин решительно повернул разговор в сторону любви – молодому, красивому мужику самые лучшие приборы любви не заменят. Бабу можно заменить другой бабой, а вот взамен любви ничего подходящего не найти.
По этому случаю Сергей прочел Шекспира:
Любовь – над бурей поднятый маяк,
Не меркнущий во мраке и тумане,
Любовь – звезда, которою моряк
Определяет место в океане.
А Молочков, идя навстречу пожеланиям выздоравливающих, рассказал историю первой любви царя Петра.
Глава четвертая
Анна Монс
Царю было девятнадцать, когда он влюбился в дочь виноторговца из Немецкой слободы, красавицу Анну Монс, пышную, веселую, плясунью, за которой ухаживали напропалую и молодые и старые, немцы и русские. Анна позволяла себе подшучивать над попытками Петра говорить по-немецки, а он смеялся над ее акцентом и нелепыми словосочетаниями. Им было хорошо друг с другом. Это была отличная пара – юный великан, живое выразительное лицо, роскошные кудри, за словом в карман не лезет, недаром Петр так нравился женщинам, и Анна – она привлекала и фигурой, и ножками, душистая, наряжалась по-иностранному, ложилась в кровать с шутками, любовью занималась изобретательно. Все у нее было приготовлено для аккуратности – полотенечко, туалетная вода. Отношения их быстро продвигались. Петр всерьез привязался к немке. Ничего такого раньше не случалось. Прошел год, два, три, на подарки он не скупился: жемчуг, кольца, портрет, осыпанный бриллиантами. В просьбах не отказывал. Просьб хватало. Подарил имение с угодьями. Одно, потом второе. Расщедрился – велел построить ей особняк в Немецкой слободе. Семейство Монс – мать, сестра, братья. У всех находились просьбы, бояре, ведая про любовь царя, подступали к Анне с ходатайствами, кто по судебным делам, кто просил должность. За хлопоты одаривали ее деньгами, мехами, золотой, серебряной утварью. Она брала, и с охотой. Так что молодое чувство вскоре стало приносить доход, удовольствие же от этого не убывало. Музыка гремела до утра, танцы, пирушки, попойки продолжались, и Петр все больше привязывался к ней, к этому дому, так не похожему на русские дома.
Десять лет, не утихая, продолжался их роман. Она никогда не выговаривала ему за его случайные связи, если на него находило, он мог хватать первую, что попадала под руку, – повариху, княгиню, чью-то дочь, жену – без разбору. Анна не ревновала. Похоже, она была уверена в себе.
Любила ли она? Разве любовь может быть без ревности? Но влюбленному неведомы недостатки возлюбленной.
С этой Анны Монс начинается в жизни Петра странная цепь роковых совпадений. То прячась, то возникая, они сопровождают Петра до самых его последних дней. Семейство Монс словно очерчивает заколдованный круг, из которого Петру не вырваться. Сама Анна никак не похожа на роковую женщину. Она красива, сумасбродна и практична. Что творилось в ее душе, никто из современников не понял, тем более не понять этого нам, спустя триста лет. Никто не мог предугадать загадочного поворота в царском романе и в ее сердечной жизни.
В судьбе каждого человека, по мнению учителя, заключен свой смысл. Учитель искал водяные знаки в судьбе Анны Монс и Петра, в том, что их связывало.
Уехав за границу, в первое свое путешествие, Петр не скучает по возлюбленной. Новые впечатления настолько захватили его, что за полтора года он не написал ни одного письма своей Аннушке.
В Европе их простодушный роман мог показаться ему старомодным.
Царствующие особы Европы похвалялись количеством любовниц и любовников. Все делалось открыто, напоказ. Интимность была исключена из жизни. Каждый придворный подражал государю в меру своих возможностей. Сменяли любовниц, менялись любовницами, обсуждали их достоинства. Больше не было тайн ни в своей половой жизни, ни тем более в чужой. Женщина – это орудие наслаждения, если ей поклоняются, то как источнику чувственности. Физическое наслаждение – вот главное в жизни двора. Процесс наслаждения был разработан до тонкостей, обставлен сладостными обрядами. Женщиной умели лакомиться со вкусом, блюдо тщательно готовится, применяют много специй, от женщины требуют искусства воспламенять. Девочек откармливали для королевских удовольствий.
Петр не имел никакого любовного образования. В своих желаниях он действовал просто и грубо, не стесняясь, брал, что подвернется под руку.
За границей его атаковали придворные дамы. Его старались заполучить, одарить своей любовью, своими прелестями, желая украсить собственный любовный список русским монархом.
Романы требовали соблюдения правил, правила требовали времени, но как раз этого у него не было. Светские балы, салоны были ему чужды, как и дворцовая роскошь, как украшения, наряды, карточные игры…
Еще в России его однажды уговорили поехать на псовую охоту. Полагалось царю соблюдать обычай – и отец и дед, все участвовали в псовых охотах.
В назначенный день явились бояре-охотники со множеством псарей и собак. Петр внимательно осмотрел эту шумную толпу и сказал, чтобы слуг отпустили – зачем они? Останутся одни охотники. Вельможи, взяв собак из рук псарей, отправились с царем. Когда выехали в поле, все пришло в расстройство. Собаками бояре управлять не умели, собаки подбегали к лошадям, кидались друг на друга, испуганные кони носились по полю, не слушая всадников и стараясь выбросить их из седел. Охота не получилась. Петр, смеясь, возвратился в Преображенское.
– Не лучше ли нам быть воинами, чем псовыми охотниками? – сказал он, прощаясь. – Слава царя в благополучии народа, охота же – слава псарей.
Впервые о ритуалах любви, о галантных обычаях кавалеров и дам Петр узнал от короля Августа, искусного мастера ухаживаний и разврата.
Однако в Англии его сумела обворожить актриса Королевского театра Летиция Кросс. Связь их была короткой. Хорошенькая, прелестная на сцене, она в любовных утехах не произвела впечатления на Петра. То ли чувства его были заняты другими диковинами, то ли он распознал в ней притворство, во всяком случае, связь их закончилась тем, что он поручил Меншикову заплатить актрисе от имени царя 500 гиней, что составляло 1200 рублей. Кросс выразила недовольство такой платой, сказала Меншикову, что русский царь скуп. Меншиков передал царю ее замечание. На это Петр сказал:
– За такую громадную плату мне год служат старики с усердием и умом, а эта худо служила.
– Какова работа, такова и плата, – согласился Меншиков.
По возвращении в Москву Петр сразу вспомнил про Анну Монс. Отложив дела, в первый же день поехал в Немецкую слободу.
За время разлуки Анна не сидела в ожидании своего царственного любовника, у нее завязался роман с саксонским посланником. Петру, разумеется, донесли. Он рассердился, приказал заключить Анну под домашний арест со строгим надзором, запретив даже посещать кирху. Подробности измены выяснились случайно – саксонец утонул, в карманах у него нашли любовные письма Анны Монс.
Неверность Петр воспринял болезненно. Шли месяцы, Петр скучал по своей немке, любовь не проходила. Сладкие воспоминания мучили его. Имей Анна больше такта и ума, она покаялась бы, попросила прощения, вместо этого, по совету приятельниц, она занялась ворожбой, заговорами, колдовством: «Чтобы не мог без меня ни жить, ни быть, ни есть, ни на утренней заре, ни на вечерней, как рыба без воды, как младенец без матери» и так далее.
В те времена за колдовство строго наказывали. Донесли. Доносили исправно. Немедленно началось следствие. Петр, однако, дело прекратил, но у неблагодарной отобрали имения и особняк. Меншиков уговаривал выслать ее из России – напрасно, Петр никак не соглашался.
Опала Анны Монс была на руку Меншикову, как всякий фаворит, он не терпел других фаворитов, кроме того, она осмелилась на него кричать. Когда он, выпив, полез к ней, изругала его при всех, да еще намекнула на его содомский грех. Меншиков обид не прощал. С тех пор как Анну посадили под арест, Меншиков, наблюдая за тоской царя, задался мыслью сосватать ему свою сестру, тоже Анну. План безумный, но наглость не раз выручала князя. Анна Даниловна отличалась злющим характером, к тому же была некрасива. Породниться с царем значило разом избавиться от упреков в безродности, обрести положение надежное, о большем и мечтать нечего. Старания его успеха не имели. Петр однажды, во хмелю, употребил Анну Меншикову, но на этом его интерес кончился. Однако произошло другое – государь заинтересовался горничной Меншикова, до того прачкой у Шереметева, а еще до того полковой прачкой, утехой русских солдат в Ливонии, а что было до них, толком неизвестно, ясно лишь, что женская биография ливонки была богатой.
Служанки были привычными партнершами государя. Среди множества его женщин, пожалуй, более всего служанок.
После первого свидания Петр дал будущей императрице Екатерине рубль, так что ничего обещающего не было. Куда заведет Петра внимание к пленной ливонке, Меншиков предполагать не мог, она нужна была, чтобы вытеснить Монс из сердца Петра.
Прошел год. Приятель покойного саксонца прусский посланник Кайзерлинг стал просить за Анну Монс – освободить ее от домашнего ареста. По наивности он обратился к Меншикову. Расспросив, Меншиков выяснил, что прусскому посланнику полюбилась красотка Монс и что-то у них уже завязалось.
Взвесив все обстоятельства, Меншиков затеял игру против Анны Монс, игру рискованную, но удача не могла изменить ему, он и мысли такой не допускал. Прусскому посланнику он дал понять, что к просьбе его царь может склониться, если на то будет важная причина, например желание Кайзерлинга вступить в брак с девицей Монс… После некоторого раздумья пруссак согласился. Однако Меншиков сказал, что государю нужно доказательство. Если будет письменная просьба от нее, что она-де желает выйти замуж за господина Кайзерлинга, тогда…
Психологический расчет Меншикова оказался точным.
Получив документ, Меншиков доложил царю о просьбе Кайзерлинга, добавив свое возмущение: как она могла предпочесть государю немолодого, хромоногого, малорослого посланника?
– Вранье, – сказал Петр, – я верно знаю, она меня любит, никто меня не разуверит.
Меншиков ссылался на то, что Кайзерлинг честный человек, врать не будет.
– Нет, нет, – настаивал Петр, – не может этого быть.
Тогда Меншиков извлек заготовленное прошение, написанное рукой Анны.
Петр читал, перечитывал бумагу, скомкал, швырнул в лицо Меншикову:
– Все равно не верю. Твои интриги. Только если она сама скажет мне.
Любовь к Анне Монс оказалась куда прочнее, чем думал Меншиков. Меншиков рассчитывал на оскорбленное самолюбие, на вспыльчивость, но манипулировать Петром не удавалось.

Судьба дала Монс еще один шанс вознестись, изменить течение своей жизни, взойти на престол, стать русской царицей…
Она слушала Петра безучастно, затем оборвала разговор, твердо повторила, что желает замуж за Кайзерлинга, ни за кого другого не пойдет.
Петр грязно выругался. На такую потаскуху никто не полезет, кроме этого недоумка. Кто она – пустышка, глупая немецкая трактирная девка. Он был разъярен – им пренебрегли! Она пренебрегла короной!
– Любить царя, – сказал он, – для этого надо царя иметь в голове. У тебя его сроду не было!
Он не мог успокоиться.
– Раз ты обо мне мало думала, незачем тебе иметь мой портрет!
И тут же отобрал портрет, украшенный алмазами, свой давний подарок, не подумал, что не царское это дело мелочиться, забирать свои подарки у женщины.
Но это еще ничего не означало. Любимая имеет право быть и дурой, и потаскухой – ей ничего не заказано, пока она возлюбленная, ее ничто не свергнет. Считать ее глупой значило не понимать, что у женщины все – сердце, даже голова.
Состоялся прием по случаю тезоименитства государя. Приглашен был дипломатический корпус. Меншиков подпоил Кайзерлинга, сам много выпил и стал вспоминать обиды, какие ему нанесла невеста посланника. Эта Монсиха, сучка, обирала государя, развратная баба, она Меншикову давала, Лефорту давала, лезет ко всем.