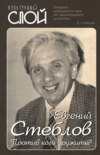Kitabı oku: «Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни», sayfa 6
Поделили все, кроме слышимости. И еще зачем-то в этой разделительной стене оставили дверь!
И, что поразительно, время от времени оттуда, из той квартиры, выходили в эту дверь люди, извинялись и через Витюшкину половину выходили на улицу. И наоборот!
Однажды у них отключили воду. Отключили, и все. Без объявления, без объяснений, просто отключили. И они стали жить без воды! Они звонили, звонили во всякие места, ничего не помогало. Воды не было! И надо было таскать ее из соседнего двора ведрами. Там тоже воды не было, но был пожарный кран.
Я приехал, день, другой, без воды, как-то неуютно!
Я взял телефонный справочник, поковырялся в нем, выписал что надо!
И пошел на улицу в телефон-автомат.
И позвонил в их ЖЭК.
Тогда это действовало безотказно!
– Добрый день! – сказал я вежливо. – С вами говорит корреспондент газеты «Ленинградская правда»! Мы бы хотели просить вас прислать кого-нибудь из вашего ЖЭК, по адресу Московский проспект… (и я дал Витин номер дома). Послезавтра по указанному адресу будет проводиться инспекция по жалобе жильцов этого и рядом стоящих домов по поводу отсутствия воды. Представители райкома партии, райисполкома и прокуратуры города уже подтвердили свое участие. Нужна только фамилия вашего представителя, чтобы внести в список для получения пропуска. Там режим, будут охраняемые лица!
Если вам что-то не понятно, вот телефон орготдела райкома! Всего хорошего!
И я продиктовал телефон орготдела, и редакции, и еще телефон приемной КГБ города, которые выписал из телефонного справочника.
Я знал, что никто никуда из простого ЖЭКа звонить не будет! А если даже и позвонят, то что, что они скажут?
И я угадал! «Совок» сработал безотказно!
Я позвонил в десять утра. К двенадцати дня весь двор и часть улицы были наглухо заставлены техникой.
Долбили и сверлили весь день и всю ночь! К утру следующего дня в их доме была вода! И в соседнем доме тоже!
И холодная, и горячая!
Вечером я честно позвонил в ЖЭК и сказал:
– Это опять из «Ленинградской правды»! Совещание по адресу… отменяется! Ложный вызов! Приняты соответствующие меры, виновные буду наказаны!
Мы в то время писали просто запоем! Замечательные были рассказы. И повести были замечательные! И сценарии!
И все опять было замечательно!
Я по тем временам чаще жил в Питере, чем в Москве, и «Красная стрела» стала для меня просто родным домом!
Потом Витюшка перебрался на набрежную Красного флота в отдельную квартиру с женой и тещей, Людиной мамой. И даже чудную завели собаку! Катюшка к тому времени вышла замуж, и они жили втроем в довольно большой квартире, где откуда-то была потрясающая печь со старыми изразцами!
И все вообще стало прекрасно!
Я даже стал жить у них в отдельной комнате!
Именно в этой квартире Витя придумал праздник «Очень-89», из которого через год родился всесоюзный фестиваль сатиры и юмора «Золотой Остап»!
О, это был не просто фестиваль! Это был праздник города! Неделю в Питере шли выступления всех, кто работал в жанре сатиры и юмора на эстраде, и во всех кинотеатрах шли фильмы комедийного жанра!
Это начиналось с проезда старинных автомобилей по Невскому проспекту. В ландо сидели участники фестиваля, все одетые под Остапа Бендера, в фуражках и с белыми шарфами через плечо! Колонна шла вереницей через весь город до исторического места, где мэтры жанра стреляли в двенадцать часов из пушки, и обратно к Октябрьскому дворцу, где было открытие!
Это было феерическое событие!
Там были все, кого только можно вспомнить! Все! Жванецкий, Карцев и Ильченко, Хазанов, Винокур, Шифрин, Тришкин, Коклюшкин, Смолин, Клара Новикова, Женя Петросян, Эльдар Рязанов, Юра Мамин, Масленников, Данелия… Все! Со всего Союза!
Председателем жюри фестиваля был Александр Анатольевич Ширвиндт.
Город гулял неделю!
Там на фестивале я подружился с Вадюшей Жуком, поразительной эрудиции человеком и потрясающим импровизатором. Он гулял меня белыми ленинградскими ночами и, не останавливаясь, читал до самого утра по памяти стихи. Разные. Но не просто читал, а комментировал, углубляясь в философию, историю, аналогии и иносказания! Вадим Семенович Жук, милый моему сердцу товарищ и замечательный поэт!
Однажды после закрытия, уже в «Красной стреле», я поймал себя на мысли, что попал в иное измерение!
То есть такого быть не могло!
Могло присниться! Но быть на самом деле не могло!
В купе рядом сидели: Шура Ширвиндт, Горин, Арканов, Рязанов, Данелия, Карцев, Басилашвили, Мягков, Никулин, Хазанов, Сеня Альтов, еще кто-то из великих. Мы с Витечкой толклись в дверях вместе с «остальными» и перманентно бегали за водкой к проводникам!
Естественно, никто не спал до утра ни в этом вагоне, ни, думаю, в соседних!
Хохот стоял до утра!
Так мы замечательно жили и сочиняли много лет! Витя, Вова и я!
К тому времени я уже женился опять, и у меня родилась дочь!
С ее рождением связано прямо-таки мистическое воспоминание.
Жена было уже в роддоме, и мы ждали, когда же, наконец!
Я был дома один.
Среди ночи я проснулся от яркого слепящего света. Щурясь от рези в глазах, увидал стоящую в ногах кровати женщину. Была она лет сорока, дородна. Одета во что-то голубое, с широкополой шляпой на голове. Чем-то отдаленно напоминающая даму из «All That Jazz» Боба Фоса.
Я обалдел! Я никак не мог понять: что? Кто? Какого черта? Как она вообще сюда попала? Я что, не закрыл дверь? И почему свет? Как я вообще заснул с таким светом?
Она стояла, молчала и как-то даже не улыбалась, а чуть кривила губы. И только глаза говорили о том, что она вот-вот рассмеется.
Я сел на постели и уж было хотел сказать: «Здрасте, вы к кому?», как она подняла руку, ласково погрозила мне пальцем и произнесла:
– Родится девочка – назовешь Варвара!
И исчезла.
Я вскочил, заметался в темноте туда-сюда, долбанулся лбом о шкаф, бросился к входной двери, потрогал запертую задвижку замка, сел и, ничего не соображая, просидел бы так, наверное, до утра, если бы не телефонный звонок.
Я схватил трубку и услышал тещин голос:
– Поздравляю, у вас родилась доченька!
Я не знаю, как все это объяснить. Возможно, это был сон.
Может быть, галлюцинация. Не знаю. Но это было настолько явно, настолько реально, что никак не могу отделаться от мысли, что это было на самом деле! Наивно, конечно, знаю, но поделать с собой не могу ничего!
Тем более что Варвара Леонидовна, которой уже двадцать два, такая Варвара, такая Варвара, что дай бог каждому!
Моя семья, мое счастье, моя основа, мой берег!
Витечка Биллевич умер от страшной болезни!
Вова Николенко ушел через год после него от того же!
Так что семья моя – все, что есть у меня в жизни.
Со мной в жизни еще было много всякого, о чем я не хочу особенно распространяться, не почему-нибудь, просто это личное.
Да и, кроме того, об остальном рассказывать уже и неинтересно, об этом все все знают из интернета!
После того как я стал ведущим «Поля чудес», я стал жить как под микроскопом!
Ощущение, что обо мне все знают все лучше, чем я сам!
И о программе, которую я веду уже тридцать лет, и о полетах, и о моих поездках в горячие точки, о моей семье – обо всем!
О первом Конкурсе красоты, где мы с Биллевичем были авторами, а я еще и ведущим!
Из многого из того, что обо мне написано, я узнал много интересного о собственной жизни, о чем даже не догадывался!
О том, например, что я давно умер, и даже теперь знаю несколько мест, где похоронен!
О том, что мне сделана полостная операция в Германии. Об этом я узнал, находясь на гастролях с театром в Сибири!
О том, сколько я получаю на работе! Господи, если бы это было правдой!
О том, что у меня полтора десятка домов, два собственных самолета и сорокаметровая яхта! Дома – черт с ними, но вот самолеты! Писали, что у меня что-то вроде ЯК-18Т и АН-2! И все!
Это обидно до слез! Почему не ИЛ-62 или «Боинг Джамбо»? Почему?
О программе за тридцать лет сообщали такое, что меня просто зависть брала, отчего люди могут такое придумать, а я нет! Писали, что под барабаном «Поля чудес» сидит специальный человек и по моему тайному знаку ногой останавливает его в нужном месте! Это, кстати, я подтвердил! Я объявил, что это все правда, да, сидит внутри! Потому что это динамо-машина, потому что шток от барабана проходит со второго этажа на первый, и, пока барабан крутится, на первом этаже горит свет!
Писали, что статистов в студии на съемках держат в черном теле, не кормят, платят через раз и какие-то просто копейки! Хотя ни разу за тридцать лет в студии, кроме зрителей, никаких статистов не было! И билеты пригласительные, бесплатные, а не по полторы тысячи, как писали!
О том, что у меня есть двойник и я хожу только на спецпрограммы!
Писали о моей квартире, даже с фотографиями. Хотя это вовсе не моя квартира, а квартира, в которой живет моя дочь!
Однажды дал интервью мой охранник, который «проработал» со мной двадцать лет! Хотя у меня в жизни никогда никакого охранника не было, зачем? Он радостно сообщил, что мы с Ярмольником… Ну, вы понимаете? Не скрою, мы Леней отметили этот неожиданный для нас факт в ресторане, пригласив по случаю и наших жен!
Иной раз писали обо мне такое, что складывалось ощущение, что люди, которые это пишут, живут не просто рядом со мной, но внутри меня, ежедневно проскальзывая внутрь и, проходя от «входа» до «выхода», описывают, что видели!
Так что рассказывать дальше о моей жизни после моего появления в телекомпании «ВИД» на Первом канале, полагаю, не имеет смысла!
Вы и так все знаете!
Ку-ку
Адрес был замечательный. Проспект «Му-му», дом «Ку-ку». В переводе это означало – Коровинское шоссе, дом, где «Культтовары».
Маруська Спивак с молодой женой жил там, на втором этаже девятиэтажки, прямо над этим самым магазином в маленькой однокомнатной квартире. Почему «Маруська», понятия не имею. Вообще его звали Марк, но для всех он был Маруська. Официально их в квартире числилось двое, но на самом деле там было гораздо больше народа.
Во-первых, там еще был я. Мы с Марусей были соавторами и с утра до вечера сочиняли разные эстрадные миниатюры. Ночью иногда, впрочем, тоже. Тогда я спал в кухне на старенькой раскладушке, между кухонным столиком и плитой, носом прямо в духовку. Дверца духовки была закреплена еле-еле, и чтобы она держалась, в щелочку вставлялась сложенная вчетверо бумажка. При любом неосторожном движении бумажка выскальзывала, и дверца с грохотом падала на меня. Я вскакивал, отталкивал ее обратно, она ударялась об плиту и тут же отскакивала обратно. В полной темноте мы бились друг с другом, пока раскладушка подо мной не складывалась и я не ляпался на пол, а сверху на меня ляпалась эта проклятая крышка. Тут же, естественно, на кухню влетали полуголые молодожены и начинали заливаться идиотским смехом. Ни о каком сне дальше не могло быть и речи, мы зажигали свет и садились пить чай. Потом Ленка шла спать, а мы с Маруськой трепались до утра и сочиняли всякую чепуховину.
Ленка была из той поразительной категории женщин, для которых жизнь – это праздник. Ей все удавалось легко и весело. И даже разные там мелкие неприятности она воспринимала как анекдот и хохотала над ними прямо до слез. Смеялась она вообще чудесно. Заразительно и звонко, как умеют смеяться только дети. Она была маленького роста, никогда не ходила, а бегала, переваливаясь, как утка, быстро-быстро переставляя ноги, и была ужасно симпатична. Ее любили все, но ей было на это наплевать. Она обожала Маруську. Маруська был для нее единственный «свет в окне», и больше ей в жизни никого не надо было.
Ленка работала аккомпаниатором в театре Станиславского, и пол-театра, естественно, приезжали к ним в гости. Кроме того, у Ленки были три близкие подруги – Нонна, Манана и Машка. Они встречались чуть не каждый день и по вечерам пили на кухне кофе, курили и хохотали как умалишенные, мешая нам с Маруськой работать.
Ленка обожала Маруську, а у меня был роман с Мананой. У нас был потрясающий бурный роман. Прямо-таки книжный роман, со всеми классическими страстями, с цветами и ссорами. Я ее очень любил. Она была потрясающая девчонка, и черт его знает, почему мы расстались.
Но по тем временам она иногда спала со мной в кухне на раскладушке.
Когда родился Аркашка, ничего не изменилось. Просто стало на одного человека больше, и все.
Кроме того, время от времени, то есть пять раз в день, к ним приходила Маруськина мама Ева Львовна. Они с Маруськиным папой жили в десяти минутах хода, на Бескудниковском бульваре, и она успевала по дороге еще заходить в магазин.
Если бы Бабель увидел ее хотя бы раз, его Фроим Грач отступил бы на второй план и все «Одесские рассказы» были бы посвящены только ей.
Это была каноническая еврейская мама. Она была воплощением всех еврейских мам на свете. Все ее мировоззрение сводилось к одному постулату. Муж был Богом, дом был раем! Все остальное, включая детей и внуков, входило в понятие «дом» и было свято и неприкосновенно. Но Бог в доме был один – муж. Сыновей было трое – старший Леня, средний Юра и младший, разумеется, самый любимый, Марик. Внуков было столько же. Никто из сыновей, включая всех трех их жен, никогда не называли ее Евой Львовной, даже за глаза. Для всех она была Евочкой. Для внуков тоже. Не «мамой», не «бабушкой», Евочкой, и все. Маруськин папа Борис Владимирович тоже никогда не был ни просто папой, ни Борис Владимировичем. Для всех он был «папа Боря». Папа Боря был крупным театральным администратором и в два счета мог обеспечить полные залы любого театра в любой точке Советского Союза.
Для Евочки мир вращался вокруг ее Бори неправильно и неуклюже. И она по мере сил старалась это исправить. Она буквально сдувала с него пылинки. Она вставала в пять утра, переглаживала его брюки, потому что они помялись за ночь. Она начищала до блеска его ботинки и перешивала пуговицы на пиджаке, чтобы они, не дай бог, случайно не оторвались. Потом она раскладывала на столике в коридоре все, что Боре нужно было взять с собой. Часы, расческу, носовой платок, записную книжку, портмоне с деньгами, отдельно кошелечек с мелочью. Все это рассовывалось по карманам его пиджака, а отдельно в нагрудный карманчик засовывалась бумажка с указанием, что где лежит и что ему нужно сделать сегодня. Потом она начинала готовить ему завтрак. Она готовила завтрак так, как будто к ним в семь утра должна была прийти в гости вся дивизия имени Дзержинского в полном составе.
К восьми утра она успевала накрыть на стол, на стулья, на подоконник, на холодильник и на табуретку в прихожей. Потому что все, что она успевала пожарить, потушить, сварить и нарезать, на одном столе не умещалось.
Потом она шла будить папу Борю. Она включала будильник, телевизор и радио на полную громкость и начинала трясти мужа за плечо.
– Боря! Боря, вставай, ты опоздаешь, уже десять! Ты слышишь, что я сказала, уже десять, Боря!
– Сколько?!
– Десять!
– Как десять?!
– Так. Десять минут девятого. Иди уже завтракать.
Потом она шла и включала горячую воду, предварительно заткнув дырку в ванне, чтобы она наполнилась, когда он встанет. Папа Боря никогда не принимал ванну утром. Он не любил принимать ванну. Он любил душ. Но Евочка каждое утро наполняла полную ванну, на всякий случай, а вдруг ему когда-нибудь захочется!
Потом он брился. А она стояла под дверью и ждала.
– Боря! Ты почистил зубы?
– …
– Боря! Чистое полотенце справа, ты меня слышишь?
– …
– Не забудь попшикаться после бритья! Что ты молчишь? У тебя все в порядке?
– …
– Почему так долго, уже все остывает! Ты подстриг ногти?
Наконец, он выходил.
– Что случилось, Евочка, что ты кричишь?
– Ты будешь завтракать?
– Нет.
– Ну так садись, все готово!
Потом он садился за стол, и она заставляла его съесть две котлеты с картошкой, стакан простокваши и два стакана сладкого чая с ее фирменным «Наполеоном». Потом он уходил на работу. Она провожала его до дверей со свертком в руках, чтобы он мог перекусить по дороге, и тут же начинала жаловаться кому-нибудь по телефону, что у Бори плохой аппетит и его нужно отправить в Кисловодск.
Здоровенный холодильник «ЗИЛ» должен был быть забитым до отказа, что бы ни случилось. Если, не дай бог, она открывала дверцу и на нее немедленно что-нибудь не вываливалось, то раздавался такой крик, что содрогался весь дом.
– Мара! Ма-ара!! – кричала она в телефонную трубку.
– Что?! – Марик холодел, отчетливо понимая, что случилось что-то страшное.
– Мара, иди быстро в магазин, папе нечего кушать!
И он бежал к ней, и она совала ему в руки деньги и толстую тетрадь в коленкоровом переплете, которая вся была исписана мелким почерком. Там на тридцати страницах было написано, что нужно купить из продуктов немедленно.
Все три ее снохи жили по стойке смирно, потому что она регулярно проверяла, чтобы у них в доме был такой же порядок, как у нее. Она приезжала к детям в гости с такими авоськами, что если бы она хоть раз появилась с ними где-нибудь на соревнованиях, тяжелая атлетика как спорт прекратила бы свое существование.
Она держала всю семью в ежовых рукавицах, и они ее обожали.
Сейчас ей девяносто пять, она по-прежнему сама ходит по магазинам, сама готовит и три раза в неделю навещает детей, чтобы проверить, как там дела.
Когда Маруська еще не был женат на Ленке, он жил с родителями.
Формально у Евочки было три сына. На самом деле их было четверо. Четвертым сыном в их семье всегда считался Генашка. Они с Маруськой были самыми близкими друзьями еще со школы и практически не расставались никогда. Генашка тогда еще не был народным артистом и художественным руководителем Театра эстрады Геннадием Викторовичем Хазановым, а был просто Генашкой, и все мы учились в МИСИ имени Куйбышева, только на разных факультетах.
Дружили мы замечательно. Легко и весело. Мы были холостыми. И вокруг всегда была одна весна.
Но самая настоящая жизнь начиналась в конце апреля, когда папа Боря уезжал на все лето до сентября «заделывать» гастроли. Квартира оставалась в нашем полном распоряжении.
Мы ждали этого целый год, мы целый год сучили ногами от нетерпения, и наконец этот день наступал.
Как Евочка собирала мужа в дорогу, я не знаю. Но перед самым отъездом она созывала нас троих, для того чтобы объяснить, что и как нужно делать, когда их не будет дома.
Войти в квартиру было практически невозможно. В коридоре перед дверью стояло столько чемоданов и свертков, что каждый раз нам казалось, что они уезжают не на четыре месяца, а на ПМЖ в Антарктиду.
Мы садились на диван в большой комнате, Евочка садилась за стол и выкладывала с десяток этих самых тетрадок в коленкоровом переплете, где было расписано все по минутам и миллиметрам. Обращалась она в основном к нам с Генашкой, поскольку Марик был «босяк» и «никогда не слушал, что ему говорит мама!».
Сам инструктаж напоминал последние наставления Кутузова своим бестолковым генералам перед Бородинским сражением, которые даже не знали, где это Бородино и с кем надо сражаться.
Подробнейшим образом Евочка объясняла нам, как добраться до прачечной и магазина. Мы были там сто раз, но это не имело значения. Потом – где находится парикмахерская, куда надо ходить два раза в месяц, потому что Мара ужасно обрастает, до неприличия. А также – где милиция, поликлиника, аптека и остановка автобуса. Потом начиналась экскурсия по квартире с мельчайшими пояснениями, где что лежит. Она ходила из комнаты в комнату, а мы ходили за ней, как бараны на веревочке. Ходить нужно было аккуратно, потому что везде стояли трехлитровые банки и коробки. Банки стояли на столе, под столом, под диваном, под кроватью, на подоконниках и на балконе. Их было примерно сто. Или двести. В банках были варенье, компоты, соленые огурцы, томатная паста, подсолнечное масло с рынка, сгущенное молоко и вообще все, что она смогла «закрутить». В коробках были консервы и сухая колбаса. Еще там были крупы и сахар. Отдельно в белом мешочке, сшитом из пододеяльника, лежали сухарики. «Черные» в основном, потому что они нам нравятся, и «белые» на всякий случай. Всего этого спокойно могло хватить для автономного существования всех студентов не только МИСИ, но и МГУ, и Высшей школы милиции года на три. Нам это оставлялось на лето, потому что мы лодыри и будем наверняка питаться всухомятку и испортим себе желудки, а она этого не переживет. Кстати, насчет желудка. Ту т доставалась аптечка, и нам объяснялось, что от чего принимать, если что. Аптечку каждый год специально, по просьбе Евочки, собирал какой-то ее знакомый заведующий райздравотделом, и, судя по ее размерам, легко было догадаться, что больше в этом районе никого лечить не будут. Просто нечем!
Все это продолжалось часа полтора. Наконец, приезжал папа Боря на двух такси. В одно они с вещами не помещались никогда. Еще час шла погрузка. Перед самым отъездом Маруське выдавались сто рублей на проживание, с последним строгим предупреждением не тратить по пустякам. Потому что больше он не получит ни гроша, как ни проси. И если деньги кончатся, пусть живет как хочет или идет и зарабатывает сам где хочет. И все, мама умывает руки. Но, в крайнем случае, пусть немедленно позвонит Ирине Петровне, та даст, сколько нужно. Затем вручалась бумажка с телефонами милиции, скорой помощи, пожарной охраны и «Мосгаза». Напротив «01», «02», «03» и «04» было написано, куда звонить от ее имени, если что, и кого нужно попросить к телефону.
Потом машины отъезжали. Но не сразу. Раза два Евочка вылезала из машины и возвращалась домой, что бы узнать хорошо ли мы все запомнили.
Наконец, такси трогались с места. Мы стояли у кухонного окна и махали руками, как исключительно послушные дети, жутко боясь, что они передумают уезжать.
Потом машины скрывались за поворотом.
Мы на всякий случай ждали еще полчаса.
И потом наступала настоящая жизнь.
Сначала мы расселялись. Маруська занимал, по традиции, большую комнату с телевизором, я – маленькую, а Генашка поселялся в стенном шкафу. Это была такая кладовка, куда на пол стелился матрас от Маруськиной кровати и ставилась на пол же настольная лампочка с длинным шнуром, который дотягивался до розетки в коридоре. Еще ему полагался приемник «Спидола».
Правила экстерриториальности соблюдались неукоснительно. Никто не мог войти ни к кому без стука, даже ночью, включая Генашкину кладовку. Но и он сам не мог, к примеру, выйти ко мне в комнату из нее, не постучав в дверцу. Он стучал, я орал: «Войдите!», он выбирался из своего шкафа и шел в туалет.
После расселения мы сходились на кухне, откупоривали бутылку славного портвейна «777», выпивали по стакану и давали страшную клятву никому не говорить, что квартира свободна.
С этого дня дверь больше не запиралась вообще. Запирать ее было бессмысленно, звонок дребезжал постоянно, и надо было бы, в противном случае, все время вскакивать и бежать отпирать. В унисон с дверным звонком так же непрерывно звонил телефон. В квартире постоянно было человек десять. Кто-то все время приходил и уходил. Кто-то пил, кто-то ел, кто-то тренькал на гитаре, кто-то заводил магнитофон «Яуза» и крутил песни Галича и Высоцкого. Девушки были просто постоянной частью сменяемого интерьера. Запомнить их всех было абсолютно невозможно, мы все время путали их имена, но никто не обижался. Было шумно и весело. Самое интересное, что мы никому не мешали. Иногда приходили соседи, приносили кто что. Кто жареную картошку, кто арбуз, кто еще что-нибудь вкусненькое.
Под утро, когда уходили последние, мы садились играть в «Кинга». В «Кинга», потому что Генашка больше ни во что играть не умел, а нам было наплевать. И хотя играли, естественно, просто так, он беспрерывно орал, что мы его нарочно обыгрываем, что играет он лучше нас, нам просто везет, и все!
Потом он швырял карты, заявлял, что «Геночке надоело все время быть в заднице!», и запирался в своем шкафу с криком, что больше он с нами не играет.
Назавтра все повторялось сначала.
Несмотря на разудалое наше времяпрепровождение, учились мы довольно сносно, как-то даже относительно легко проскакивая зачеты и экзамены. Единственным серьезным «затыком» на первом курсе была начертательная геометрия. Почти все в институте сдавали ее как минимум со второго раза. Говорят, были какие-то отличницы, которые сдавали начерталку с первого раза, но, поскольку их никто не видел, думаю, что это слухи.
Дело не в том, что это был уж какой-то сверхсложный предмет, нет. Дело в том, что начертательную геометрию у нас преподавала баба Зина. Не знаю, как ее звали на самом деле и было ли у нее вообще отчество, все звали ее баба Зина, и все. Когда мы поступили в институт, ей было, наверное, лет восемьдесят или девяносто. Когда мы окончили, ей было столько же. Во всяком случае, внешне она не изменилась абсолютно. Уверен, что если я сейчас, через сорок пять лет, снова зайду в институт, ей будет тоже девяносто. Она застряла во времени и в нашем институте навсегда. Это была маленькая сухонькая седая старушка, которая передвигалась совершенно бесшумно, как будто скользила по воздуху. Если мимо нее кто-нибудь пробегал, она начинала колыхаться, и иногда ее разворачивало в другую сторону. Куда она и шла как ни в чем не бывало. Она появлялась рядом как-то неожиданно и вдруг прямо из пустоты, как ведьмочка из тумана. Баба Зина при жизни уже жила в другом измерении, в котором, кроме законов начертательной геометрии, других законов не существовало вовсе. Я думаю, что она преподавала начертательную геометрию еще древним грекам. И ей тогда еще было девяносто. Она никогда не повышала голоса. Никогда ни на кого не сердилась и никогда не меняла своих решений.
Вот она брала в руки твою эпюру. Такой стандартный лист ватмана А2, на котором ты уже в десятый раз разноцветной тушью вычерчивал следы некой линии на плоскости. Лист обязательно должен был быть обрамлен разметкой. Линии разметки ни в коем случае не должны были отступать от края листа больше чем на пять миллиметров. В правом в нижнем углу должен был быть вычерчен штамп с указанием твоих фамилии, имени и отчества, факультета и номера группы. Штамп тоже должен был быть стандартным, миллиметр в миллиметр. Все это, кроме самого чертежа, баба Зина измеряла самолично и тщательно. И так все десять раз. Десять раз она перечеркивала твои политые слезами и по́том «кривые» и отправляла на переделку. На одиннадцатый раз, после того как она час разглядывала твой чертеж через лупу, после того как тебя уже раз тридцать бросало то в жар, то в холод при каждом ее вздохе, наконец раздавалось долгожданное:
– Ну, что же, Якубович, хорошо… Только вот в этом месте, где ваша фамилия, буква «Я» пишется не так…
И она брала красный карандаш и, прорывая насквозь ватман, исправляла букву «Я» в штампе.
– Это не имеет значения, но надо, чтобы было как надо. Все хорошо, но это надо исправить. Хотела поставить вам четверку, но не могу… Следующий!
И это был только зачет. А еще был экзамен.
Почему ее не убили, не знаю. Думаю, это было бессмысленно. Ничего бы не вышло. Баба Зина была бессмертна. Самое удивительное, что она умудрилась не только вбить нам в башку эту науку, но даже в некотором смысле заставила полюбить свой предмет.
Поскольку жила она вне времени и вне пространства, сдавать и пересдавать можно было когда угодно. Хоть днем, хоть ночью, хоть двадцать раз, лишь бы давали направления в деканате.
Лично я сдал начерталку тридцать первого декабря. Тридцать первого декабря мы вошли в аудиторию на первом этаже здания МИСИ на Шлюзовой набережной. Мы – это я и еще трое таких же «галерников». Мы пришли пересдавать начерталку. Баба Зина сидела перед ними за столом и глядела в вечное. Мы сидели напротив нее и маялись над билетами, проклиная бабу Зину, начертательную геометрию и все высшее образование вообще.
Баба Зина не знала, что такое Новый год и чем он отличается от старого. Ей было все равно. Она исчисляла время веками. Она могла так сидеть до следующего тысячелетия.
Я вошел в аудиторию в одиннадцать утра. Я вышел оттуда в семь вечера, мало соображая, какой сейчас год. В девять с копейками я был дома. В десять мы сели за стол. Без трех минут двенадцать я встал, снял с елки ватного зайчика и на его место повесил свою зачетку с автографом бабы Зины. А потом взял бокал и выпил за здоровье тех, кому предстояло встретиться с ней в новом году.
Генашка сдал начерталку со второго раза. Он бы не сдал ее вообще никогда. Он и начертательная геометрия находились на расстоянии миллионов световых лет друг от друга и никогда бы не встретились, если бы не баба Зина. Но ему повезло. Она ушла за чаем. И он успел достать шпаргалку и списать половину. Она пришла со стаканом на блюдечке. Поставила его на стол, сверху на стакан положила бумажку, а на бумажку конфетку.
– Хазанов, вы готовы?
– Можно, я еще?..
– Хорошо…
И она ушла за вторым стаканом. И он успел списать вторую половину и чего-то там начертить даже. То есть у него было все.
Она пришла и принесла второй стакан. Положила на второй стакан вторую бумажку, а на нее вторую конфетку.
– Хазанов, вы готовы?
– Еще чуть-чуть…
– Хорошо…
И она опять ушла. А он стал пытаться разобрать то, что он списал. Он жутко нервничал, понимая, что никогда в жизни не сможет повторить написанное своими словами. И от волнения, чисто рефлекторно, взял с бумажки ее конфетку и съел. А потом вторую. Вероятно, он впал в коматозное состояние, потому что мало того что сожрал ее конфетки, но при этом фантики не выбросил под стол, а аккуратно свернул и положил их обратно на бумажки.
Тут она и пришла.
Вероятно, что-то случилось. Может быть, ее куда-то вызвали или еще что, но она даже не присела.
– Ну, вы готовы?
– Да… вот…
– Давайте.
Она взяла его каракули, бегло просмотрела, сказала «хорошо», подвинула к себе его «зачетку» и уже собралась расписаться, как вдруг увидела эти самые скомканные фантики. Мир рухнул.
– Хазанов! – вскричала она, белея лицом. – Вы съели мои конфетки!
– Это не я…
– Во-он!
И он ушел. Его бы выгнали из института, потому что он бы не сдал ей экзамен никогда до старости. Мы с Маруськой очень хорошо представляли себе эту картину, когда совершенно седого Генашку на каталке с зачеткой и капельницей ввозят к ней в аудиторию. И она его опять выставляет вон, хотя ему не только уже нечем жевать ее конфетки, но нет уже сил даже развернуть фантики.
Его бы выгнали из института, это точно. Но она заболела, и он попал к другому преподавателю. Этот другой относился к Генашке не то чтобы с любовью, но с нежностью, что ли. Звали его Виктор Михайлович Полунин. В некотором смысле он чувствовал себя в долгу перед Генашкой. Дело в том, что этот самый Виктор Михайлович, по природе своей человек милый и добрый, имел одно увлечение. Он втайне писал басни. То есть он так думал, что пишет басни. И они ему самому, естественно, очень нравились. Больше никому они понравиться не могли в принципе. Это были такие не очень хорошо зарифмованные отрывки из «Морального кодекса строителя коммунизма», но про зайчиков и лисичек. И об этом никогда бы никто не узнал, кроме его несчастной семьи, если бы не Генка.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.