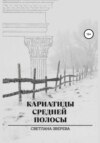Kitabı oku: «Кариатиды средней полосы»
Глава I
Погладь похоронное
Приехала в наше Купалово ранней осенью. Уже прошли августовские ураганы. А они так нравились мне в детстве. Стихия завораживала. Я любила стоять посередине улицы и смотреть, как гнутся гигантские ветви ив и берез. Деревья в истерике трясли ими, кричали, прося о помощи. Было очень страшно, но уйти не хотелось. Сердце билось, готово было выскочить из груди. Стоя тут, среди бури, слушая вой, я чувствовала напряжение мира, понимала его тонкость. Вот-вот и порвется. Но не рвался. Я ощущала, что нахожусь в самом центре волшебства. И уйдешь оттуда – пропустишь самое незабываемое.
Наутро мы бегали к соседям смотреть на вывороченную с корнем огромную березу. На месте мощного ствола – вывернутая земля выше папы. Как будто божественный пахарь поработал здесь. Мужики собрались, закурили, завели разговор. «Вот здесь отпилить, слышь?» «Хорошо, крышу не задело». «Ты сюда веревку вяжи. Пила-то тупая. Что ж так…»
Природа подкидывала работёнку. И теперь человек решал, как с ней справиться. Было в этом что-то героическое. Задача по спасению. Дома, двора, сада, человека. Мужики стояли важные, гордые. Смотреть на них было одно удовольствие. Только вчера я боялась, стихия грозила смертью, дышала разгневанной силой. А теперь спокойно и безопасно от этих переминающихся курящих людей.
Я приехала в деревню в сентябре. Тогда я была молодая счастливая жена, беременна на ранних сроках. Первым делом по приезде мы заходили в дом к Медведевым, близким людям, но не таким уж близким родственникам – Славка маме троюродный брат. Баба Дуня, его мать, одна из немногих, кто зимует здесь. Все дачники уже разъехались, дети учатся. Деревня осенью и зимой вымирает. Только в четырех домах из пятнадцати горят окна и топятся печи. Но колхоз дорогу расчищает. Стариков – ветеранов и тыловиков – нельзя оставлять отрезанных от помощи.
Суббота. Утро. Петухи поют. Вхожу на высокое крыльцо, стучу. Отворяет баба Дуня. Целуемся. «Привет, привет». Прохожу сквозь терраску. Сушатся на столе яблоки, запах кисловато-сладкий. Входим на кухню. Справа русская печь, уже топили, прохладно на улице ночью. В избе тепло, пахнет нагретой на печке тужуркой, гречневой кашей и топлёным молоком.
Вхожу в переднюю комнату. Ничего нового. Комната на четыре окна, светлая. Занавески на окнах: наверху белые кружева, внизу тюлевые и зеленые ночные на веревочке, примотанной на маленькие гвоздики по бокам. Моё любимое зеркало встречает меня кривым отражением.
«Помоги погладить», – просит баба Дуня. Показывает на стол. На столе разложено одеялко и простыня, стоит утюг, лежат несколько тёмных старушечьих вещей: платки, халат, ночнушка. Хорошо, что ж нет-то. Приступаю к глажке.
В избе кроме бабы Дуни живет её мать Мария Медведева и муж, ветеран войны, дошедший до Берлина, дед Вася. Он вечно пьяный или спит. Никогда не понимала, что он говорит, как будто у него каша во рту. Глотает слова и не договаривает предложения, речь бессвязная. Обычно киваю и поддакиваю. Спрашивала у тети Даши, был ли он такой всегда. Она смеялась и подтверждала, что был.
Дунина мать, баба Маша – родная младшая сестра моей прабабки Ольги, умершей лет за двадцать до моего рождения. Бабе Маше уже за 90. С тяжелым характером женщина, перенесшая и революции, и войны. В прошлом спорая хозяйка, талантливая стряпуха, пироги которой славились не только в Купалове, теперь сухая и дряхлая. Застать последние 6 лет её можно в одной и той же позе: сидит на диване прямо под моим любимым зеркалом, правым бочком прислонившись к горке подушек. Ноги в сапоге-грелке. Она всегда мерзнет. Одета в теплую коричневую кофту, халат и два платка.
Последние годы она не видела, не понимала, что вокруг происходит. Забывала потихоньку своих близких. Жизнь уходила из неё медленно. Она почти всегда молча дремала, но слышно было иногда, как она кричит на дочь повелительно: «Дуньк, Дунька! Где ты? Что ж не кормишь меня!» Баба Дуня привычно оправдывалась перед грозной матерью, говорила, что та только недавно ела, но забыла. «Ножку дай!» – кричала старуха, прося лекарство «Нош-па». Дочь бежала, расталкивала в ложке желтую таблетку, наводила сладкого не горячего чая, поила мать. Всю жизнь тренированная подчиняться бабе Маше, перечить ей не могла даже немощной. А старуха уже не помнила, что эта самая Дуня – дочь её старшая. Не помнила она ни горя, ни радости.
Я стояла и водила утюгом по новому темно-синему тёплому халату. Слева от меня – в другом углу комнаты, под зеркалом – бабушка Маша с закрытыми глазами сидела в привычном положении. Надо мной висели старинные иконы, купленные еще прадедом моей бабушки Иваном. Они потемнели, оклады на них помутнели и вытерлись. Сегодня я заметила, что лампада под ними была зажжена.
Баба Дуня подошла и сказала, что этот синий халат был сшит моей бабушкой, её двоюродной сестрой, Инной. «Да, – ответила я, – сразу видно её шов – качественно».
Потом сели пить чай вдвоём. Чаёвничали обычно вприкуску с конфетами или кусочком сахара из маленьких разносортных чашек с блюдцами.
Помню, как еще моложавая баба Маша любила пить из блюдца. Нальет из чашки в блюдце чай и скребет дном чашки по краю блюдца, собирая капли. Она знала, что я не люблю этого звука, от него как будто зубы сводит. Но делала это специально, подтрунивала надо мной. И просить перестать было бесполезно – только хитро посмотрит и тему переведет.
Мы пили чай и смотрели на улицу в окно кухни. Замолчали обе. Задумались. У меня светло внутри, я все последнее время к себе прислушивалась. «Бабушка-то ночью умерла», – сказала баба Дуня.
Глава II
Иван
Старики говорили, что деревянная церковь в Ивановском простояла больше двухсот лет. А каменную построили в 30-х годах 19 века. Церковь строилась на народные деньги: на строительство скинулись 7 деревень. Старая обветшала, смотрелась ужасно: черная от дождей, прогнившие нижние бревна, кое-где залатанные. Того и гляди прибила бы кого-нибудь на крестинах или поминках. Купаловские мужики гордились, что собрали деньги. Не барская церковь, их, народная.
Той весной маленький Ваня Медведев с другими мальчишками помогал мужикам таскать кирпичи. Каждая баба, кроме древних старух, которые и ходить-то уже не могли, перенесла по несколько кирпичей в подоле нового фартука. Батюшка торжественно в праздничной ризе отслужил молебен. Прошли крестным ходом вокруг. Лица людей освещала особенная светлая радость. Эта весна сулила новую жизнь, достаток. Каменная церковь вселяла надежду на хорошую сытую жизнь без войн и горя, без голода и потерь. Хоть строительство шло и не быстро, но в несколько лет церковь поставили.
Церковь освятили, как и прежнюю, во имя Иоанна Крестителя, имя которого тесно сплелось с Иваном Купалой. В народных головах древние языческие легенды соединились с православным верованием крепко, не отделишь одно от другого. Илья Пророк в рассказах старух ездил по небу на золотой колеснице, молнии и раскаты грома были его рук делом. А Николай Угодник защищал скотину и хозяйство семьи. К святым обращались за помощью и удачей, как и к древним богам.
Престольный праздник в Купалове и в Ивановском праздновали в июне – в день Ивана Купалы. Традиция широко отмечать и созывать гостей в этот день сохранилась до конца 20 века, постепенно угасая и забываясь. В деревне перед праздником мылись и проветривались избы, выбивались половики, готовили богатые столы. В этот день с утра все шли в церковь на службу. А к обеду встречали гостей. Народу собиралось много: из соседних сёл и деревень, родственники из города. Ходили из дома к дому. Угощались, объедались, хватали лишку хмельного. К вечеру играла гармонь, плясали бабы, пели. Детворе нравилось незлобное настроение подвыпивших взрослых, никто не ругался, не заставлял работать, не бегал с крапивой, не раздавал подзатыльники. Шумно было чуть ли не до утра. Светлые ночи давали погулять и расслабиться уставшим от труда крестьянам. Ночью в избах оставались ночевать вповалку. Некоторые перепившие мужики засыпали прямо в траве. И утром их обнаруживали шедшие за крапивой для свиней и кур бабы.
Медведевы к концу 19 века разрослись. Изба была большая: разделена на летнюю и зимнюю часть. Зимняя часть – большая комната с русской печью, за которой был «бабий кут» – кухня. В избе были полати наверху для ребятишек и молодых парней. Старики спали на печи, хозяева – на широких лавках. Летом молодые ночевали в холодной части, где стояла деревянная кровать с соломенным матрасом. А подросшие ребята могли и на сеновале уснуть.
Большой крытый двор, разделенный с избой просторными холодными сенями – «мостом», как говорили купаловцы. На мосту всегда стояли кадки с прозрачной водой. Рядом висел ковш. Вернувшиеся с покоса мужики зачерпывали ледяной свежей воды, не могли напиться. Вода в Купалове была вкусна, но стирать и мыться в ней было одно наказание. Для этого набирали дождевой. Полоскать белье шли в пруд или в бочаг на речке.
Держали скотину: отару овец, несколько коров, свиней, лошадей, кур и уток. Иван был крепким хозяином. Овдовев еще не старым, женился второй раз на девушке Пелагее, которая к троим его детям прибавила еще четверых. Дети его почти все выжили. Только старший сын Митрофан умер от лихорадки взрослым, оставив молодому деду внука и совсем юную вдову.
Много детей – не только много ртов, но и много рук. Все работали, как винтики очень хорошо отлаженного механизма. Работников не нанимали. Дети начинали трудиться с малолетства. Если поспевали первыми в деревне с покосом или жатвой, спешили на помощь к соседу. Покончив с сезонной работой, мужики и подростки-сыновья ехали в город наниматься в Колесниковскую мануфактуру рабочими. Иван дослужился там до приказчика, был на хорошем счету не только у начальства, но и у владельца Степана Кузьмича, известного в то время промышленника.
Дети женились и разъехались. Кто в другие сёла, кто в город, а кто и построился и остался в деревне. В доме с Иваном, его женой и стариками остался жить один сын Фёдор с двумя маленькими дочками – Катей и Верой. Фёдор, овдовел, повторив судьбу отца. Молодая его жена умерла от чахотки. Перед смертью её выносили лежать, обложенную подушками, под цветущую сирень ранним летом. Эти пахнущие гроздья сиреневых веток – последнее, что она видела. Похоронив сноху, Иван продолжил руководить хозяйством. В срок косили и пололи, пахали и жали. Но сын стал тихим, осунулся, глаза темные. Даже крепкое сердце Ивана сжималось при взгляде на Федю. Помнил боль от смерти старшего и терять еще одного сына боялся.
Осенью Иван и Фёдор уехали вдвоём на работу в мануфактуру, оставив Пелагею со стариками и двумя малолетними детьми. Но за них Иван не переживал – через дом жил его брат, через два – его внук с новой семьей. Есть кому за ними присмотреть. А Фёдор, хоть и рядом с отцом, да все-таки не рядом. И рабочие, и начальство заметили изменения в парне. Сочувствовали, подбадривали. А тайком сговорились найти невесту.
Зимой сына с отцом вызвал к себе в кабинет Степан Кузьмич. Разговор завел с улыбкой, сесть пригласил. Ивану налил коньяка. Выпили. Фёдор стоял молча. Степан Кузьмич сватал Фёдору девушку-кухарку, сироту из крепкой крестьянской семьи. Девчонке уже 16 лет. Хваткая, спорая. Хвалят все. Жалея сироту, заводчик давал приданое за ней.
Так и порешили! Перечить ни отец, ни тем более сын не стали. И к весне сыграли свадьбу в Купалове.
Глава III
Татьяна
В начале 20 века молодая девчонка Верзнева Таня вошла в новый дом женой. Началась совсем другая жизнь. Привычная к труду, покладистая и неизбалованная, она прижилась. Дочки Фёдора приняли её и полюбили.
Фёдор всё больше молчал. Таня и Федя зажили тихо, что творилось в их душах, знали только они. Но Федя, познав горе, стал трепетней относиться к дочкам и новой жене, как будто всегда чувствовал тревогу за них.
Бабья крестьянская жизнь была не сладкой. Работы много, сна мало. Свободы – той вообще нет. Крутись, обслуживай свёкра и мужа, да стариков и детей. Таня, в младенчестве потерявшая мать, знала, что такое труд. Летом вставала в четыре, ложилась глубокой ночью. Зимой можно было поспать чуть дольше, а иногда и подремать у печки днём. Но это было привычно. Сравнить ей было не с чем. И она старалась угодить новой семье.
Хлеб и пироги её свёкор хвалил. Говорил, что вкуснее не ел. Да и правда: пироги со свежей снытью и яйцом ей всегда удавались и были в новинку купаловцам. Несмотря на то, что главной хозяйкой была свекровь, да и по традиции нерожавшие молодухи обычно не готовили, Тане был отдано место у печи.
Осенью мужики Купалова устраивали себе небольшой отдых от семьи. После жатвы и обмола зерно собирали в мешки, складывали на телеги и ехали обозом на мельницу. Хоть и была она недалеко, оставались там несколько дней – пока не перемолят всем. Брали, конечно, самогон и еду. Таня пекла свёкру и мужу пироги с грибами, луком, яйцом и капустой. Отдохнувшие от домашних, хозяева возвращались чаще всего довольные, отоспавшиеся. Но бывали случаи, когда двое соседей цепляли друг друга, выпив лишнего. И тогда могла возникнуть драка. Мужиков разнимали и зачастую связывали. Приезжали тогда притихшие и недовольные.
Бабы встречали мужиков, привычно обнюхивали, осматривали. Ругали за грязные и порванные вещи. Оценивали будущую свою работу: стирку, починку одежды.
В субботу был банный день. Мылись в печи. Устье русской печи было широким – по плечам хозяина. Хозяйка топила её с утра. Готовила хлеб, щи и кашу. Заваривала скотине очистки овощей, крапиву, крупу. К вечеру горячую печь мели веником, застилали доской и соломой. Залезали по очереди, подавали детей и стариков. И мылись, меняя ушаты с чистой и грязной водой. Пропаривались, скрючившись. Вылезали, перемазавшись сажей. Процесс долгий и трудоёмкий для хозяйки, как, впрочем, и вся бабья жизнь.
Потом садились пить чай. Самовар был огромный. Его надо было перетащить к печи, воткнув в печурку трубу. Натаскать воды, залить в самовар. Растопить его щепой и шишками. Пока он кипятил воду, накрыть стол в красном углу. И уже уставшая от стандартных дел, от субботней бани, Таня накрывала чайный стол. На обязательную выходную скатерть выставлялись чашки с блюдцами, пироги, сушеная малина, мед, поднос для самовара. Свекор Иван доставал сахарную голову, начинал колоть её щипцами, раскладывал на блюдца порционно по кусочку. Покупное богатство в виде сахара и пряников распределял он.
Дом пах мылом, печью, дровами, чистым бельем, малиной, пирогами. Он пах достатком.
Дед в чистой рубахе, босые ноги на половике, пил чай из блюдца вприкуску с сахаром. Была в нем та строгость и грозность, которая заставляла слушаться и подчиняться. Он ни разу никого не ударил, но домашние его побаивались. Таня помнила, как однажды он вышел из себя, разозлившись на Фёдора. Лицо его потемнело, поменялось так, что Таня не могла отвернуться, отвести глаз. Страх этот она запомнила навсегда. Угодливая Татьяна старалась держаться подальше от свёкра. И это субботнее чаепитие было редким совместным времяпровождением.
Как бы ни был Иван строг – за столом говорили и даже смеялись иногда. Особенно маленькие девчонки, тихонькие и миленькие, они переглядывались и хихикали, но границу не переходили, знали, что ложкой по лбу получат за шум.
Вдруг Таня почувствовала шевеление в животе: «Ах!» Она догадывалась, что беременна, но точно не знала. Все повернулись на её тихое аханье. Она покраснела, вскочила и стала убирать посуду со стола. Дед с бабкой переглянулись и посмотрели с улыбкой на Федю. Жизнь налаживалась.
Таня стала улыбчивей, изменилась в лице, округлилась. Фёдор прикипел к своей тихой жене, смотрел на неё долгим нежным взглядом. Свёкор и свекровь стали оберегать её, не давали носить тяжести. И эта непривычная забота Тане очень нравилась.
Поздней осенью Иван один уехал на работы, оставив сына за главного. Живот Тани стал расти. Зима выдалась холодная и снежная, домашние почти не вылезали на улицу. У Татьяны было больше времени на отдых. Все было непривычно для неё: приятная забота семьи, нежность мужа, но самое главное – всепоглощающая любовь к этому существу внутри неё. И так было странно хорошо, что она плакала иногда в закутке за печкой без всхлипов. Потом вытирала слезы и принималась за повседневные труды.
В конце лета Таня родила девочку. Рожала недолго, но больно, покричала маленько. Девочка маленькая, красивая, сразу всем приглянулась. Похожа на неё. Спросила у свёкра и мужа разрешения назвать её Олей. Позволили. Девочка чмокала беззубым ртом, и Таня расплывалась в улыбке. Она полюбила эту девочку еще внутри себя. Малышка наполнила её жизнь светом, теплом. Новое ощущение, какая-то осмысленность появилась в жизни, тихая радость. Она схватилась за это своё неожиданное ранее неведомое счастье, и не отпускала никогда. Эту любовь к своему первенцу женщина пронесла через всю жизнь. Она не смогла полюбить так сильно больше никого, ни детей мужа от первого брака, ни вторую свою дочь.
По традиции родившая женщина должна была пролежать три дня дома. Незаменимая работница – молодая баба – должна была быть здорова. В три дня повитуха приходила и смотрела за самочувствием её и ребёнка.
Хлопотала по хозяйству свекровь, приходили помогать сноха и тётушка. На второй день дед зашел в избу к вечеру, усталый, сел на табурет и крикнул: «Самовар ставь. Чаю пить будем». Таня привычно подскочила от его окрика. Уже успела пробежать до самовара и схватить его за ручки. Свёкор привстал и, грозно сверкнув глазами, зарычал: «Ну! Куда встала!» Испуганная Таня нырнула обратно на застеленную лавку рядом с люлькой её девочки. И правильно – живот тут же заныл. Свекровь наладила чаю, напоила и Таню.
После трёх дней Таня поднялась и постепенно вошла в привычный ритм. Олечку она не отпускала – держала её недалеко от себя, даже работая в поле, зачастую клала прямо на траву замотанный кулёк. Только иногда приходилось оставлять её старенькой бабушке – матери Ивана, когда на огороде стало холодно. Но старалась с ней надолго не разлучаться. Через год старики и вовсе умерли, так Таня всё время девчонку с собой таскать стала.
Когда Оле стукнуло два года, Татьяна родила еще девочку. Девчонка была бойкая с рождения. Мучила Таню и родных криком. Дед сразу определил – в него, боевая. Приказал назвать её Марией. И полюбил свою Манечку последней нежной дедовской любовью.
Когда девочки выросли из младенчества, родители оба уже стали выезжать зимой на заработки, оставляя четырех детей бабушке Пелагее и дедушке Ивану на попечение. Таня работала кухаркой на мануфактуре, Фёдор – приказчиком. Жили рядом с фабрикой в бараке, занимая в нем один «угол» за занавеской. Иван приезжал, осматривал угол, хозяйски проходился по бараку, здоровался со всеми. Его уважали, кланялись и скидывали шапки молодые рабочие. Дед приезжал за деньгами, забирал все заработанные без счёта. Говорил: «Мне на хозяйство нужно. А вы еще заработаете». Сын и сноха не смели перечить: на нём и дети, и хозяйство.
Таня ночью брала работу: шила, вышивала, штопала, чинила белье. Она, как все девушки-крестьянки того времени, владела основами рукоделия. Её наволочки и накидки были украшены вышивкой. Спала привычно мало.
В один год, приехав домой весной, Татьяна обнаружила подарок: новенькая швейная машинка. Свёкор был практичен, чувствовал выгоду всюду. И тут не ошибся: сноха быстро освоила технику, обеспечила семью бельем, рубахами и штанами. А зимой брала с собой машинку и шила на продажу.
Глава IV
Зеркало
Однажды Таня увидела в торговой лавке на городском рынке зеркало. И пропала! Такой дивной красоты она не видала ни у кого в деревне. Огромное зеркало – в человеческий рост – всё резное, обвитое деревянными цветами и листьями, завораживало. Татьяна ходила мимо, замирала и не могла отвести глаза от деревянной рамы, покрытой тёмным лаком. Внизу – полочка для гребней. Наверху – еще одно маленькое зеркальце. И крыша, как у богатого дома с колоннами и навершиями. А под крышей будто солнце с лучами.
Татьяна решилась. Она пересчитала деньги и поняла, что хватит. В тот же вечер изумленный Фёдор увидел, как двое молодцов втаскивают к ним в угол большое зеркало, а следом за ним бежит взволнованная Таня.
Потом Татьяна уговаривала мужа простить, замаливала в церкви свою гордыню и алчность. Она объяснила Феде, что испугалась, как бы это чудо не купили раньше неё. Но сама-то думала, что, если бы она мужу сказала, он бы еще и запретить мог! Получается – перехитрила. И молилась усерднее. Фёдор простил, конечно же. Куда б он делся. Да и покупка была царская.
Ранней весной привезли в Купалово зеркало. Иван удивился. Но бранить не стал. Даже загордился снохой: какая добытчица да хозяюшка. Хочет украсить свой дом. Свой! Именно это особенно его порадовало.
Засуетились, забегали. Куда вешать? На видное место, конечно! Вон – за вторым окном от красного угла! Да! Ох, любо-дорого! Как войдешь – сразу его и видать! Влезет ли? Да влезет, не бойся. Тащи веревку и гвозди!
Полна изба гостей. Взрослые сыновья Ивана с женами и детьми. Внуки с семьями. Соседи.
Мужики повесили зеркало. Между окнами внизу прибили деревянную планку, а сверху крепкий гвоздь, на него веревку – обвязали верх зеркала. Так и висело оно под наклоном, будто в поклоне входящим.
Женщины накрыли стол. Шумно, весело. Помолившись, сели под иконами за длинный стол, составленный из двух. Ребятишкам накрыли на кухне, на лавке, усадив их на маленькие табуреты для дойки скотины, а кого и на пол, на тужурки.
Дом пах солёными огурцами и квашеной капустой, пирогами, ржаным хлебом, салом, квасом и самогоном. Ребятишки поели и, почуяв расслабленное настроение взрослых, гурьбой убежали на улицу под весеннее, но еще прохладное солнце.
В избе быстро стало душно: рамы еще законопачены, заложены соломой. Мыть и открывать их планировали только к Пасхе, а в этом году она была поздняя. Надышали, вспотели, наелись лука и чеснока, напились кваса и самогона. Дух в избе, что топор вешай! Красные, разгоряченные, вывалились из избы на двор дышать. Сосед принес гармонь. Стали петь. Смеялись. Заплевали всю землю под ивой кожурой семечек.
Разошлись к ночи. А некоторые остались ночевать в избе, прямо на полу разложив пальтушки. На сеновале пока было холодно.
Любоваться зеркалом ходили всю неделю. Заглядывали соседи с гостинцами, чаевничали, хвалили зеркало: «Знамо, царское! Даже у барыни такого не видали! Будто дом с крышей! Гляди – сверху-то еще зеркальце! Ну, Татьяна, ну, хозяюшка!»
Своё сокровище Таня украсила к следующей весне кружевным подзором. И накупила гребней, разложила их на полочке.
Татьяна поменялась с момента приобретения зеркала. Стала смелее. Меньше боялась свёкра. Уверенней принимала решения сама. Как будто заимела свой голос. Летом на огороде, подальше от глаз деда, гоняла четырех дочерей по поручениям, часто ругаясь звонко: «Шкура ты барабанная! Бродяжья твоя шкура! Дубина стоеросовая!»
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.