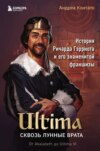Kitabı oku: «Кристофер Нолан. Фильмы, загадки и чудеса культового режиссера», sayfa 2
Я полагаю, в основе моих фильмов лежат технические уловки, абстракции и условности. Я искренне считаю себя скорее ремесленником, чем художником. И это не ложная скромность. Среди режиссеров есть настоящие художники: таковым я, например, считаю Терренса Малика. Возможно, вся разница в том, что для кого-то кино – способ выразить нечто очень личное, что рвется из твоего сердца наружу; а для других – способ общения и коммуникации с людьми, возможность отразить их ожидания и переживания. Во многом мои фильмы определяет сам кинематограф».
Удивительно, что мнение Нолана о самом себе перекликается со словами его наиболее суровых критиков, для которых он – всего лишь педантичный трюкач, который мастерит головоломки-стереограммы в мире кино. Умелые, но пустые безделушки, холодные за неимением реального творческого самовыражения и запертые в клетке своих идеально отшлифованных граней. Вопрос лишь в том, насколько ценны эти ограненные конструкции сами по себе. Критики упрекают режиссера за безликость, сам же Нолан гордится умением исчезать в своих фильмах, будто фокусник.
Я взялся за эту книгу, потому что уверен: Нолан и его критики неправы. Возможно, эти фильмы не настолько автобиографичны, как, например, «Злые улицы» или «Инопланетянин», но все равно это очень личное кино. На съемках Нолан часто использует для своих проектов кодовые имена, отсылающие к его детям: «Темный рыцарь» был «Первым поцелуем Рори», «Начало» – «Стрелой Оливера», «Возрождение легенды» – «Магнусом-Рекс», а «Интерстеллар» – «Письмом Флоры». Жизнь Нолана отражена в локациях и мифологии его фильмов ничуть не меньше, чем жизнь Скорсезе – в грязных кабаках, а Спилберга – в уединенных пригородах.
Города и страны, в которых Нолан жил, задают место действия. Места, где он взрослел и учился, отражены в архитектуре его картин. Книги и фильмы, которые сформировали его личность, теперь вдохновляют его истории. В сюжетах Нолана переплетаются темы из его собственного пути к взрослой жизни: изгнание, память, время, самоопределение, отцовство. Его кино – глубоко личные фантазии, остросюжетные и убедительные как раз потому, что режиссер не относится к фантазиям как к второсортной кальке с реальности. Наоборот, они равноценны друг другу; для Нолана фантазии важны, как воздух. Он грезит с открытыми глазами и приглашает нас с собой.
В то же время эта книга – не сборник интервью, хотя в ее основе лежат многочасовые беседы, которые мы вели с Ноланом в его голливудском доме. Процесс растянулся на три года: за это время режиссер написал сценарий, провел препродакшен, отснял и смонтировал свой новый фильм «Довод».
Есть ли у него правила? Как отличить крутой сюжетный поворот от просто хорошего? Насколько личное у него кино? Что его мотивирует? Чего он боится? Сколько недель, дней и часов в идеале должна охватывать история? Каковы его политические убеждения? Бессмысленно задавать Нолану прямые вопросы о происхождении его любимых тем и маний – это я понял с самого начала. Спроси его о том, как он впервые открыл для себя лабиринты, и скоро сам заплутаешь: «Я честно не помню. И это не кокетство. Полагаю, интерес к лабиринтам и тому подобному развился у меня по мере того, как я начал рассказывать истории и снимать кино».
Попытки докопаться до сути его маний открывают лишь новые мании, складываются в длинную рекурсивную цепь. Допустим, Нолан ответит: «Мое увлечение темой идентичности, пожалуй, происходит из увлечения субъективным повествованием» или «мое увлечение темой времени продиктовано увлечением кино». Нолан привык выстраивать разговор так, чтобы ни в коем случае не нарушать границы между своими фильмами и личной жизнью. Его мании (или «увлечения», как я впоследствии стал их называть) витают в пространстве, будто кинетические скульптуры Александра Колдера, сплетаются друг с другом и в итоге возвращаются к первому и главному интересу Нолана – к кино. Все дороги ведут в Рим.
Вскоре я также понял, что Нолан обожает слово «увлекательно». Вот лишь неполный список вещей, которые он счел «увлекательными» в ходе наших интервью:
• деформированные головы на портретах Фрэнсиса Бэкона;
• отсутствие подвигов в фильме Дэвида Лина «Лоуренс Аравийский»;
• смерть родителей Говарда Хьюза;
• работа Кубрика с миниатюрами в фильме «2001 год: Космическая одиссея»;
• сцена из «Схватки», в которой банда Де Ниро разрезает герметичный пакет с деньгами;
• произведения Хорхе Луиса Борхеса;
• Брандо, декламирующий стихотворение Томаса Элиота «Полые люди» в финале «Апокалипсиса сегодня»;
• фильм «Пинк Флойд: Стена»;
• спецэффекты студии Industrial Light & Magic;
• рекламный проект, созданный отцом Нолана для Ридли Скотта;
• иллюзия масштаба в кино;
• готическая архитектура;
• мысленный эксперимент Эйнштейна о разлученных близнецах;
• «Большая игра» между Британской империей и Россией за господство в Юго-Восточной Азии;
• роман Уилки Коллинза «Лунный камень»;
• то, как этика выражена через архитектуру в фильме Мурнау «Рассвет»;
• тот факт, что никто не понимает, как работает iPad;
• фильмы Дэвида Линча;
• влияние GPS-спутников на восприятие относительности;
• Википедия;
• документалка о природе, которую шестнадцатилетний Нолан посмотрел задом наперед;
• корабли на подводных крыльях.
Само слово «увлекательно» в устах Нолана звучит несколько архаично, напоминая о своей этимологии: fascinating, от латинского fascinatus, второе причастие от глагола fascinare («околдовывать, зачаровывать, завлекать») и существительного fascinus («колдовство, чары»). Я не сразу понял, о чем мне напоминает это слово, но позднее все-таки нашел нужные литературные источники. В «Дракуле» Брэма Стокера профессор Ван Хельсинг боится, что «красота и прелесть порочного «живого мертвеца» увлечет его», и вскоре его действительно «стал одолевать сон: я словно спал с открытыми глазами, постепенно поддаваясь сладостному влечению»6. Окровавленную морду собаки Баскервилей из романа Конан Дойля доктор Ватсон описывает как «омерзительное, ужасное и в то же время влекущее зрелище».
В викторианской литературе это частый мотив: рациональный ум поддается натиску одержимости, чьи истоки сложно назвать рациональными. Также и фильмы Нолана подрагивают, ходя по самому краю объяснимого. Это кино травмированного рассудка. Стоит только закопаться в картины Нолана – и обнаружишь викторианскую эпоху. Тень «Фауста» Гёте простирается над «Престижем» и трилогией «Темный рыцарь». «Возрождение легенды» переосмысливает «Повесть о двух городах» (1859) Диккенса. В «Интерстелларе» можно обнаружить на удивление много мотивов из работ Томаса Роберта Мальтуса, а также церковный орган на 382 регистра и полное собрание сочинений Конан Дойля. Ботик из «Дюнкерка» называется «Лунный камень» в честь романа Уилки Коллинза, а музыка Ханса Циммера отсылает к «Энигма-вариациям» Эдварда Элгара.
«Я видел, как огромные великолепные здания появлялись и таяли, словно сновидения»7, – рассказывает путешественник из романа Герберта Уэллса, сотворивший машину времени из никеля, слоновой кости, меди и кварца на основе 18-килограммового велосипеда; как раз по типу того, каким пользовался сам Уэллс, с удовольствием катаясь по долине Темзы. Герой «Машины времени» переносится на 30 миллионов лет в будущее, однако представим, что прибор забросил его в ресторан «Кантерс» в 2000 году и следующие двадцать лет наш путешественник снимал кино для Голливуда: пожалуй, его фильмография не сильно отличалась бы от карьеры Кристофера Нолана. Критикам еще предстоит определиться со статусом режиссера в истории, но Нолан уже вправе считать себя величайшим из ныне живущих кинематографистов викторианской эпохи.
У Нолана найдется немало художников-предтеч, чьи работы питают его фильмы: от Рэймонда Чандлера, Фрэнка Ллойда Райта и Хорхе Луиса Борхеса до Томаса Элиота, Фрэнсиса Бэкона и Иэна Флеминга. Однако по-настоящему понять его кино при написании этой книги мне помогла музыка. Название его студии, Syncopy, отсылает к синкопе8 – эту идею Нолану предложил его отец Брэндан, поклонник классической музыки, который до самой своей смерти в 2009 году любил заглядывать к сыну во время записи саундтреков к его фильмам. По мере того как проекты режиссера приобретали все больший размах и эпичность, музыка становилась ключевым инструментом их структуры. Нолан принимал настолько активное участие в работе над саундтреком, что на «Дюнкерке» композитор Ханс Циммер назвал его своим «соавтором». «Музыка “Дюнкерка” – заслуга Криса в той же степени, что и моя», – рассказывал Циммер об их совместной работе над саундтреком, который по сути представляет собой фугу, несколько вариаций на одну тему. Иногда мотив инвертирован или сыгран в обратном порядке, но их гармония создает у зрителя ощущение беспрестанного движения.

Черновик «Энигма-вариаций» Эдварда Элгара. Композитор Ханс Циммер переработал их для своего саундтрека к «Дюнкерку» (2017).
«Музыка – фундаментальная и все более важная часть моих фильмов, – размышляет Нолан. – Помню, много лет назад мне встретилась цитата Анджело Бадаламенти о том, как Дэвид Линч просил его “сыграть куски пластмассы”. Забавно, но поначалу я подумал: вау, какой бред! А сейчас я его прекрасно понимаю. Хорошая киномузыка создает нечто, что просто не выразить другими словами. Хотелось бы, да не выйдет. В последнее время, когда мне требуется более масштабный саундтрек, я собираю своего рода музыкальный механизм, а затем использую его, чтобы нащупать сердце фильма, облечь эмоции в форму.
Для “Интерстеллара” это был крайне важный момент. Мне не хотелось переходить к музыке в последний момент, полагаясь на удачу. Так что я попробовал вывернуть процесс создания фильма наизнанку: начать с эмоций, нащупать сердце истории, а затем возвести вокруг него механизм. В этом я все больше полагаюсь на Ханса, с каждым новым фильмом, и самый яркий тому пример – “Дюнкерк”, чей замысел родился из музыки. Я и сам до конца не понимаю, почему я теперь настолько зависим от саундтрека, но так уж случилось, и меня это устраивает. Музыка помогает мне выразить себя, и иначе я просто не умею».
Аналогичная задача и у этой книги. В каждой главе я рассматриваю тот или иной фильм Нолана, привожу историю его создания и мнение самого режиссера, подробно разбираю аспекты сценария, дизайна, монтажа и музыки – этапы, на которых автор картины оттачивает свое видение. В отличие от многих других трудов о кино, меня не волнуют закадровые интриги: главная сила фильмов Нолана – концептуальная. Конечно, в них найдется немало ярких, иногда ошеломительных актерских работ: достаточно вспомнить Гая Пирса в «Помни», Ребекку Холл в «Престиже», Хита Леджера в «Темном рыцаре» или Марка Райлэнса в «Дюнкерке». Однако прежде всего успех картин Нолана опирается на его идеи. «Какой самый живучий паразит? – спрашивает Кобб, герой Леонардо ДиКаприо в «Начале». – Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Она живуча и крайне заразна. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от нее уже практически невозможно»9. Нолан – главный заступник идефикса; мыслей, которые не дают человеку заснуть.
Каждая глава постепенно выводит читателя на свою главную тему – время, восприятие, пространство, иллюзии, – отступает от хронологии и погружается в увлечения самого Нолана, будь то фильмы и книги, вдохновившие его, или музыкальная тема, намертво засевшая у него в голове.
«Я не стану объяснять “Энигму”, – писал Элгар о секретной мелодии, которую он, по слухам, ввел в свои «Энигма-вариации», каждая из которых посвящена одному из друзей композитора. – Ее темное изречение должно остаться неразгаданным». Некоторые толкователи (среди них Джеррольд Нортроп Мур, биограф Элгара) полагают, что речь здесь идет вовсе не о музыкальной теме, а об идее – идее саморазвития через контакт с другими людьми: «Истинная задача “Вариаций” заключается в воплощении самого себя через музыку». Так же и фильмы Нолана – вариации на несколько тем, разыгранные в разных голосах и регистрах, то инвертированные, то замедленные или ускоренные, создающие ощущение беспрестанного движения. Подобно «Энигма-вариациям», все их мотивы ведут к центральной фигуре произведения: скрытой у всех на виду, отчетливой в каждом кадре. Эта фигура – Кристофер Нолан.
Один
Структура

«Наша семья обожает самолеты, обожает путешествовать, – говорит Нолан. – Мое детство во многом связано с авиацией, мы постоянно куда-нибудь летали. Мама была стюардессой United Airlines, так что мне часто доставались бесплатные билеты на посадку: приходишь в аэропорт – и летишь, куда хочешь. Папа же много путешествовал по работе. Он был креативным директором, создавал ролики для известных рекламных агентств, в 1960-е немало времени провел в Лос-Анджелесе. Случалось, прилетал туда и снимал по пять роликов за раз. Впоследствии он двадцать лет руководил собственной рекламно-консалтинговой фирмой. Там он работал уже не столько над промороликами, сколько над раскруткой брендов и дизайном упаковок. Вот, скажем, батончик “Старбар” от Cadbury – это как раз его проект. Помню, он приносил нам маленькие шоколадки на пробу».
Одним из своих первых воспоминаний о походах в кино Нолан называет мюзикл Алана Паркера «Багси Мэлоун» (1976) с Джоди Фостер в главной роли. Когда мальчик заметил анонс в газете, родители сказали: «О, этот фильм снимал один из папиных друзей». Слегка преувеличили: отец Нолана, Брэндон, работал с Паркером над одним из своих роликов. Вскоре родители устроили Крису экскурсию на студию Pinewood, которая в 1976 году отмечала свое сорокалетие, и там Нолан заметил педальные машинки из «Багси Мэлоун». «Для меня это было очень важно, – объясняет он. – В те годы в британском кино работали пять режиссеров, пришедших туда из рекламы. И отец рассказывал, что со многими из них он был знаком. Эта пятерка – Ридли Скотт и Тони Скотт, Эдриан Лайн, Хью Хадсон и Алан Паркер. По мнению папы, Хадсон был интереснее всех. Отец всегда с нетерпением ждал его новых фильмов, еще даже до выхода “Огненных колесниц”. Увлекательный момент: позднее я узнал, что папе довелось поработать с Ридли Скоттом. Накоротке они не были, но отец пару раз сотрудничал с его студией».
Немало времени Брэндон Нолан проводил в странах Африки и Юго-Восточной Азии, откуда он возвращался с подарками и рассказами обо всем, что видел. А мальчики – старший Мэтью, Крис и Джонатан (для родных просто Джона) – играли друг с другом, пытаясь угадать, куда отец отправился на этот раз. С их матерью Кристиной Брэндон познакомился во время командировки в Чикаго. Брак обернулся для нее увольнением, так как по правилам United Airlines в 1960-е стюардессами могли быть только незамужние девушки. Несколько лет спустя коллективный иск сотрудников вынудил компанию изменить устав, это позволило бы Кристине вернуться на работу; впрочем, к тому моменту она уже благополучно сменила профессию и работала учительницей английского языка. Детство Нолана прошло на два дома – семья жила то в Лондоне, то в Чикаго, а иногда выбиралась в Огайо к бабушке по материнской линии. Именно там семилетний Крис застал премьеру «Звездных войн» Джорджа Лукаса в 1977 году.
«Этот фильм я впервые увидел в небольшом пригородном кинотеатре в Огайо, – рассказывает Нолан. – Мы тогда были в гостях у бабушки. В те годы для Америки и Англии печатали общие копии фильмов – то есть пленки добирались до Британии лишь несколько месяцев спустя, по завершении американского проката. То, что в США выходило летом, за океан попадало только к Рождеству. Помню, осенью я вернулся в школу Хайгейт и пытался рассказать друзьям о том, как провел лето и как посмотрел один фильм, а там мужик в черной маске и штурмовики в белых доспехах, но на самом деле они злодеи… А однокашники вообще не понимали, о чем я говорю! Но затем под Рождество фильм вышел в Британии, и все на нем просто помешались.
“Звездные войны” дали каждому из нас собственный повод для бахвальства. Один приятель уверял, что его отец играл в оркестре на записи музыки к этому фильму. А я, стало быть, посмотрел его раньше всех. А потом и чаще других его пересматривал. Это кино, его технологии и находки, меня чрезвычайно увлекло. Помню, я достал выпуск журнала о студии Industrial Light & Magic, и зачитал его до дыр. Я увлекался всем, что связано с историей и процессом создания таких фильмов».
Вскоре после знакомства со «Звездными войнами» Нолан с отцом отправились в лондонский кинотеатр на Лестер-сквер, где в повторном прокате шел «2001 год: Космическая одиссея» (1968) Стэнли Кубрика. «Событие было значительное. Отец хотел, чтобы мы увидели этот фильм на по-настоящему огромном экране. Кажется, он заранее предупредил меня, что “Одиссея” совсем не похожа на “Звездные войны”. Но кадры полета “Дискавери”, спецэффекты с использованием миниатюр – все это было для меня невероятно увлекательно. Есть в этом фильме что-то первобытное: например, горящие глаза гепарда в прологе или образ звездного младенца в финале. “Одиссея” ускользала от понимания, но при этом не раздражала. Позже, уже в Чикаго, я пересмотрел ее с друзьями, и мы стали обсуждать, что все это значит. В оригинальном романе Артура Кларка (до него я добрался уже после просмотра) было чуть больше объяснений и конкретики. А фильм Кубрика, как мне кажется, я гораздо лучше понимал, когда был ребенком. Это эмоциональный опыт – и дети такому больше открыты. Там ощущается настоящее, чистое кино, чистое переживание. “Космическая одиссея” показала мне, сколь многоликим может быть кино. Это панк-рок от мира фильмов».

Кир Дуллеа в фильме Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея» (1968).
Летом 1978 года Ноланы перебрались в Чикаго, чтобы жить поближе к семье Кристины. Предполагалось, что они пробудут там всего год, но в итоге остались на три. Они осели в Эванстоне, зажиточном и зеленом пригороде на северном побережье Чикаго. Каменные, увитые плющом особняки в псевдотюдоровском стиле, припаркованные на улочках универсалы, двор с видом на густой лес – волшебная Страна Подростков, которую вскоре обессмертят фильмы Джона Хьюза. «Пригород стал всей моей жизнью, – вспоминает Нолан. – Все было совсем как в “Выходном дне Ферриса Бьюллера” или “Дядюшке Баке”. Джон Хьюз как раз снимал свои комедии на северном побережье Чикаго, в городках вроде Эванстона. Мы жили прямо напротив школы, а рядом был небольшой парк, изрезанный дорожками заповедник, где можно было вволю пошалберничать. Полная свобода. Мы с друзьями все там объездили на велосипедах. Летом погода в Эванстоне была лучше, чем в Британии, зимы же были невероятно снежными. До сих пор помню, как примерно через год после переезда в Америку мы вернулись в наш лондонский съемный дом – и мне все казалось таким маленьким. В США вообще иной размах: дома больше, улицы намного шире. К тому же я и сам стал на дюйм-другой выше. Рос я очень быстро. Это я помню отчетливо. Стою в холле, смотрю на лестницу и думаю: “Почему все такое крошечное?”»

Огромными были и американские кинотеатры. Крупнее всех – старый «Иденс»10 в Нортбруке, величественное здание в футуристичном стиле 60-х, стоявшее близ шоссе Иденс. На момент открытия в 1963 году кинотеатр считался «самым большим гиперболическим параболоидом в мире». Тем, кто ехал вдоль шоссе по Бульвару Скоки, «Иденс» тут же бросался в глаза: гофрированные бетонные стены с прожилками из изогнутого стекла, устремленная в небо крыша – словно космический корабль из «Звездного пути» Джина Родденберри или что-то из «Джетсонов». Холл был украшен ультрамодернистской мебелью в бело-золотых тонах. Гигантский экран обрамляли красный занавес и небольшая сцена, которую отделял от первого ряда покрытый ковром проход. «Красота была невероятная, – говорит Нолан. – Помню, мы пришли туда с мамой смотреть “В поисках утраченного ковчега”. Зрителей битком. Экран громадный. Пришлось взять места поближе, возможно, даже в первом ряду – помню только, что слегка сбоку. Мы сидели так близко, что картинка казалось необъятной и слегка искаженной, можно было заметить зерно пленки. Это я запомнил на всю жизнь: то нереальное ощущение, когда словно проваливаешься по ту сторону экрана».
В восьмилетнем возрасте Крис получил от отца новую игрушку – камеру Super 8. Аппарат несложный, картриджей с пленкой хватало лишь на две с половиной минуты, и те без звука. Но для Нолана эта камера стала окном в совершенно новый мир. В третьем классе мальчик подружился с Адрианом и Роко Беликами, детьми иммигрантов из Чехии и Югославии, а в будущем – успешными документалистами. Вместе они собирались в подвале дома Ноланов и снимали самодельные космические эпики с примитивной покадровой анимацией. Их героями становились пластиковые фигурки из «Звездных войн». Декорации они мастерили из рулонов туалетной бумаги и коробок из-под яиц. Чтобы создать эффект взрыва, Нолан бросал муку на стол для пинг-понга, а зимой отправлялся снимать чикагские сугробы, напоминавшие ему заснеженные пейзажи планеты Хот из фильма «Империя наносит ответный удар» (1980).

ВЫШЕ И СЛЕВА: Старый кинотеатр «Иденс» в Нортбруке, штат Иллинойс. Там Нолан смотрел все подряд: от «В поисках утраченного ковчега» (1981) Стивена Спилберга до «Лестницы Иакова» (1990) Эдриана Лайна.
«Один из наших фильмов назывался “Космические битвы”, – вспоминает режиссер. – Безусловно, “Звездные войны” сильно на меня повлияли. Тогда же в эфире шел документальный телесериал Карла Сагана “Космос”, и я просто бредил звездами и космолетами. Уже взрослым я пересмотрел свои ранние эксперименты и понял, какие они были примитивные, – пожалуй, это одно из главных разочарований в моей жизни. Искусство кино я постигал очень постепенно. В детстве мне хватало уже того, чтобы собрать интересные картинки в единую историю, – тем более что Super 8 не записывала звук. Сегодня звук находится в полном распоряжении детей, которые любят снимать, мы же работали с чистым изображением. На днях я читал “Форму фильма”11 Эйзенштейна, и там он пишет, что если поставить рядом Кадр А и Кадр В, то в сумме они дадут совершенно новую Мысль С. Даже забавно, что когда-то эта идея казалась весьма смелой. А я, выходит, самостоятельно постигал ее через свои детские фильмы».
Сергей Эйзенштейн был сыном рижского зодчего и изначально учился на архитектора в Петроградском институте гражданских инженеров, но со временем он увлекся оформлением декораций и кинематографом, стал первым большим теоретиком структуры кино. Искусство киномонтажа он сравнивал с японскими иероглифами: простейшая последовательность из двух символов рождает новый смысл. И если на одном кадре мы видим женщину в пенсне, а на другом – ту же женщину, но уже в разбитом пенсне и с окровавленным глазом (как показал Эйзенштейн в фильме «Броненосец Потемкин»), то создается совершенно новый образ – глаз, пробитый пулей.
Однажды дядя Тони подарил маленькому Крису пленки с записью космических экспедиций «Аполлон». «Я проигрывал их на телевизоре, записывал картинку на свою Super 8, а затем вставлял эти фрагменты в свое кино – чтобы думали, будто это я снимал. Когда вышел трейлер к “Интерстеллару”, мой товарищ по детским фильмам Роко Белик позвонил мне и сказал: “Да это же совсем как те кадры, классическая хроника со статичной камерой!” Мы стремились к полному реализму, а получилось совсем как в детстве».
Над сценарием «Интерстеллара» Кристофер работал с Джоной. Как-то раз братья встретились в павильоне № 30 на студии в Калвер-Сити, где проходили съемки актеров внутри полноразмерной модели космического шаттла. Чтобы создать иллюзию межзвездного полета, кабину окружал большой экран размером 90 × 24 метра, на который команда по визуальным эффектам выводила изображение космоса, подготовленное другой студией в Лондоне. «Джона тогда сказал мне: “Неудивительно, что мы взялись за этот фильм. Мы готовились к нему с детства!” – рассказывает Нолан. – Рано или поздно мы бы взялись за такой проект. Даже удивительно, что этого не случилось раньше. В каком-то смысле мы вернулись домой».
* * *
Домом для Нолана стало кино, поскольку его семья продолжала курсировать через Атлантический океан. В 1981 году, когда Крису исполнилось одиннадцать, Ноланы вернулись в Англию: Брэндон хотел, чтобы сыновья пошли по его стопам и получили образование в католической школе. Отец Брэндона был пилотом бомбардировщика «Ланкастер» и погиб на войне, так что дисциплину мальчику с Божьей помощью прививал интернат. «Нас воспитывали в идеологии католицизма», – вспоминает Нолан свои годы в старшей школе Бэрроу-Хиллз близ городка Уэйбридж в графстве Суррей. Руководили этим учреждением монахи-иосифиты, чья сеть интернатов и семинарий раскинулась по всему миру, вплоть до Демократической Республики Конго. Бэрроу-Хиллз расположилась в усадьбе начала XX века с треугольными крышами в баронском стиле. Место это было мрачное и неприветливое: учителя вечно талдычили о своей службе на Второй мировой, а за малейшую провинность – например, за разговоры после отбоя – полагалось два удара тростью. Есть местную стряпню было невозможно, так что ученики нередко голодали и с нетерпением ждали следующего похода в ближайший деревенский магазинчик. «В те годы мир разделился на своих и чужих, детей и врагов-взрослых, – продолжает Нолан. – Они пытались приучить нас к серьезности и молитве, а мы естественным образом этому сопротивлялись. Не то чтобы это было осознанным решением; хотя в 70-е, годы моей юности, считалось, что наука вот-вот отменит религию. Сейчас я уже не так в этом уверен. Кажется, нравы несколько переменились».

Рутгер Хауэр в роли репликанта Роя Бэтти.

Режиссер Ридли Скотт с Харрисоном Фордом на съемках «Бегущего по лезвию» (1982).

Ридли Скотт с Сигурни Уивер на съемках «Чужого» (1979). Два этих фильма определили взгляд Нолана на профессию кинорежиссера.

Колледж имперской службы и Хэйлибери в Хартфордшире, Англия, где Нолан жил и учился с 1984 по 1989 год.
Киноклуба при школе не было, однако раз в неделю ученикам показывали военные фильмы вроде «Там, где гнездятся орлы» и «Моста через реку Квай». Однажды заведующий интернатом разрешил Нолану посмотреть на своем телевизоре видеокассету с пиратской копией «Бегущего по лезвию» (1982) Ридли Скотта. «Мы собирались у заведующего дома и смотрели фильм урывками по полчаса», – вспоминает Нолан. Уже позднее он познакомился с «Чужим» (1979) и сопоставил его с историей о репликантах, которую он по частям смотрел у заведующего. «Я отчетливо помню, как почувствовал, что два фильма чем-то похожи друг на друга, и пока еще не понял, чем именно, но очень хотел это понять. Какой-то звук, низкий гул, характерный свет и атмосфера – было очевидно, что некоторые элементы у этих картин одинаковые. Позднее я узнал, что их снял один режиссер. Две абсолютно разные истории, у них разные сценаристы и разные актеры – разное все, что в глазах ребенка определяет суть фильма: мы-то в детстве думали, что актеры сами придумывают кино. Итак, все разное, но еще есть какая-то связь, и эту связь задает режиссер. Помню, как я подумал: вот кем я хочу стать».
У каждого режиссера случается такой момент озарения: Ингмар Бергман все понял, когда открыл для себя «волшебный фонарь», а Скорсезе – когда увидел долгий план с Гэри Купером в «Ровно в полдень» и осознал, что у кино есть свой постановщик. Прозрение Нолана было небыстрым и потребовало от него терпения, смекалки и даже детективных навыков. Впоследствии эти же качества он будет воспитывать у зрителей своих фильмов.
Отучившись три года в Бэрроу-Хиллз, Нолан перевелся в Колледж имперской службы и Хэйлибери12 – интернат к северу от лондонской кольцевой дороги M25. Хэйлибери была основана в 1862 году для подготовки сынов империи к гражданской службе в британских колониях Индии, и к началу 1980-х она казалась реликтом несуществующей державы. На обширных школьных землях, где зимой лютовали ветра с Урала, тут и там возвышались памятники юным храбрецам, жертвам Англо-бурской войны и кавалерам креста Виктории – их традиционные ценности и идеалы героического самопожертвования теперь должны были перенять дети среднего класса из северных пригородов Лондона. Когда-то полковник Королевских ВВС Питер Таунсенд сказал: «Тем, кто пережил два года в Хэйлибери, уже ничто не страшно», – и, хотя с тех пор обстановка в школе несколько наладилась, атмосфера здесь по-прежнему отличалась консервативным аскетизмом: общежития-бараки почти без штор и ковров, батареи отапливают вполсилы. Как заметил журналист Джон Маккарти, в конце 80-х попавший в плен к «Хезболле», жизнь в Хэйлибери сполна подготовила его к трудностям заключения, и это лишь отчасти была шутка. «Когда я такое слышу, то иногда задумываюсь: что же это за мир, которым я здесь управляю? – писал Ричард Роудс-Джеймс, старый заведующий Маккарти. – Я полагал, что мои принципы управления общежитием прививают ученикам ответственность, однако методы моей работы могли быть весьма жестокими». Именно к нему в общежитие Мелвилл определили Нолана осенью 1984 года.
«Мне кажется, Маккарти говорил с иронией, – рассуждает Нолан. – Помню, Стивен Фрай так же сказал в одном интервью, когда его спросили о жизни в тюрьме: “О, я учился в интернате, мне не привыкать”. Но у меня все сложилось иначе. Мне нравилось в Хэйлибери, хоть я и понимал, что другим ученикам было сложнее, так что это вопрос неоднозначный. Там действовал очень странный контраст между ощущением личной независимости и правилами самой школы, подчас суровыми и жесткими. Это жизнь вдали от дома, обособленная и немного одинокая, но зато ты сам себе хозяин. Такая особая форма свободы. В моем понимании, интернат существует по законам Дарвина. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Обстановка армейская. Дисциплина в руках самих учащихся. Студенты шестого курса становятся префектами и отвечают за младших мальчишек. В школе царит консервативный иерархический уклад – ну или, по крайней мере, так было в мои годы. Ты либо подстраивался, либо страдал. Я был довольно крупным подростком и неплохо играл в регби; а тех, кто играет в регби, особо не трогали».
Своих гостей школа в первую очередь поражает размахом: Хэйлибери занимает 500 акров земли в хартфордширской глубинке. Уже по дороге из Лондона можно разглядеть террасу с ее коринфскими колоннами из белого известняка и портиками в духе афинского Эрехтейона. Основной комплекс занимает территорию в 100 квадратных метров и размерами может потягаться с Большим двором Тринити-колледжа в Кембридже. Здание призвано пробуждать в учениках «думы о былом и бессмертные надежды, над которыми не властно время», как выразился в 1862 году первый директор Хэйлибери. Спроектировал школу архитектор Уильям Уилкинс, которому также принадлежат проекты Национальной галереи и Университетского колледжа Лондона. Так уж совпало, что именно туда Нолан поступит по окончании школы. «Скажу не в укор мистеру Уилкинсу, но по сути это одно и то же здание, – отмечает Нолан. – Думая о Хэйлибери, я прежде всего вспоминаю эту прекрасную террасу Уилкинса, поле для регби перед ней и огромный четырехугольный двор. Оба здания очень красивы. И оба кажутся больше, чем есть на самом деле. В этом весь смысл такой архитектуры: человек на ее фоне кажется маленьким, но при этом одновременно ощущает себя частью чего-то большего».