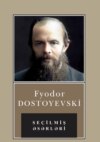«Подросток» adlı sesli kitaptan alıntılar, sayfa 2

Друг мой, любить людей так, как они есть, невозможно. И однако же, должно. И потому делай им добро, скрепя свои чувства, зажимая нос и закрывая глаза (последнее необходимо). Переноси от них зло, не сердясь на них по возможности, «памятуя, что и ты человек». Разумеется, ты поставлен быть с ними строгим, если дано тебе быть хоть чуть-чуть поумнее средины. Люди по природе своей низки и любят любить из страху; не поддавайся на такую любовь и не переставай презирать. Где-то в Коране Аллах повелевает пророку взирать на «строптивых» как на мышей, делать им добро и проходить мимо, — немножко гордо, но верно. Умей презирать даже и тогда, когда они хороши, ибо всего чаще тут-то они и скверны. О милый мой, я судя по себе сказал это! Кто лишь чуть-чуть не глуп, тот не может жить и не презирать себя, честен он или бесчестен — это все равно. Любить своего ближнего и не презирать его — невозможно. По-моему, человек создан с физическою невозможностью любить своего ближнего. Тут какая-то ошибка в словах с самого начала, и «любовь к человечеству» надо понимать лишь к тому человечеству, которое ты же сам и создал в душе своей (другими словами, себя самого создал и к себе самому. любовь) и которого, поэтому, никогда и не будет на самом деле.

— Самоубийство есть самый великий грех человеческий, — ответил он, вздохнув, — но судья тут — един лишь господь, ибо ему лишь известно все, всякий предел и всякая мера. Нам же беспременно надо молиться о таковом грешнике. Каждый раз, как услышишь о таковом грехе, то, отходя ко сну, помолись за сего грешника умиленно; хотя бы только воздохни о нем к богу; даже хотя бы ты и не знал его вовсе, — тем доходнее твоя молитва будет о нем.
— А поможет ему молитва моя, коли он уже осужден?
— А почем ты знаешь? Многие, ох многие не веруют и оглушают сим людей несведущих; ты же не слушай, ибо сами не знают, куда бредут. Молитва за осужденного от живущего еще человека воистину доходит. Так каково же тому, за кого совсем некому помолиться? Потому, когда станешь на молитву, ко сну отходя, то по окончании и прибавь: «Помилуй, господи Иисусе, и всех тех, за кого некому помолиться». Вельми доходна молитва сия и приятна. Тоже и о всех грешниках, еще живущих: «Господи, ими же сам веси судьбами спаси всех нераскаянных», — это тоже молитва хорошая.

Но я знаю, однако же, наверно, что иная женщина обольщает красотой своей, или там чем знает, в тот же миг; другую же надо полгода разжевывать, прежде чем понять, что в ней есть; и чтобы рассмотреть такую и влюбиться, то мало смотреть и мало быть просто готовым на что угодно, а надо быть, сверх того, чем-то еще одаренным. В этом я убежден, несмотря на то что ничего не знаю, и если бы было противное, то надо бы было разом низвести всех женщин на степень простых домашних животных и в таком только виде держать их при себе; может быть, этого очень многим хотелось бы.

Все религии и все нравственности в мире сводятся на одно: "Надо любить
добродетель и убегать пороков"....я сумрачен, я беспрерывно закрываюсь. Я часто желаю выйти из
общества. Я, может быть, и буду делать добро людям, но часто не вижу ни
малейшей причины им делать добро. И совсем люди не так прекрасны, чтоб о них
так заботиться. Зачем они не подходят прямо и откровенно и к чему я
непременно сам и первый обязан к ним лезть? - вот о чем я себя спрашивал. Я
существо благодарное и доказал это уже сотнею дурачеств. Я мигом бы отвечал
откровенному откровенностью и тотчас же стал бы любить его. Так я и делал;
но все они тотчас же меня надували и с насмешкой от меня закрывались. ...деньги - это
единственный путь, который приводит на первое место даже ничтожество. Я,
может быть, и не ничтожество, но я, например, знаю, по зеркалу, что моя
наружность мне вредит, потому что лицо мое ординарно. Но будь я богат, как
Ротшильд, - кто будет справляться с лицом моим и не тысячи ли женщин, только
свистни, налетят ко мне с своими красотами? Я даже уверен, что они сами,
совершенно искренно, станут считать меня под конец красавцем. Я, может быть,
и умен. Но будь я семи пядей во лбу, непременно тут же найдется в обществе
человек в восемь пядей во лбу - и я погиб. Между тем, будь я Ротшильдом,
разве этот умник в восемь пядей будет что-нибудь подле меня значить? Да ему
и говорить не дадут подле меня! Я, может быть, остроумен; но вот подле меня
Талейран, Пирон - и я затемнен, а чуть я Ротшильд - где Пирон, да может
быть, где и Талейран? Деньги, конечно, есть деспотическое могущество, но в
то же время и высочайшее равенство, и в этом вся главная их сила. Деньги
сравнивают все неравенства.... я желал тогда могущества, чтоб
непременно давить, мстить? В том-то и дело, что так непременно поступила бы
ординарность. Мало того, я уверен, что тысячи талантов и умников, столь
возвышающихся, если б вдруг навалить на них ротшильдские миллионы, тут же не
выдержали бы и поступили бы как самая пошлая ординарность и давили бы пуще
всех. ...Блажен, кто имеет идеал красоты, хотя бы даже ошибочный!

Я так думаю, когда смеется человек, то в большинстве случаев на него становится противно смотреть. Чаще всего в смехе людей обнаруживается нечто пошлое, нечто как бы унижающее смеющегося, хотя сам смеющийся почти всегда ничего не знает о впечатлении, которое производит. Точно так же не знает, как и вообще все не знают, каково у них лицо, когда они спят. У иного спящего лицо и во сне умное, а у другого, даже и умного, во сне лицо становится очень глупым и потому смешным. Я не знаю, отчего это происходит: я хочу только сказать, что смеющийся, как и спящий, большею частью ничего не знает про свое лицо. Чрезвычайное множество людей не умеют совсем смеяться. Впрочем, тут уметь нечего: это - дар, и его не выделаешь. Выделаешь разве лишь тем, что перевоспитаешь себя, разовьешь себя к лучшему и поборешь дурные инстинкты своего характера: тогда и смех такого человека, весьма вероятно, мог бы перемениться к лучшему. Смехом иной человек себя совсем выдает, и вы вдруг узнаете всю его подноготную. Даже бесспорно умный смех бывает иногда отвратителен. Смех требует прежде всего искренности, а где в людях искренность? Смех требует беззлобия, а люди все чаще смеются злобно. Искренний и беззлобный смех - это веселость, а где в людях в наш век веселость, и умеют ли люди веселиться? Веселость человека - это самая выдающая человека черта, с ногами и руками. Иной характер долго не раскусите, а рассмеется человек как-нибудь очень искренно, и весь характер его вдруг окажется как на ладони. Только с самым высшим и с самым счастливым развитием человек умеет веселиться сообщительно, то есть неотразимо и добродушно. Я не про умственное его развитие говорю, а про характер, про целое человека. Итак: если захотите рассмотреть человека и узнать его душу, то вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, или как он плачет, или даже как он волнуется благороднейшими идеями, а высмотрите лучше его, когда он смеется. Хорошо смеется человек - значит хороший человек. Примечайте притом все оттенки: надо, например, чтобы смех человека ни в коем случае не показался вам глупым, как бы ни был он весел и простодушен. Чуть заметите малейшую черту глуповатости в смехе - значит несомненно тот человек ограничен умом, хотя бы только и делал, что сыпал идеями. Если и не глуп его смех, но сам человек, рассмеявшись стал вдруг почему-то для вас смешным, хотя бы даже немного, - то знайте, что в человеке том нет настоящего собственного достоинства, по крайней мере вполне. Или, наконец, если смех этот хоть и сообщителен, а все-таки почему-то вам покажется пошловатым, то знайте, что и натура того человека пошловата, и все благородное и возвышенное, что вы заметили в нем прежде, - или с умыслом напускное, или бессознательно заимствованное, и что этот человек неприменно впоследствии изменится к худшему, займется "полезным", а благородные идеи отбросит без сожаления, как заблуждения и увлечения молодости.

Надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе.

- Тем-то и безнравственна родственная любовь, что она - не заслуженная.

Ваша мысль, хотя бы и дурная, пока при вас, — всегда глубже, а на словах — смешнее и бесчестнее.

Тайное сознание могущества нестерпимо приятней явного господства.

Версилов раз говорил, что Отелло не для того убил Дездемону, а потом убил себя, что ревновал, а потому, что у него отняли его идеал!..