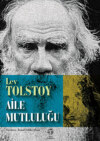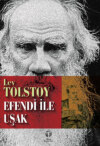«Воскресение» adlı sesli kitaptan alıntılar, sayfa 14

С ним случилось то, что всегда случается с людьми, обращающимися к науке не для того, чтобы играть роль в науке: писать, спорить, учить, а обращающимся к науке с прямыми, простыми, жизненными вопросами; наука отвечала ему на тысячи разных очень хитрых и мудреных вопросов, имеющих связь с уголовным законом, но только не на тот, на который он искал ответа. Он спрашивал очень простую вещь; он спрашивал: зачем и по какому праву одни люди заперли, мучают, ссылают, секут и убивают других людей, тогда как они сами точно такие же, как и те, которых они мучают, секут, убивают? А ему отвечали рассуждениями о том, есть ли у человека свобода воли, или нет. Можно ли человека по измерению черепа и проч. признать преступным, или нет? Какую роль играет наследственность в преступлении? Есть ли прирожденная безнравственность? Что такое нравственность? Что такое сумасшествие? Что такое вырождение? Что такое темперамент? Как влияют на преступление климат, пища, невежество, подражание, гипнотизм, страсти? Что такое общество? Какие его обязанности? и проч., и проч.

Все жили только для себя, для своего удовольствия, и все слова о боге и добре были обман. Если же когда поднимались вопросы о том, зачем на свете все устроено так дурно, что все делают друг Другу зло и все страдают, надо было не думать об этом. Станет скучно - покурила или выпила или, что лучше всего, полюбилась с мужчиной, и пройдет.

Он не спал всю ночь и, как это
случается со многими и многими,
читающими Евангелие, в первый раз,
читая, понимал во всем их значении
слова, много раз читанные и
незамеченные. Как губка воду, он
впитывал в себя то нужное, важное и
радостное, что открывалось ему в этой
книге. И все, что он читал, казалось ему
знакомо, казалось, подтверждало,
приводило в сознание то, что он знал уже
давно, прежде, но не сознавал вполне и
не верил. Теперь же он сознавал и верил.
Но мало того, что он сознавал и
верил, что, исполняя эти заповеди, люди
достигнут наивысшего доступного им
блага, он сознавал и верил теперь, что
всякому человеку больше нечего делать,
как исполнять эти заповеди, что в этом –
единственный разумный смысл
человеческой жизни, что всякое
отступление от этого есть ошибка, тотчас
же влекущая за собою наказание. Это
вытекало из всего учения и с особенной
яркостью и силой было выражено в
притче о виноградарях. Виноградари
вообразили себе, что сад, в который они
были посланы для работы на хозяина, был
их собственностью; что все, что было в
саду, сделано для них и что их дело
только в том, чтобы наслаждаться в этом
саду своею жизнью, забыв о хозяине и
убивая тех, которые напоминали им о
хозяине и об их обязанностях к нему.
«То же самое делаем мы, – думал
Нехлюдов, – живя в нелепой уверенности,
что мы сами хозяева своей жизни, что она
дана нам для нашего наслажденья. А ведь
это очевидно нелепо. Ведь если мы
посланы сюда, то по чьей-нибудь воле и
для чего-нибудь. А мы решили, что
живем только для своей радости, и ясно,
что нам дурно, как будет дурно
работнику, не исполняющему воли
хозяина. Воля же хозяина выражена в этих
заповедях. Только исполняй люди эти
заповеди, и на земле установится
Царствие Божие, и люди получат
наибольшее благо, которое доступно им.
Ищите Царства Божия и правды Его,
а остальное приложится вам. А мы ищем
остального и, очевидно, не находим его.

То, что в продолжение этих трех
месяцев видел Нехлюдов,
представлялось ему в следующем виде:
из всех живущих на воле людей
посредством суда и администрации
отбирались самые нервные, горячие,
возбудимые, даровитые и сильные и
менее, чем другие, хитрые и осторожные
люди, и люди эти, никак не более
виновные или опасные для общества, чем
те, которые оставались на воле, во-
первых, запирались в тюрьмы, этапы,
каторги, где и содержались месяцами и
годами в полной праздности,
материальной обеспеченности и в
удалении от природы, семьи, труда, то
есть вне всех условий естественной и
нравственной жизни человеческой. Это
во-первых. Во-вторых, люди эти в этих
заведениях подвергались всякого рода
ненужным унижениям – цепям, бритым
головам, позорной одежде, то есть
лишались главного двигателя доброй
жизни слабых людей – заботы о мнении
людском, стыда, сознания человеческого
достоинства. В-третьих, подвергаясь
постоянной опасности жизни, – не говоря
уже об исключительных случаях
солнечных ударов, утопленья, пожаров, –
от постоянных в местах заключения
заразных болезней, изнурения, побоев,
люди эти постоянно находились в том
положении, при котором самый добрый,
нравственный человек из чувства
самосохранения совершает и извиняет
других в совершении самых ужасных по
жестокости поступков. В-четвертых, люди
эти насильственно соединялись с
исключительно развращенными жизнью
(и в особенности этими же учреждениями)
развратниками, убийцами и злодеями,
которые действовали, как закваска на
тесто, на всех еще не вполне
развращенных употребленными
средствами людей. И, в-пятых, наконец,
всем людям, подвергнутым этим
воздействиям, внушалось самым
убедительным способом, а именно
посредством всякого рода бесчеловечных
поступков над ними самими, посредством
истязания детей, женщин, стариков, битья,
сечения розгами, плетьми, выдавания
премии тем, кто представит живым или
мертвым убегавшего беглого, разлучения
мужей с женами и соединения для
сожительства чужих жен с чужими
мужчинами, расстреляния, вешания, –
внушалось самым убедительным
способом то, что всякого рода насилия,
жестокости, зверства не только не
запрещаются, но разрешаются
правительством, когда это для него
выгодно, а потому тем более позволено
тем, которые находятся в неволе, нужде и
бедствиях.
Все это были как будто нарочно
выдуманные учреждения для
произведения сгущенного до последней
степени такого разврата и порока,
которого нельзя было достигнуть ни при
каких других условиях, с тем чтобы потом
распространить в самых широких размерах
эти сгущенные пороки и разврат среди
всего народа. «Точно как будто была
задана задача, как наилучшим,
наивернейшим способом развратить как
можно больше людей», – думал
Нехлюдов, вникая в то, что делалось в
острогах и этапах. Сотни тысяч людей
ежегодно доводились до высшей степени
развращения, и когда они были вполне
развращены, их выпускали на волю, для
того чтобы они разносили усвоенное ими
в тюрьмах развращение среди всего
народа.
В тюрьмах – Тюменской,
Екатеринбургской, Томской и на этапах
Нехлюдов видел, как эта цель, которую,
казалось, поставило себе общество,
успешно достигалась. Люди простые,
обыкновенные, с требованиями русской
общественной, крестьянской,
христианской нравственности, оставляли
эти понятия и усваивали новые,
острожные, состоящие, главное, в том,
что всякое поругание, насилие над
человеческою личностью, всякое
уничтожение ее позволено, когда оно
выгодно. Люди, пожившие в тюрьме,
всем существом своим узнавали, что,
судя по тому, что происходит над ними,
все те нравственные законы уважения и
сострадания к человеку, которые
проповедываются и церковными и
нравственными учителями, в
действительности отменены, и что
поэтому и им не следует держаться их.
Нехлюдов видел это на всех знакомых
ему арестантах: на Федорове, на Макаре и
даже на Тарасе, который, проведя два
месяца на этапах, поразил Нехлюдова
безнравственностью своих суждений.
Доро€гой Нехлюдов узнал, как бродяги,
убегая в тайгу, подговаривают с собой
товарищей и потом, убивая их, питаются
их мясом. Он видел живого человека,
обвинявшегося и признавшегося в этом. И
ужаснее всего было то, что случаи
людоедства были не единичны, а
постоянно повторялись.
Только при особенном
культивировании порока, как оно
производится в этих учреждениях, можно
было довести русского человека до того
состояния, до которого он был доведен в
бродягах, предвосхитивших новейшее
учение Ницше и считающих все
возможным и не запрещенным и
распространяющих это учение сначала
между арестантами, а потом между всем
народом.
Единственное объяснение всего
совершающегося было пресечение,
устрашение, исправление и закономерное
возмездие, как это писали в книгах. Но в
действительности не было никакого
подобия ни того, ни другого, ни третьего,
ни четвертого. Вместо пресечения было
только распространение преступлений.
Вместо устрашения было поощрение
преступников, из которых многие, как
бродяги, добровольно шли в остроги.
Вместо исправления было систематическое
заражение всеми пороками. Потребность
же возмездия не только не смягчалась
правительственными наказаниями, но
воспитывалась в народе, где ее не было.
«Так зачем же они делают это?» –
спрашивал себя Нехлюдов и не находил
ответа.

И несмотря на то, что
между ними не было сказано ни одного
слова, во взгляде, которым они
обменялись, было признание того, что они
помнят и важны друг для друга.

Он вспомнил равнодушие
Масленникова, когда он говорил ему о
том, что делается в остроге, строгость
смотрителя, жестокость конвойного
офицера, когда он не пускал на подводы
и не обратил внимания на то, что в поезде
мучается родами женщина. «Все эти
люди, очевидно, были неуязвимы,
непромокаемы для самого простого
чувства сострадания только потому, что
они служили. Они, как служащие, были
непроницаемы для чувства
человеколюбия, как эта мощеная земля
для дождя, – думал Нехлюдов, глядя на
мощенный разноцветными камнями скат
выемки, по которому дождевая вода не
впитывалась в землю, а сочилась
ручейками. – Может быть, и нужно
укладывать камнями выемки, но грустно
смотреть на эту лишенную растительности
землю, которая бы могла родить хлеб,
траву, кусты, деревья, как те, которые
виднеются вверху выемки. То же самое и
с людьми, – думал Нехлюдов, – может
быть, и нужны эти губернаторы,
смотрители, городовые, но ужасно видеть
людей, лишенных главного человеческого
свойства – любви и жалости друг к другу.

Много бы тут надо сказать, но слова
ничего не сказали, а взгляды сказали, что
то, что надо бы сказать, не сказано.

Его
планы, составленные в Москве, казались
ему чем-то вроде тех юношеских
мечтаний, в которых неизбежно
разочаровываются люди, вступающие в
жизнь.

...он почувствовал, однако, что покидает что-то прекрасное, дорогое, которое никогда уже не повторится.

Разговаривать, когда они были одни, было хуже. Тотчас же глаза начинали говорить что-то совсем другое, гораздо более важное, чем то, что говорили уста, губы морщились, и становилось чего-то жутко, и они поспешно расходились.