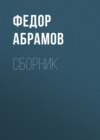Kitabı oku: «Стихотворения и поэмы для 11 класса»
Yazı tipi:
Сергей Александрович Есенин
«Гой ты, Русь, моя родная…»
Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа…
Не видать конца и края –
Только синь сосет глаза.
Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.
Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.
Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
«Я последний поэт деревни…»
Мариенгофу
Я последний поэт деревни,
Скромен в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвой берез.
Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.
На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость.
Злак овсяный, зарею пролитый,
Соберет его черная горсть.
Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить!
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.
Будет ветер сосать их ржанье,
Панихидный справляя пляс.
Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час!
«Не жалею, не зову, не плачу…»
Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.
Дух бродяжий, ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь…
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.
1921
Русь советская
А. Сахарову
Тот ураган прошел. Нас мало уцелело.
На перекличке дружбы многих нет.
Я вновь вернулся в край осиротелый,
В котором не был восемь лет.
Кого позвать мне? С кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив?
Здесь даже мельница – бревенчатая птица
С крылом единственным – стоит, глаза смежив.
Я никому здесь не знаком.
А те, что помнили, давно забыли.
И там, где был когда-то отчий дом,
Теперь лежит зола да слой дорожной пыли.
А жизнь кипит.
Вокруг меня снуют
И старые и молодые лица.
Но некому мне шляпой поклониться,
Ни в чьих глазах не нахожу приют.
И в голове моей проходят роем думы:
Что родина?
Ужели это сны?
Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый
Бог весть с какой далекой стороны.
И это я!
Я, гражданин села,
Которое лишь тем и будет знаменито,
Что здесь когда-то баба родила
Российского скандального пиита.
Но голос мысли сердцу говорит:
«Опомнись! Чем же ты обижен?
Ведь это только новый свет горит
Другого поколения у хижин.
Уже ты стал немного отцветать,
Другие юноши поют другие песни.
Они, пожалуй, будут интересней –
Уж не село, а вся земля им мать».
Ах, родина! Какой я стал смешной.
На щеки впалые летит сухой румянец,
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец.
Вот вижу я:
Воскресные сельчане
У волости, как в церковь, собрались.
Корявыми, немытыми речами
Они свою обсуживают «жись».
Уж вечер. Жидкой позолотой
Закат обрызгал серые поля.
И ноги босые, как телки под ворота,
Уткнули по канавам тополя.
Хромой красноармеец с ликом сонным,
В воспоминаниях морщиня лоб,
Рассказывает важно о Буденном,
О том, как красные отбили Перекоп.
«Уж мы его – и этак и раз-этак, –
Буржуя энтого… которого… в Крыму…»
И клены морщатся ушами длинных веток,
И бабы охают в немую полутьму.
С горы идет крестьянский комсомол,
И под гармонику, наяривая рьяно,
Поют агитки Бедного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.
Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.
Ну что ж!
Прости, родной приют.
Чем сослужил тебе, и тем уж я доволен,
Пускай меня сегодня не поют –
Я пел тогда, когда был край мой болен.
Приемлю все.
Как есть все принимаю.
Готов идти по выбитым следам.
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам.
Я не отдам ее в чужие руки,
Ни матери, ни другу, ни жене.
Лишь только мне она свои вверяла звуки
И песни нежные лишь только пела мне.
Цветите, юные! И здоровейте телом!
У вас иная жизнь. У вас другой напев.
А я пойду один к неведомым пределам,
Душой бунтующей навеки присмирев.
Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, –
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».
«Низкий дом с голубыми ставнями…»
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда, –
Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года.
До сегодня еще мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес.
Восхищаться уж я не умею
И пропасть не хотел бы в глуши,
Но, наверно, навеки имею
Нежность грустную русской души.
Полюбил я седых журавлей
С их курлыканьем в тощие дали,
Потому что в просторах полей
Они сытных хлебов не видали.
Только видели березь, да цветь,
Да ракитник, кривой и безлистый,
Да разбойные слышали свисты,
От которых легко умереть.
Как бы я и хотел не любить,
Все равно не могу научиться,
И под этим дешевеньким ситцем
Ты мила мне, родимая выть.
Потому так и днями недавними
Уж не юные веют года…
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда.
Письмо матери
Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне,
И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.
Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.
Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.
Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.
Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось, –
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.
И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.
Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.
[1924]
Собаке Качалова
Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье лапу мне.
Пожалуйста, голубчик, не лижись.
Пойми со мной хоть самое простое.
Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,
Не знаешь ты, что жить на свете стоит.
Хозяин твой и мил и знаменит,
И у него гостей бывает в доме много,
И каждый, улыбаясь, норовит
Тебя по шерсти бархатной потрогать.
Ты по-собачьи дьявольски красив,
С такою милою доверчивой приятцей.
И никого ни капли не спросив,
Как пьяный друг, ты лезешь целоваться.
Мой милый Джим, среди твоих гостей
Так много всяких и невсяких было.
Но та, что всех безмолвней и грустней,
Сюда случайно вдруг не заходила?
Она придет, даю тебе поруку.
И без меня, в ее уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку
За все, в чем был и не был виноват.
1925
«Спит ковыль. Равнина дорогая…»
Спит ковыль. Равнина дорогая
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.
Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси –
Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси.
Свет луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.
И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревенчатой избы.
По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.
Но и все же, новью той теснимый,
Я могу прочувственно пропеть:
Дайте мне на родине любимой,
Все любя, спокойно умереть!
Июль 1925
Шаганэ ты моя, Шаганэ…
Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому, что я с севера, что ли.Я готов рассказать тебе поле,
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи —
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне…
Шаганэ ты моя, Шаганэ.
1924 г.
Геннадий Айги
Стихотворения
Начала Полян
Из ранних стихов. 1956–1959
здесь
словно чащи в лесу облюбована нами
суть тайников
берегущих людей
и жизнь уходила в себя как дорога в леса
и стало казаться ее иероглифом
мне слово “здесь”
и оно означает и землю и небо
и то что в тени
и то что мы видим воочью
и то чем делиться в стихах не могу
и разгадка бессмертия
не выше разгадки
куста освещенного зимнею ночью —
белых веток над снегом
черных теней на снегу
здесь все отвечает друг другу
языком первозданно-высоким
как отвечает – всегда высоко-необязанно —
жизни сверх-числовая свободная часть
смежной неуничтожаемой части
здесь
на концах ветром сломанных веток
притихшего сада
не ищем мы сгустков уродливых сока
на скорбные фигуры похожих —
обнимающих распятого
в вечер несчастья
и не знаем мы слова и знака
которые были бы выше другого
здесь мы живем и прекрасны мы здесь
и здесь умолкая смущаем мы явь
но если прощание с нею сурово
то и в этом участвует жизнь —
как от себя же самой
нам неслышная весть
и от нас отодвинувшись
словно в воде отраженье куста
останется рядом она чтоб занять после нас
нам отслужившие
наши места —
чтобы пространства людей заменялись
только пространствами жизни
во все времена
|1958|
В рост
1.
в невидимом зареве
из распыленной тоски
знаю ненужность как бедные знают одежду
последнюю
и старую утварь
и знаю что эта ненужность
стране от меня и нужна
надежная как уговор утаенный:
молчанье как жизнь
да на всю мою жизнь
2.
однако молчание – дань а себе – тишина
3.
к такой привыкать тишине
что как сердце не слышное в действии
как то что и жизнь
словно некое место ее
и в этом я есть – как Поэзия есть
и я знаю
что работа моя и трудна и сама для себя
как на кладбище города
бессонница сторожа
|1954–1956|
завязь
(из одноименной чувашской поэмы)
[р. а.]
пускай я буду среди вас
как пыльная монета оказавшаяся
среди шуршащих ассигнаций
в шелковом скользком кармане:
звенеть бы ей во весь голос
да не с чем сталкиваться чтобы звенеть
когда гудят контрабасы
и когда вспоминается
как в детстве ветер
дымил дождем в осеннее утро —
пускай я буду
стоячей вешалкой
на которую можно
вешать не только плащи
но можно повесить еще что-нибудь
потяжелее плаща
и когда перестану я верить в себя
пусть память жил
вернет мне упорство
чтобы снова я стал на лице ощущать
давление мускулов глаз
|1954|
из поэмы о волькере
там в тайниках заоконных лугов
антрацитами светятся
черные дома полустанков
и вечером около рельс
маленькие красные фонари
горят так тихо и сосредоточенно
как будто сидят в них
маленькие Пимены
и тихо и застенчиво пишут
что сказание все продолжается
|1957|
предчувствие реквиема
а вам отдохнуть не придется
и в ясном присутствии гроба его
вам предоставлена будет прохлада
как на открытой поляне
чернеющей и угасающей
как в окружении
деревьев черненых бесшумной корой
и явственней станет чем ваше “мы есть”
образа ясного свет
от которого будут болеть
ваши глаза с проявлением дна
с узкой – надглазной – костью
похожей на тусклый намордник
и станет известно что даже в то время
когда был горяч он насквозь
когда как ребенок был мягок и влажен
когда он хотел на прощанье сказать
три слова последние веры —
и приник ради этого
лицом небывало-доверчивым
к чему-то человеческому —
это и тогда оказалось
вашими руками
и запомним лицо остывающее
и все больше принимающее вид
маски вылепленной будто
руками убийц
|1957|
бодлер
Не вы убивали не вы побеждали
не вашего поля
Недаром вы слушать его не умели
диктовало откуда-то что-то
места своего не имея
и не было будто ни губ ни бровей ни висков
кроме далекого голоса
и неожиданных рук
И даже законы движенья и роста
искали иного служенья ему:
непредвиденным было то место под небом
где все утверждалось как тяжесть
и от всех эта тяжесть его отделяла
как падающее что-то
отделяется от воздуха в воздухе
– И цвета испанского табака
были живы глаза перед смертью
тоскующие по чистоте
рождаемой только разрывом и гибелью
|1957|
ночь первого снега
[г. а.]
ночь первого снега когда телеграфные
залепленные снегом столбы
словно чуть-чуть отошли от дороги
и потеряли колонну свою
и каждый из них —
ведущий
и шлагбаума белые полосы
придвинулись к белым от снега
шпал полосам нарушающим
горизонталь
и в издавна знакомой округе
есть что-то напоминающее
незнакомое пространство
и ограда вдоль дачи поэта
напоминает теперь частокол
перед домом далеким твоим неуклюже
поставленный
в котором засохшем задержана дерева смерть
неким подобьем
намека на вечность —
на большее время чем мы
ночь первого снега когда
ты стал не счастливым не легким а просто
свободным
как это бывает лишь в детстве
и лишь перед смертью
и тем ты свободен что можешь
не быть ответственным даже за веру:
ей уже жить вне тебя своей жизнью
там где пространство особо понятно
как освещенное снегом
за стеклами место на даче
где от сильного света бессильна с утра
женщина понятная сама по себе
и твоя потому что она твоя вера
не зависящая уже от тебя
|1957|
сон-огонь
(утра в иркутске)
[м. м. л.]
Сна начало
с шуршания
дворничьих метел под утро —
будто
по стенам
движение пламени
над головой —
так неуклонно, сурово, шершаво!
Юность-бездомность!..
Сон – словно мыслей потрескиванье
в дружеском доме: в огне.
|1958|
без названия
[и. р.]
а как эта боль появилась?
ты так уходила
как будто от жил отнимала ты руки
и с каждым уходом
они выявлялись все больше
и потом обнаружилось сердце
о котором я просто сказал: “болит”
а где-то покоилось время
существуя как воздух само по себе
и стал я впервые
ему принадлежать
когда я узнал
что я горестный след
твоей обособленной памяти детской
и нынешних снов
во мне без желанья оставленный
во время свечения крови и жил
что и сам я – лишь память
для всех – навсегда – о тебе – перед богом
|1958|
в декабрьской ночи
[н. ч.]
в страхе
как будто в декабрьской ночи
самоосвещаются
в е щ и души
и как говорим “тупики” и “дома” и “туннели”
определяю я это немногое —
когда повторяю:
что общность избравших друг друга
совместность их нищенская —
как разрешенная по недосмотру!
но неотменима
что ежедневно обязан художник
знать о силе и времени смерти
и знать потому: что для правды
не хватит и всей его жизни
что можно быть светлым всегда —
о хотя бы от боли! —
когда эта боль – словно заданная
неотличима от веры
что – как говорящие – теплятся
в е щ и души
в страхе – как в зимней ночи
всю полноту образуя
необходимого ныне терпения
|1957|
к предчувствию реквиема
а как это было?
впервые
вас били в то время —
но – только себя отдирая от вас
а – не нападая
я бился тогда чтоб себя отыскать
в бесформенной массе врагов называемой
временем
чтоб было пространство
для жизни без вас
прошло это время! и стал я свободным
от подаренного мне одиночества —
одиночества – в окружении!
и получил завоеванное одиночество —
самого себя
и место мое оказалось
пустыней где нет никого —
пока утешая могло оно так называться
пока вы не действовали еще окончательно!
и заняты были не смертью самой:
еще не ее матерьялом самим!
а только строительством
сферы для смерти
ее подготовкой
|1958|
куст
…в жизнь я шепчу – как в соседнюю
бесконечность умолкшего леса…
1957
о явное это пространство
между снегом и между нижними верками
крыжовника около ветхой решетки —
в архипелагах
занесенного снегом сада
нет в этом пространстве
признаков тени
и недоказуема
близость редеющих листьев
сперва может быть и была эта тень
и торжеством ее было ее появленье —
видимым словно в растворной воде
сиротством чернеющих веток
но что-то еще требовалось о так это было
этим теням
и снегу хотелось иметь свою тень
на нижних ветках куста
и на всю зиму слились
тень снега и тени веток
и будут всю зиму стараться очнуться —
и очнутся
лишь в середине марта —
о это ощущение
чего-то опасного и разряженного
как перед дверью
некой неведомой лаборатории
о этот великий обморок
существующий при моем существовании
как музыка за стеной
– и перед этим таинством
я человек прошу
помня о тех кто готовит опасное
моему пребыванию здесь:
“о дайте – прошу – немного времени
для немногих слов
о последних в мире кустах” —
о если бы все было жизнью
и если бы смерть исходила от жизни
не у людей я просил бы отсрочку —
но смерть сейчас от тех кто “они”
от людей смертей
|1958|
прощальное
[памяти чувашского поэта васьлея митты]
было – потери не знавшее лето
всюду любовью смягченное
близких людей полевых —
будто для рода всего обособленное! —
и жизнь измерялась
лишь той продолжительностью
времени – ставшего личным как кровь
и дыханье —
лишь тою ее продолжительностью —
которая требовалась чтобы на лицах
от слов простых
возникали прозрачные веки
и засветились —
от невидимого движения слез
|1958|
родное
я должен
дойти губами
до ее беспредельных глаз
и удивлюсь я тогда чуть пульсирующим жилам
на подглазье ее
и пойму что это от их прозрачности
и бестелесности
так светлы и больны
чуть вздрагивающие эти глаза
и полюблю я ее и руками моими и губами
и молчаньем и сном и улицами моих стихов
и ложью – для государств
и правдой – для жизни
и платформами всех вокзалов
где я буду в последний раз
смотреть на горячие черные спины
паровозов на дворах депо
оставляя ее
очередям и убежищам
маленьких страшных городов Сибири
и уезжая от нее навсегда
на бойню людей
моего же века
|1958|
отъезд
Забудутся ссоры,
отъезды, письма.
Мы умрем, и останется
тоска людей
по еле чувствуемому следу
какой-то волны, ушедшей
из их снов, из их слуха,
из их усталости.
По следу того,
что когда-то называлось
нами.
И зачем обижаться
на жизнь, на людей, на тебя, на себя,
когда уйдем
от людей мы вместе,
одной волной,
когда не снега и не рельсы, а музыка
будет мерить пространство
между нашими
могилами.
|1958|
сад в декабре
где-то скрывает он мертвое поле
будто единственное
им охраняемое:
“сад” говорю и не вижу о лучше оставить
их понимающих только себя!
и без призора движенье карниза:
легкий мышиный
пробег по стерне! —
длится невидимое
словно во сне белокамье Карелии:
о скоро:
кренясь постепенно! —
и удаляясь
как будто на льдине:
затылком
случайно отыщется —
для снов через год и для памяти —
девичий столик
под снегом вечерним:
вычурным
детским
|1959|
Отмеченная зима
1960–1961
тишина
Как будто
сквозь кровавые ветки
пробираешься к свету.
И даже сны здесь похожи
на сеть сухожилий.
Что же поделаешь, мы на земле
играем в людей.
А там —
убежища облаков,
и перегородки
снов бога,
и наша тишина, нарушенная нами,
тем, что где-то на дне
мы ее сделали
видимой и слышимой.
И мы здесь говорим голосами
и зримы оттенками,
но никто не услышит
наши подлинные голоса,
и, став самым чистым цветом,
мы не узнаем друг друга.
|1960|
облака
В этой
ничьей деревне
нищие тряпки на частоколах
казались ничьими.
И были над ними ничьи облака,
и там – рекламы о детстве
рахитичных и диких детей;
и музыка о наготе
гуннских и скифских женщин;
а здесь, на постели, на уровне глаз,
где-то около мокрых ресниц,
кто-то умирал и плакал,
пока понимал я
в последний раз,
что она была мама.
|1960|
смерть
Не снимая платка с головы,
умирает мама,
и единственный раз
я плачу от жалкого вида
ее домотканого платья.
О, как тихи снега,
словно их выровняли
крылья вчерашнего демона,
о, как богаты сугробы,
как будто под ними —
горы языческих
жертвоприношений.
А снежинки
все несут и несут на землю
иероглифы бога…
|1960|
дом друзей
[к. и т. эрастовым]
Было совместное
соответствие
дыханья, движенья и звука
в их первозданном
виде.
Надо было уметь не усиливать
ни одно из них.
И во все проникал
свет звука, свет взгляда, свет тишины,
и где-то за этим свеченьем
плакали дети,
и изображало пламя свечи
пересеченья
наших шагов.
И мы находились
в составе жизни
где-то рядом со смертью,
с огнем и с временем,
и сами во многом
мы были ими.
|1960|
снег
От близкого снега
цветы на подоконнике странны.
Ты улыбнись мне хотя бы за то,
что не говорю я слова,
которые никогда не пойму.
Все, что тебе я могу говорить:
стул, снег, ресницы, лампа.
И руки мои
просты и далёки,
и оконные рамы
будто вырезаны из белой бумаги,
а там, за ними,
около фонарей,
кружится снег
с самого нашего детства.
И будет кружиться, пока на земле
тебя вспоминают и с тобой говорят.
И эти белые хлопья когда-то
увидел я наяву,
и закрыл глаза, и не могу их открыть,
и кружатся белые искры,
и остановить их
я не могу.
|1959–1960|
Türler ve etiketler
11. Sınıf20. Yüzyıl EdebiyatıAile ile ilgili şiirlerAskeri servisAşk şiirleriBiyografi ve anılarBüyük şairlerDerlemeDönemin bir portresiDünya edebi̇yati kütüphanesi̇Edebiyat listesi 10-11 sınıfEdebiyat listesi 7-8 sınıfFelsefi̇ şi̇i̇rKısa öykülerden oluşan bir derlemeKlasik şiirLirik şiirModern Rus şiiriOkul kitaplarıOkul programıOtobiyografiOtobiyografik düzyazıOynarOyun ve dramaturjiOzan şarkılarıRus klasiğiRus şairRus şairlerRus şiiriRusya halklarının edebiyatıSavaş hakkinda şi̇i̇rlerSergei YeseninSınıf dışında okumakSiyasi hicivSovyet edebiyatıSovyet klasikleriSovyet yazarlarıSovyet şiiriVatandaşlıkVladimir VysotskyXX. yüzyıl şiiriÇocuklar için kitaplarŞairler, söz yazarlarıŞarkı sözleriŞarkı sözleriŞiirler ve şiirŞiirsel görüntüŞirrlerŞi̇i̇r koleksi̇yonlariŞi̇i̇r kütüphanesi̇
Yaş sınırı:
0+Litres'teki yayın tarihi:
23 eylül 2023Hacim:
2294 s. 7 illüstrasyonISBN:
978-5-17-103285-2Telif hakkı:
Эксмо, ВЕБКНИГА, ФТМ, Public Domain, Издательство АСТ, Издательство «Детская литература», Татарское книжное издательство, Художественная литература, Гилея