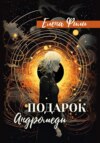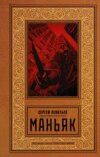Kitabı oku: «Черный хлеб дорог. Русский хтонический рассказ»
Обложка и иллюстрации Алиса Бошко
Предуведомление
«Необычный набор хорошо рассказанных историй. В лучших местах это выглядит как «Платонов встречает Стивена Кинга». Писателя Небыкова приятно читать, он никуда не спешит, у него есть свой глаз и своё дыхание. И есть в его рассказах секрет: подразумеваемое всегда больше сказанного. Поздравляю писателя с удачным и ярким дебютом»
Андрей Рубанов, писатель, лауреат премий «Ясная поляна», «Национальный бестселлер» и др.
«Алексей Небыков работает со словом тонко и профессионально, создавая внутри своей прозы причудливые орнаменты, интеллектуальные лабиринты, из которых читатель выходит с горькими или светлыми (кто как) мыслями о нашей, увы, быстротечной и беспокойной жизни. Писатель дарит читателям мировоззренческое спокойствие и надежду, что есть в мире НЕЧТО, способное нас понять, утешить и простить ТАМ, где каждый из нас рано или поздно окажется»
Юрий Козлов, писатель, главный редактор «Роман-газеты»
«Мир рассказов Алексея Небыкова мрачен и полон неведомого. При этом, зло у автора остаётся злом, а стиль не переходит в стилизацию. Возможно, именно такой и должна быть настоящая русская готика. В рассказах Небыкова языческое внутри человека и вне его становится откровенно опасным, овеществлённо чудовищным. Но выбор всё равно есть у каждого – либо жизнь духа, либо жизнь насекомых. А финал почти каждой истории сборника способен удивить самого искушенного читателя»
Иван Родионов, критик, редактор, обладатель премии «Литблог» от «Большой книги», член жюри премий «Национальный бестселлер», «Лицей» и «Ясная Поляна»
«Посвящается моим родителям, семье и учителям»
Алексей Небыков
Ждана
Но бывает так, что постучится запоздалый путник и, пригретый, забывает, что он пришел на минуту, и остается навсегда.
«Яр», Сергей Есенин
– Все мы затворимся здесь, мама, все скроемся в непробудной тишине. Одиноко и пусто тут у тебя, как и у меня дома. Ведь ты боле не шаркаешь уже под моими окнами, не слышу по ночам хряста попадающих тебе под ноги сучьев, – обращалась к покосившемуся кресту Ждана, раскосмаченная коса ее выбивалась из-под платка, мрачная юбка доставала до земли.
Кладбище, мертвый сон вокруг, однообразные унылые могилы, ни щебетанья птиц, ни огня, ни света, одни обломки жизни. Но что-то тянуло, раз за разом, Ждану сюда, будто тепла в этой промерзлой земле было больше, чем в ее родной деревне.
Солнце скрывалось за лесом, с вечера падал снег. Ровно, неспешно он покрывал все кругом. Внезапно засвистел ветер. Он зашуршал, заговорил о чем-то, обжег Ждане лицо, ободрал руки. Наклоненные черные сосны беспокойно зашумели, кресты затрещали. Покров тишины вдруг наполнился хрипами и шорохами. Тревожно стало Ждане, неспокойно. Засобиралась она домой, простилась с матерью и отправилась в дорогу. У околицы погоста набежала на сдохлую кобылу, испугалась, как в первый раз, и еще пуще прежнего зачастила к дому.
Подбежав к родной калитке, увидела, что защелка отброшена, значит, кто-то пришел, кто-то чужой или, наоборот, близкий. Разросшийся во дворе многолетний граб заголосил ветвями на ветру, встречая хозяйку. Он точно предупреждал ее о людском присутствии. Сердце ее затрепыхалось, дыханье застыло, глаза тыкались по задворкам в поисках человека или хотя бы его тени. Внезапный крик испуганной совы эхом разрезал воздух. Ждана оглянулась, а вновь обратив свой взор в сторону дома, увидела незнакомца. Он стоял в пролете двери и разглядывал ее.
– Какая славная ты, смазливая. Глаза – искрой, брови – вербой, а губы, поди, вязки точно мед, – обратился он к Ждане, снимая шапку и спускаясь с крыльца. В расстегнутой заячьей шубе с просторными рукавами, в широких штанах, заправленных в голенища, с ружьем за спиной, ладный в плечах и в росте, он так же, как и отец когда-то, встречал ее во дворе, и что-то давно забытое затеплилось у нее внутри.
– Ерник ты, как я погляжу! – отвечала она ему, и по щекам ее полыхнул румянец. – Откуда ты такой появился?
– Давно уж брожу по лесу, никак не могу в утишье остановиться. Вот набрел, наконец, на деревню твою, да нет никого в ней, где поселяне-то?
– Ушли все, да сгинули! Бают, что бесталанные мы, али с глазу дурного, али после осуда злого, – и, пристально посмотрев на парня, добавила:
– И ты уйдешь.
– Самдели! А покусакать что-то у тебя есть, красавица?
– Было бы, что кусакать, сама бы не отчуралась, второй день ничего путного не жевала.
– Ну, небось, я тебя прижалею, мы с тобой теперь глухаря зажарим, сей раз ощипаю, выпотрошу, растагарю очаг, и буде нам тепло и сытно!
И он, заулыбавшись, пошел в дом, шумя на ходу и распоряжаясь, точно хозяин.
В доме запахло березняком, трескучий огонь засопел в печке, Ждана затеплила гасницу, расстелила скатерть и поставила самовар. Аромат древесины смешался с благоуханием тлеющих смоляных шишек и расплылся по хате, навевая давно забытые воспоминания о полном доме, заботе и мужском участии.
Ждана ела падко в полной тишине, не роняя ни взгляда, ни слова. Незнакомец с умилением смотрел на нее, выглядел что-то у себя в котомке, сунул в карман и, подойдя к столу, сел рядом.
– Ну, выбирай, – и он рассыпал перед ней ладони, а на них ленты разноцветные, одна румянее другой.
Ждана несмело взяла желтую и спрятала в руке, незнакомец положил на стол еще красную и синюю, остальные убрал и, подмигнув ей, принялся за еду.
– Спасибо тебе за гостинцы, путник, а дорога-то куда тебя ведет?
– Да маюсь по свету я, долю свою ищу, износились и душа, и тело. Кем только в миру не оборачивался: и охотником, и старателем, и бродягой. Да все как-то мимо шло, и нет боле воли скитаться. Обещался вернуться домой, когда опостылеет. Туда и путь держу, – услышала Ждана в ответ, и надежды ее опрокинулись.
Она вскочила, захотела схватить посуду, сбежать из-за стола, но он остановил ее, удержал крепкими руками. Касание его показалось Ждане теплым, обжигающим. Кровь у нее закипела, губы сделались влажными, сердце заволновалось, стало выскакивать из груди. Высвободив ладони, она выбежала из комнаты, где, переводя дыхание, окончательно убедила себя, что незнакомец пришел, чтобы ее оставить.
Путник сел на крыльцо, а Ждана вскоре уместилась рядом. Она часто сидела так сама и смотрела на дорогу, все ждала кого-то, тосковала о чем-то.
– Ну, а ты? Как здесь одна? – заботливо спросил он и будто ненароком дотронулся до нее вновь. Ладони его на морозе остыли, стали холодными, но она не отняла руки, и, прижавшись к нему, заговорила:
– Много дворов полных было в нашей деревне, всего всегда в избытке и в достатке. Не смотри, что лесом село обнесено, мужик наш добычливый, всякий раз не пустой возвращался. Повадился как-то шатун по околотку слоняться, скотину валил, житницы рушил. А один раз на поселянина ночью напал, помял немного, да бросил. Тем и споганил души наши, грех взяла на себя деревня. Вышли охотники, загнали, да ушибили. Хотели было освежевать шатуна, а из утробы его медведята полезли. Что делать? Своротили и их… Да видно, не мирские то были медведи, а заговоренные. С тех пор лихо пошла жизнь наша. Скотина и птица издохли, амбары заполонила шушара, люд стал хворать и сумасбродить. Решили тогда сельчане покинуть деревню, скоро засобирались, да по весне и ушли. Наш двор только остался, мать сделалась хворой. Отец с братом и до того не часто ласкою нас окружали, а тут и совсем истязать стали и требовать. Доставалось мне дюже, до слез, до изнеможения. Мать на поправку не шла, совсем ослабела, не выходила из хаты, все перхала, много молилась. Тогда мужики в путь и пустились, за лекарем, говорили, за подмогой. Я же осталась с больной, да меня и не звал никто с собой – обуза, да хлопоты. Мать скоро целыми днями стала с закрытыми глазами лежать, близко не подойдешь: пропастиной пахнет, протухла вся изнутри. А там как-то ночью пошла у ней горлом кровь, и осталась я сирой. С тех пор много всего утекло, весна прошла, лето сменилось осенью, зима теперь на исходе, а мужиков своих я боле не видала, и ждать уж отказалась, то ли не дошли, да верно, просто покинули. И ты пропадешь… Верно дед говорил, что сила какая-то злобу затаила на меня за красоту мою, да за нрав скромный… – и Ждана заплакала, закрывшись ладонями.

– Ну, буде, любая моя, буде. Вернутся они. Да и я никуда пока не собираюсь. Помогу тебе во всем, доколе я здесь.
– Знаю я баи твои, да и чем помочь мне хочешь? Разя… воды накипятить. Стосковалась я по силе мужской, наколи мне, путник, дров. А то я все чурки невеликие уж повытаскала да пережгла, а с большими мне и несдобровать. Топор принесу, поленница за домом, – и Ждана отправилась в хату.
Вскоре на заднем дворе застучало лезвие. Впервые за долгое время Ждана почувствовала успокоение, какую-то совершенную безопасность. Она водрузила громоздый котел над очагом, напитала его водой, снарядила парню для сна полати, а сама села в полудреме на лавку, ошалев от воспоминаний и давно позабытого счастья.
Могутный стук в окно всколыхнул ее, она кинулась к стеклу, но путника во дворе не увидела. Он входил в хату и, заметив оробевшую Ждану, жахнул дрова на пол.
– Что там углядела, милая?
– Шумнул под окном кто-то. Думкала, ты, ан нет, – и она, закрыв занавеси, продолжила:
– Мерекали в старину в нашей деревне, что по ночам упокойники к домам своим приходят, проведать, все ли там, как было в их времена. Давно никто уж меня не беспокоил. А ты все же не выходи ночью, мало ли что. Настил тебе справила, а я у себя лягу, с водой зарешу только. А ты, поди, устал, отдыхай, – и Ждана, наполнив кувшин, ушла.
– Глупости все это, – бросил он ей вслед. – Небось, не сбегу!
Путник устроился на полатях, загасил лампадку и скоро забылся нерушимым сном. Ему впервые было так ладно в чужом доме, нравно от того, что он нужен и мил…
Ждана обливалась жгучей водой. Теперь ее было в избытке. Наконец-то она отогрелась, и кожа приятно горела, отзываясь на прикосновения. Она тихо и осторожно ласкала себя. Груди ее налились, ноги задрожали, голову повело, тело стало изнемогать от приятного томления. Ждана чувствовала, что что-то вот-вот в жизни ее переменится, и не было ей от этого ни страшно, ни совестно.
Путник спал. Где-то тихо отворилась дверь, комнату наполнили неуверенные шаги, кто-то, обнимая и целуя его, лег с ним рядом. Он пробудился, вдыхая запах душистого женского тела. Виски его загудели, горячие губы, отзываясь на ласку, стали нежить плечи и грудь, руки его загрубелые катились по линии бедер. Ждана задрожала. Разлучив колени, она закрыла глаза, он привалился на нее, руки ее крепко сжали простыню, глубокий стон пробился сквозь ее дыхание, а следом на улице раздался дикий крик одинокой совы. Птица, рассекая крыльями воздух, сорвалась с крепкого граба и устремилась в сторону погоста, заполняя своим движением пустоту окрестностей.
Ждана лежала на спине, губы ее горели, сердце кружилось, все никак не могло успокоиться. Ей хотелось говорить, много говорить, во всем признаться… Ну и что, что совсем и не брат, ну и что, что и не ушел с отцом вовсе… Она просто забудет об этом и не станет вспоминать. А путник останется с ней, будет рядом. И она обняла его за шею, стала целовать, а слезы потоками сбегали из глаз.
– Зоренька моя, ну что ты, что ты. Выспимся нонче, а завтра и в путь заторопимся. Вместе с тобой уйдем. Негоже здесь одной хорониться. Желанна будешь родимым моим – сестре да родителям!
Все опасения ее вмиг рассыпались, все страхи позабылись. Все теперь могла она ему объяснить, все доверить, и она тихо-тихо попросила:
– Не уходи, останься. Ладно-то как, полно-то как нам здесь вместе. Держит меня деревня, одна осталась она у меня. Нет уже близких в живых, поселяне ушли. Да все равно, чувствую, что крепко связалась я с местами родными – с этими стенами, лесом, погостом. Любят они меня, никогда не изменят и не прогонят, больно потерять все это, как могу все это оставить? А теперь и ты есть у меня, а боле ничего и не надо.
– Слушай меня, милая. Пустое ты говоришь, освободись от оков здешних, нет нужды тебе в местах этих, изведут, замают они тебя. А коли хочешь, забирай их с собой, в сердце своем, в памяти. Никогда не забудешь колыбелей своих, никогда не расплещешь их тепла да уюта. Теперь не перечь, как сказал, так и буде. Вскину завтра поутру ружье и тебя с собою присвою. Спи, добрая, спи, – и он прижал к себе Ждану, и крепко поцеловал.
А она застыла в его объятиях в глубокой печали. Пошевелиться не смела, боялась поверить в то, что стены ее родные стали самой большой помехой счастью ее и талану. Но прав был путник, ничего не ждет ее тут кроме погибели, и решила она, что оставит очаг свой утром, скажет ему, что любит безмерно, что пойдет с ним в чужие края и на любые стороны.
Ждана забывалась в сладкой дреме, давно завязавшийся узел в судьбе ее на рассвете будет распутан, все теперь уладится по-другому. Внезапный стук по крыше вмиг растревожил ее. Удары были сперва негромкими, размеренными. Потом несколько раз что-то сильно садануло по кровле. Затем возник скрежет, точно шаркал кто-то наверху туда и сюда, а за ним послышались непрестанные бряканье и стукотня. Жутко стало Ждане, выскочила она из постели, запалила лампадку. Пламень окрасил стены дома, спящего путника и оробелое девичье лицо. Схватила она платье свое затворное и суетливо принялась собирать его на себе. Подбежав к окну, увидела, что началась непогода.
Порывы ветра налетающей грозы захлопали и заскрипели отворенной калиткой, двор пришел в движение, изгородь начало срывать, все кругом зашомонило, заухало и застонало, брызнувший дождь превратился в ливень, забахал и зарокотал гром.
Ждана затряслась, затрепеталась:
– Закрыть, закрыть калитку!
Распахнула входную дверь, выскочила на улицу босиком, протянула руки навстречу дождю и ветру, заслоняя себя от ненастья, и побежала по грязи в сторону истомившейся от скрипа дверцы.
– Мама, зачем пришла, так давно тебя не было? Знаю, что обещала не покидать тебя, знаю! Но жаждет душа расстаться с местами этими. Твоя юдоль это, не моя! Хочу уйти с ним, отпусти меня. Не могу боле тянуть эту нить, порву ее, ненавистную!
Яростный гвалт непогоды внезапно утих, глухо стало вокруг, безветренно. Вспыхнула ослепительно-белая полоса, затрещал, застонал многолетний граб, озарился в мгновенье огнем и упал, разбитый молнией, наземь, а рядом с ним грянулась Ждана.
Очнувшись, она нашла себя распластанной на земле, супротив нее догорал граб, столько лет оберегавший ее от раскаленного солнца. Он и сейчас защитил ее – принял полымя на себя. А теперь, навсегда угасая, согревал ее последним своим блеском. На дворе было тихо, непогода отступила. Опасаясь неладного, Ждана вернулась в дом. Но там все было по-старому: путник сопел на полатях, в комнатах глухо и пусто, лишь небольшой на полу беспорядок. Гроза, сотрясая стены, поскидывала с настилов посуду, горшки и всякий припас. Отцовский серп лежал на полу. Ждана подняла его и села на лавку, зачарованная его блеском.
Уже давно отболело, а он все также ворошил в памяти ее помины об ушедших днях. Она вспоминала маму, как та тешила ее, как заступала от отца и других сельских теснителей. Незабывной была встреча ее с супругом. Жалела она те дни, когда муж полюбился ей, когда проводила она с ним все порожнее время, когда провожала вечера, лежа с ним на сеновале, и слушала всякую от него пустяковину о том какие у нее глаза, коса и губы.
И вот все это, что было так давно, показалось случившимся ныне, и Ждане стало горько от того, что этого уже ничего нет, никогда больше не будет и с ней не случится. Слезы накатились на глаза ее. Ей представилось, что с приходом путника она точно потеряла что-то, жизнь ее, до того тихая, словно оборвалась, и сердце ее заныло от обиды и жалости.
Что теперь ей делать, как связать себя, заставить забыть? И почему он появился именно сейчас, а не когда она мучилась, терзалась, не спала ночей? Зачем пришел в это время, когда она уже никого не ждала, когда смирилась с тем, что жизнь ее угасает здесь, в этой деревне, рядом с мамой? Отчего полюбил ее, зачем привязался? Было бы гоже, если бы просто обманул, да ушагал, не попрощавшись.
Ждана вошла в комнату и села рядом с путником. Томимая разладицей в самой себе, она сперва замыслила задушить, удавить возмутителя своего спокойствия. Но, любуясь в темноте кудрями его, вспоминая сильные, нежные руки его, она позабыла намерения свои, почувствовала снова нежную к нему привязанность, опять захотела оберегать, целовать его.
«А я ведь могу оставить его здесь, даже против воли, против желания», – внезапно подумала Ждана.
Пораженная этой новой нечаянной мыслью, она затаила дыхание, с любовью покручивая древко серпа у себя в руках…
И вот утро неизбежное настало. Ждана отворила дверь, впустила в хату приятный морозный воздух, жизни радовался день, солнце раскрашивало все своими полутонами. Она прошла по свежему снегу к сараю, распахнула высокие непослушные ворота, выкатила оттуда крупные санки, смахнула с них пыль, уложила поверх лопату и двинула с ними обратно к крыльцу. Вскоре рядом с лопатой был водружен куль, что-то крупное, замотанное в простыню и одеяло. Ждана собрала с собой в котомку кое-что из припасов и отправилась в сторону кладбища. Пробороздив санками останки истлевшего за ночь граба, Ждана с удивлением вспомнила вчерашнюю ночь и странные свои помыслы, чуть не сбившие ее с выверенной стези.
На кладбище она вырыла рядом с упокоенной матерью могилу, скатила в нее куль с санок и села наземь, утомившись от пахоты.
– Ну, знакомься, олахарь. Кровники здесь все мои. Матя, батя и муж – тоже тут. Некогда и они в дорогу наряжались, мать одну хотели оставить. Да вот и не вышло. Теперь и ты будешь здесь с ними вечера провожать. Храбрым ты был, не голосил по-бабьему, улыбнулся лишь криво как-то, вздрогнул, да так и замер. Жаль, только имени твоего не узнала, что на кресте-то теперь нацарапаю…
Чертоги деревни Кедрач
Ярый дождь, раскисший подъезд и сбитая по пути птица. Так начинались мои весенние недели в деревне Кедрач, в позабытом доме у кромки леса, где когда-то давно жил мой дед.
В эти дни последней декады апреля здесь должно быть тихо и нелюдимо. Рано было дачникам наезжать-набегать-наскакивать. А постоянных жителей, по рассказам отца, можно было разглядеть лишь по ночам, замечая редкий свет в окнах и едва уловимый туман дымоходов.
Я хотел дописать книгу и надеялся, что мрачный сруб в глуши будет лучшим для уединения местом. Мы не ездили сюда с отцом. Он не любил этот дом и всегда без меня навещал деда. Давным-давно что-то между ними произошло, и отец так никогда и не рассказал мне об этом.
Дожди заливали всю неделю, а еще все дни стоял туман. Я сидел в заточении и писал роман, радуясь, что унылая погода помогает работать и что можно никуда не ходить, ни на что не отвлекаться. Наступило время моих, никому не обещанных, собственных минут.
Ночи здесь тихие. А тут еще и дождь моноторит своим необрывным касанием. Воздух – чистый, не надышаться. Проваливаешься сразу в сон и пробуждаешься утром, точно проспал неделю.
В седьмую ночь по приезде снилось мне, что еду я неспешно по трассе, поворачиваю на Кедрач, а на указателе буквы «ка», «эр» и «че» выцвели и облупились. Новое слово на знаке навело на мысль, что действительно было бы уже хорошо добраться до места и поесть, а то скоро четыре часа без отдыха. Только повернул, ни с того ни с сего занялась непогода: начал заливать дождь, небо замутило, зарокотал гром, запарила дорога. Кромешно стало кругом, темно, вдаль ничего не разглядишь. Фонари не спасают, дворники туда-сюда – не справляются. Вдруг, откуда-то справа, из чащи птица мелкая выскакивает. И прямо под колеса. Видно, хотела проскочить, да не успела. Накрутило ее на колесо и выбросило на боковое зеркало. Останавливаюсь, зажигаю аварийный свет. Дождь сечет, гром распекает. Смотрю, а на зеркале у меня и не птица, а кот смоляной с вороненком в зубах. Пасть в крови, зубы изломаны, хрипит. От этого ужаса я и проснулся…
Стал думать и вспоминать. Ведь было дело, сбил кого-то на подъезде, но не кошку. Точно не кошку, так, птицу скорее, налетел на какой-то пустяк, даже царапин не осталось. Слышу вдруг, кто-то надо мной надрывно начинает мяучить. Точно. Дождь стучит, а наверху кто-то мяучит, не усмиряется.
Выполз я из кровати, достал фонарь, подхватил полено. Тапок не нашел, но можно и без них. Отправился прочь на звуки. Отец прежде рассказывал, что в доме был чердак, там дед устроил дагерротипную лабораторию, где возился со снимками и аппаратурой. Туда, наверное, и пробралась зверина. Дед залезал на чердак через вход над кухней, но отец после странного исчезновения деда этот лаз заколотил. Теперь остался лишь вход с улицы – по дворовой лестнице с боковой стороны дома.
Надо сказать, что дед мой пропал, не оставив ни следа, ни тела. Поиски и опросы ничего не дали – затерялся в лесу, сгинул.
Кот все надрывался, а как безопасно попасть к нему я не знал. За стенами холод, слякоть и темнота. Вокруг дома идти не хочется. Да и жутко ночью. Развернуться можно не так впотьмах, да слететь с лестницы. А вдруг это тот самый перебитый кот-птица до меня дополз. Мысль, конечно, фантастическая. Ну, а если все же он?..
Решил я тогда постучать по крышке лаза в кухне, чтобы, мол, не шумели там наверху. Любая живность напугается. Так и сделал, и мяуканье прекратилось, а я, отложив дело до завтра, плотно затворил дверь в комнату и уснул.
Проснулся ближе к полудню. Дождь все так же поливал. Прислушался, тихо. Пошаркал ногами до кухни, подвигал стул, стукнул по потолку. Ни звука. Наверное, сбежал утром или привиделось. Позавтракал и сел работать.
«Утром на крыльцо пришел здоровенный кузнечик и умер», – настучал я в экран. Начало главы хорошее, только помню, что где-то это уже было. Странная история, про дни в глуши, там еще вроде пострадал кот, и что-то происходило с обитателями деревни… Нет, так нельзя. Писать я и сам могу. И стер предложение.
В тот же миг снова раздалось мяуканье. Значит, все так же сидит наверху… в беде или в засаде. Лезть на чердак придется, иначе не закончить книгу. Накинув промокаемую куртку, нацепив тапки ватные без задника (ничего другого подходящего у меня не было), я подхватил скалку и отправился на улицу.
Аккуратно переступая порог, точно опасаясь раздавить кузнечика, я прошлепал по лужам до угла дома. Снял с крюков подвешенную лестницу и направился к чердачному окну. Прислонив ветхие ступени к дому, стал виснуть на поперечинах. Меня они держали, выстоят и нас с котом. А если зверина будет царапаться, тогда я ее просто сверху аккуратно (если получится) сброшу.
Стал неспешно подниматься, добрался до чердачных створок, сдвинул просов (замок куда-то сгинул), схватился за ригель и распахнул ставни. В тот же миг все стихло. А предметы страсти деда предстали моему удивленному взору.
Дед был одержим дагерротипной съемкой. Кругом стояли, сидели и лежали манекены различных размеров, кондиций и положений. Полуистлевшее от сырости и времени тряпье висело на перекладине вдоль стены. Колбы с неведомыми порошками и жидкостями в окутанных паутиной ящиках виднелись повсюду на полу. Стулья, небольшие креслица, люльки расставлены были там и тут. Разный инструмент и самодельные кронштейны валялись на столе при входе. А в самом центре чердака стояло что-то громадное, широкое, накрытое дымчатым пологом. Я подошел к сокрытому и потянул завесу на себя. Клубы пыли поднялись в воздух. Я зачихал и, прикрывшись рукой, отошел в сторону.
Когда пыль осела, я сумел разглядеть массивное, старинное зеркало. Рама его точно была обожжена и исцарапана, а само лицо поверхности было разбито и замутнено. По всей высоте зеркала через трещины виднелись черные рытвины.
В сохранившихся осколках я увидел что-то под чердачным окном, что-то низкое и широкое прямо позади себя. Предмет без освещения был совсем неприметен. Я подошел к окну, откинул закрывавшие его плотные шторы и обнаружил рабочий стол деда.
На его массивной поверхности лежал дагерр, главный участник страсти деда – искусной съемки. Тут же стояли керосиновая лампа, письменный прибор и покрытые пылью фотокарточки. Проведя ладонью по глади снимков, я увидел бабушку, ее нежное приветливое лицо и привычный, немного застенчивый взгляд. А на втором – разглядел двух мальчиков, отца и его брата, который несчастно погиб, увязнув в иле на озере, в возрасте восьми лет… А еще на одном снимке стоял рослый мужчина в стеганой ватной куртке неясного цвета, в черных брюках и сапогах. На голове его был картуз. Черты лица крупные, сильно развитая нижняя челюсть, большой, резко очерченный рот. Это был мой дед, моя кровь. Хотя, скажу честно, портрет его был уж больно суровым и даже страшным.
Возле стола стояло тяжелое кресло. Резные, уставленные предметами полки нависали над столом. На них разместились пластинки-дагерротипы, журналы, блокноты, письма и два фотоальбома – черного и серого цвета. Наверное, когда-то давно дед долгими ночами проводил здесь время, думая о семье и ссоре с моим отцом…
Я достал серый альбом с заклепками сверху. И, открыв его, с ужасом угадал на первом снимке сбитого кота. Тот же окрас, длина лап, обрез глаз. Только кот на карточке совсем не казался живым. Он лежал в неестественной позе на небольшом столе перед тем самым страшным зеркалом в центре чердака. Тень с дагерром в отражении на снимке, несомненно, принадлежала деду.
Следующие страницы в альбоме были не менее жуткими. Каждая была украшена рельефными окошками, а внутри помещались снимки ветхих домов, комнат и, по всей видимости, их жителей. Разодетые мужчины и женщины сидели на стульях напротив домов с закрытыми глазами, стояли, привалившись к изгороди, лежали парами, тройками, целыми семьями на больших подушках в кроватях. Глаза прикрыты, уста сомкнуты, лица безмятежны. Дети в окружении кукол покоились в колясках, люльках, сидели, взявшись за ручки, на диванчиках. Всех их объединяло состояние нерушимого покоя или, скорее, глубокого сна.
Внезапный с улицы скрип оторвал меня от альбома. Я кинулся к выходу с чердака и через пелену дождя разглядел, как сосед напротив вышел с дровами из сарая. Лохматые космы, заросшее, горчичного цвета лицо. Он шел, будто раскачиваясь, подволакивал ноги, плечи его были перекошены, одно выше другого. Я окрикнул его. Но, увидав меня, он лишь быстрее закряхтел к дому и, хлопнув дверью, скрылся.
Дикая эта неприветливость теперь не казалась мне странной. Другое беспокоило меня. И этот дом, и этого соседа я видел на сонных снимках. Тем карточкам уже более ста лет. А значит подволакивающему ноги невеже – еще больше…
Я вернулся к столу и достал второй – черный альбом. В нем оказались похожие серые, желтые, грязно-зеленые деревенские дома, такие же недвижимые люди, правда, многие из них были сфотографированы неоднократно, точно мой дед искал нужные ракурс, свет, позу, хотел добиться особого эффекта. На последних шести снимках изображалась моя семья. Перепуганная, растрепанная бабушка успокаивала плачущего малыша – моего отца, который всеми силами пытался отстраниться от привалившегося на него, совсем сникшего братика. Все, кроме братика, были не в фокусе. В те годы съемка была долгой и утомительной. Зачем же дед так истомил отца, заставляя позировать?.. Меня вдруг замутило от жуткой догадки. Должно быть, все те спящие в альбомах люди и маленький братик отца были уже мертвы в момент постановки этих фотографических сцен…
От страшной разгадки я выронил из рук альбом, и он, упав на пол, развалился. Собирая фотографии, я обнаружил во внутреннем кармане альбома письмо. Моему деду писала бабушка.
Письмо было отправлено спустя всего несколько дней после гибели братика моего отца. Бабушка извинялась за то, что уходит от деда, и обвиняла в том, что его не оказалось рядом, когда случилась беда, а он так был им нужен. Она понимала его горе от потери сына, но не оправдывала жестокость пытки самых близких, вынужденных испытывать в течение длительного времени боль, запах и страх, участвуя в безумном эксперименте с дагерром, который ни к чему не привел и никогда не мог бы привести. Она сожалела о том, что всегда терпела его причуды: переезд в глушь, жизнь без общества и церкви, глупые запирательства окон и дверей, непременную тишину в доме, бесконечные ночи без мужа, когда тот наверху в лаборатории, а главное, жуткое увлечение посмертной съемкой, которое и привело к столь ужасной расплате – гибели сына. Она осуждала его богомерзкие суждения о возможности пробуждать умерших с помощью съемки и зеркала и не верила в воскресение кота, который, ожив, почему-то никому не показывался.
Этих строк было мне предостаточно, чтобы броситься прочь с чердака, слететь, обдирая руки с лестницы, собрать второпях вещи и покинуть, не заперев дом, деревню.
Дорогу разъело, колеса вязли, несколько раз мне казалось, что никуда от этих мест мне уже не уйти. Дождь все так же засекал в стекло, а серая хмарь закрывала небо. Справившись с распутицей, я добрался до поворота на большую дорогу. И только здесь, на границе с указателем «Кедрач», я увидел слабый луч света, еле-еле пробивающийся сквозь удушливую тьму окрестностей деревни. На мгновение мне показалось, что в отблесках света среди теней примыкающего к дороге леса стоит рослый мужчина в ватнике и картузе. А рядом с ним, сжимая в руках смоляную кошку, – маленький мальчик. Вернувшись в тот день в город, я упал, не раздеваясь, на кровать и проспал в лихорадке не менее недели.

Уже потом, спустя годы, мне удалось разыскать в архивах сведения о своей семье. Мой прадед так же, как и дед, был одержим дагерротипом. Он работал в Европе с известным французским фотографом и воздухоплавателем, который поражал позирующих во время напряженной дагерросъемки разлетающимися из рук электрическими искрами. В те дни посмертная съемка была популярной. Ее доступность в сравнении с живописным портретом позволяла беднякам сохранять редкую наглядную память об усопших. А еще люди прошлого наделяли фотографию мистическим смыслом: кто-то верил, что запечатленные души ушедших будут жить в мрачных портретах, а кто-то, что сделанный вовремя снимок способен обмануть смерть и вернуть из потустороннего мира жизненные силы умершему.
Я нескоро, но дописал роман. Это случилось в день рождения деда. Чувство события захватило меня, и я отправился в город гулять по улицам до поздней ночи. Вернувшись в возбужденном состоянии, я долго не мог открыть дверь, а справившись с ней, повалился спать прямо на пороге.