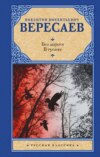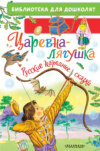Kitabı oku: «Чудаки», sayfa 15
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
«Любезнейшая дочь моя, Софья Ильинична, приключилось у нас великое горе: Алексея Алексеевича нашел Господь в возрасте Сына Царствия Божьего, – помер. Аминь. Ревем, не переставая. Перед смертью язык у него шипел, как в шарманке, – набрались страху. Однако генерал погребен с благочестием. Старуха, Степанида Ивановна, совсем ополоумела. Не знаем, что с нею и делать. Срамотища, – соблазн и грех на всю округу. Монашки мои, дуры, – все языки обтрепали. Народ не столько молиться к нам течет, сколько срамные их рассказы слушать про генеральшу. Видно, за грехи помутилась моя голова, не рада, что и связалась со Степанидой Ивановной. Увезите ее, Христа ради, от нас. В Гнилопятах – поток и разорение, – воруют кому не лень. Простите за глупое письмо сие, примите мое благословение. Настоятельница Чернореченского женского монастыря, смиренная игуменья Голендуха».
Как громом поразило Сонечку и Илью Леонтьевича известие о внезапной смерти Алексея Алексеевича. На другой день после получения письма от Голендухи Илья Леонтьевич вместе с Сонечкой выехал в Гнилопяты, где мучилась, покинутая всеми, сумасшедшая генеральша.
Афанасий и Павлина подняли тогда ночью Степаниду Ивановну, лежавшую на проливном дожде, уложили в постель, укутали, натерли водкой. Генеральша бредила, несла несуразное и соблазнительное.
Всю ночь проскулила Павлина, сидя на своей лежанке:
– Крышка нашей благодетельнице! Ох, Афанасьюшка, прошли наши красные денечки…
Но, к удивлению всех и в особенности доктора, Степанида Ивановна через неделю «околемалась» и даже встала с постели. Маленькое ее личико, до костей иссушенное лихорадкой, огромные в глубине черепа глаза и засохшие полоски губ, не закрывающих десен, показывали, что горит еще в птичьем ее теле огонь и спокойно генеральша не уйдет в землю.
Днем Степанида Ивановна лежала, одетая, на постели, не отвечала ни звука на слезливые словечки Павлины, не пила, не ела. Когда наступал вечер, она вставала, словно поднятая рукой, и, волоча смятое и порванное лиловое платье, ходила по спальне и бормотала:
– На твою душу падет мой новый грех. Ты, ты сам довел меня до отчаяния. Знай – не успокоюсь, покуда тебе не отомщу. – И заламывала руки. – Ах, как двери скрипят! Ах, не могу видеть эти стены!.. Ах, как пусто, пусто!
В тоске она шла по пустынным комнатам. В зале, отогнув на зеркале траурный креп, всматривалась в свое изображение и деловито охорашивалась – и была похожа на маленькую, густо нарумяненную девочку с трясущейся головой, с оскаленным ртом. Ревность, злоба, неутоленные желания изглодали ее, высушили, как корешок. Вся воля ее была устремлена на одно – отомстить.
– Ты нарочно завез меня в проклятые Гнилопяты! Бросил, обманул, и там сейчас тешишься со своей первой… Погоди, погоди! Ты там утешаешься, а я здесь отомщу…
Она вынимала из ларчика драгоценности – колье, фермуары, браслеты, серьги, рассматривала, примеряла и вновь приходила в отчаяние: «Нет, нужны царские сокровища, – затмить в Петербурге всех, всех, чтобы забыли эти морщины, эти года».
Генеральша снова начала прерванные раскопки… После смерти генерала были предъявлены ко взысканию несколько крупных векселей. Приказчик и главным образом Афанасий, орудовавший теперь по всему хозяйству, продали и заповедник и запашку будущего года, уплатили по векселям и сшили каждый себе по кафтану со смушками. Кроме того, оказалось множество мелких долгов. Павлина докладывала о них ежедневно. Генеральша только сердилась, требовала себе денег – золотыми монетами – и ссыпала их на дно ларца. Гневалась она также на дождливую погоду, приостановившую работу по раскопкам. Действительно, вторую неделю шумели в парке и на полях несносные дожди. По дну Свиных Овражков катилась мутная река. Таких дождей не помнили старожилы.
Неожиданно генеральша потребовала у матери Голендухи двух монашенок и усадила их переделывать и обновлять многочисленные, но уже пришедшие в ветхость платья. Тут-то и начался соблазн и разговоры.
Монашенки, уходя ночевать в монастырь, рассказывали о чудесах в гнилопятском доме, о ночных прогулках Степаниды Ивановны, о раскрываемых в зале после полуночи зеркалах, в которые генеральша смотрелась, говорят, даже совсем нагишом, о странных криках в кабинете покойного генерала, о шумах и стуках, о стонах и хохоте, слышном каждую ночь на чердаке, и о многом таком, что передавалось шепотом, и волосы шевелились под платочком у черниц.
Наконец дожди кончились, настали ясные осенние дни. Степанида Ивановна сама поехала на Свиные Овражки и неподалеку от раскопок, в месте, куда все это время сильно била вода, обнаружила глубокий провал и часть обнажившейся древней кладки. Тотчас приказано было рыть. Четыре дня генеральша не отходила от работ и ночевала там в овраге, в нарочно привезенной карете.
На пятый день из-под земли послышался глухой шум голосов, и Афанасий, выскочив из ямы, заорал:
– Ваше превосходительство, нашли!
Степанида Ивановна затряслась в лихорадке, застучала вставными зубами и полезла в яму. Афанасий с фонарем повел генеральшу по узкому, уходящему вниз тоннелю… После множества заворотов тоннель окончился низкой сводчатой пещерой. Здесь было сыро, как в могиле. В глубоких нишах пещеры, под оводами, стояли глиняные горшки; два были разбиты, один валялся на полу… Афанасий, высоко держа фонарь, светил. Генеральша, путаясь в платье, взобралась, как обезьяна, в нишу, ухватилась за край горшка, заглянула, запустила руку туда и вскрикнула пронзительно:
– Пуст, пуст! Ограбили!..
Обхватив горшок, она затряслась, заплакала от злобы и отчаяния. Рабочие охали, разводили руками. Афанасий заглянул в остальные горшки, они тоже были пусты… Затем он наткнулся в углу на зарытый до половины сундук с разбитой крышкой: обшарил его и в пыли и прахе нашел камешек величиною с грецкий орех, поплевал на него, отер, и затеплилась в свете фонаря молочно-розовым светом жемчужина необычайной величины… Степанида Ивановна выхватила ее у Афанасия, зажала в кулачке, хрипло, дико засмеялась.
Степанида Ивановна лежала навзничь на кровати и глядела на жемчужину, положенную около, на черной подушечке для булавок. Под огромным абажуром неяркая лампа освещала грязные простыни и угол подушки, – все остальное было погружено в красноватый полумрак.
Степанида Ивановна боролась с видениями, возникающими, как ей казалось, в живом, то молочном, то алом, то зеленоватом теле жемчужины. Из видений самое страшное было одно, постоянно повторяющееся, мучительное. Видела генеральша мокрое истоптанное поле; в конце его тусклая, вечная полоса заката. Холмики, кресты, холмики и вдруг яма. Ноги скользят, сыплются комья. Нужно прильнуть к земле, чтобы не скатиться. Там, на дне ямы, лежит усатый огромный человек. «Алешенька, – зовет генеральша, – я тебя все-таки нашла. Холодно тебе одному? Что ты какой мерзлый». Кругом нет ничего, нечем согреться, все мокрое, все холодное. А прыгнуть туда, прильнуть – страшно. Тогда вкрадчивым сладким голосом начинает она вспоминать прежние ласки, обольщает его, щурится. И вдруг из-под генерала заструился дымок и вылизнули красные, огненные язычки… Генерал розовеет, скрещенные руки его трепещут… Он шевелится на огне, хочет разлепить глаза, привстать… «Ведь это муки адские», – думает генеральша. И силится оторваться от злого видения, и не может. Генерал подплясывает на пламени, раскрывает глаза. «Алешенька, – шепчет она, – взгляни на меня, мучаюсь». Он глядит на нее и не видит. И чувствует она – нет той силы, какая могла бы соединить их глаза… Уже вся яма в огне, по всему полю танцует огонь, не жаркий, ледяной. И в глубокую яму к веселому генералу стремительно сходит тень… Это та, другая, Вера…
Мечется генеральша на постели, вскрикивает.
– Что, матушка, благодетельница, или головка болит? – медовым голоском спрашивает Павлина.
– Боюсь я смерти, Павлина! Боже мой, как боюсь! Ведь потом будут только муки, муки, муки!.. Нам раз дано жить, насладиться. А потом темнота, холод, ужас!..
У Павлины из головы не шел недавний разговор с генеральшей, которая все повторяла в исступлении и бреду о том, как она ослепит золотом и кокетством какого-то нечеловеческой красоты желтого кирасира и предастся с ним таким излишествам, что Алексею Алексеевичу станет тошно на том свете. Даже сейчас, истерзанная неудачей с сокровищами Мазепы, не отказалась Степанида Ивановна от мысли – отомстить. Она судорожно цеплялась за уходящие часы жизни, ее беспокойство и муки возрастали.
Павлина узнала, что найденная в пещере жемчужина одна стоит много тысяч, и, вынимая ночью для генеральши драгоценности из ларца, прикинула и ахнула: если продать все эта броши, серьги и браслеты да прибавить к ним червонцы на дне ларца – навек можно стать богатейшей барыней… А попадет все это какому-нибудь пьянице офицеру.
Всю ночь проворочалась Павлина на лежанке и утром подъехала к Афанасию, пившему в столовой кофе. (Генеральша просыпалась только вечером, и весь день прислуга в доме делала, что хотела.)
Павлина стала за его стулом, вытерла губы и сказала умильно:
– Счастья твоего желаю, Афанасьюшка, бездольные мы с тобой, безродные… Умрет наша благодетельница – куда пойдем?
– Не знаю, как ты, баба, – сказал Афанасий, закуривая генеральскую сигару и развалясь, – я ничего себе живу, хорошо. А старуха умрет – открою трактир при монастыре. Ты же пошла от меня прочь, видишь, я сигару курю.
– Да я уйду, Афанасьюшка, уйду, коли гонишь. А быть бы тебе барином, не то что в трактире тарелки мыть. В двести тысяч могла бы тебя произвести.
Афанасий посмотрел на Павлину. «Ох, рожа хитрущая у бабы, ну и рожа!» – Рассказывай, слушаю.
– У благодетельницы нашей деньгами и брошками акурат эта сумма лежит. Без меня не видать тебе ломаного пятака. Женись на мне – счастье найдешь, не хочешь – другого отыщу… Вашего брата много туг бегает, – давеча приказчик ко мне подъезжал.
– Ты не грабить ли задумала? Ой, донесу.
Но тут Павлина, присев рядышком, подробно и толково принялась рассказывать все, что надумала за эту ночь. Афанасий, слушая, бросил сигару, потом начал отплевываться и, наконец, хватив бабу по спине, заржал на весь дом.
– Не люблю, сударь, такого обращения, – сказала Павлина. – У меня спина женская. Даю тебе день сроку, подумай и сам решай. Рожа-то я рожа, а ума ни у кого не займу.
К утру Афанасий действительно додумался и поехал в город, где взял себе у парикмахера фрачную пару, парик и накладные усы.
Павлина за это время не отходила от Степаниды Ивановны и, едва генеральша переставала бредить, заводила разговор о каком-то господине Фиалкине, писаном, говорят, красавце мужчине, который собирается заехать в Гнилопяты – познакомиться с генеральшей: прослышал, так и рвется повидать.
– О каком Фиалкине говоришь? О каком Фиалкине? Не знаю такого, – с тоской спрашивала Степанида Ивановна, – разве я могу сейчас принять молодого человека? Дай поправлюсь, пополнею немножко… Отстань от меня!
– Красивый, сытый, на слова бойкий, – шептала Павлина, – увидит женщину – так весь на нее и прыгает, как жеребец… Редкий мужчина… Уж сама не знаю, благодетельница, допускать ли его до вас?
Генеральша промолчала. Затем потребовала зеркало и долго огромными глазами всматривалась в ужасное лицо свое. Без сил уронила руки и сказала, едва слышно, с отчаянием:
– Не вижу ничего, Павлина, – темно. Скажи, не слишком ли я стара?.. Скажи правду.
– И, благодетельница, нечего душой кривить, – не восемнадцати лет… Червоточинка есть, но самую малость, – припудритесь, хоть кого в дрожь вгоните. А я еще лампу приверну, – чистый ангел небесный! В ваши-то года – баба-ягода. С ума его сведем, нашего Фиалкина-то.
– Какого Фиалкина? Ничего я не пойму… Путаешь ты меня, глупая баба.
В тот же вечер в спальне Степаниды Ивановны появился странный господин. У него были черные, густые, как баранья шерсть, волосы и необыкновенно длинные усы. На нем был фрак, красный галстук и скрипящие сапожки. Он прошел из дверей до середины комнаты, снял фуражку с кокардой, поклонился генеральше и раза три топнул ногой, как жеребец, – только что не заржал.
Она приподнялась на локте. «Что это – опять бред? Какой гнусный!» Но поскрипывают сапожки, – ближе, ближе бараньи усы. Господин говорит басоватым голоском:
– Я Фиалкин… Ехал по частным делам, но – вот так штука! – сломался тарантас. Нельзя ли, ваше превосходительство, переночевать у вас?..
С ужасом глядела Степанида Ивановна на господина Фиалкина, не понимала – бред это или сам черт за ней явился?
Он сел на постель, расправив фалды, – впереди всего торчали у него черные усы.
– Так как же насчет ночевки? А кроме того, большой я любитель насчет проклятого… Хи-хи… Насчет этого самого. Хо-хо… Сладкого… Ги-го-го…
Он, как дьявол, зашевелил усами, закрутил носом. Генеральша едва слышно проговорила:
– Кто вы такой? О чем вы говорите? Что вы так странно смотрите?
– Лют я до вашего пола. Ни одной не пропущу. Я мастак. Хо-хо!
– Какой вы страшный.
– Это хорошо, что я страшный. Я до баб, как черт, лютый.
– Так я же старая, что вы…
– Это мы посмотрим. А мне по вкусу.
– Уйдите…
– Нет, грешить – так грешить.
Фиалкин ткнул пальцем Степаниду Ивановну под ребро. Она ахнула и хихикнула. Он ткнул с другой стороны. Тогда она начала смеяться, отмахиваться. Слезы потекли по сморщенному ее личику. Теплая, тягучая паутина поползла по всему телу, затягивала лицо, застилала глаза.
А Фиалкин гудел, ржал, щекотал пальцами. Черные усы шевелились, вставали дыбом. Басок все гудел о каких-то брошках, червонцах… Генеральша ежилась, собиралась в комочек… Не сводила глаз с этого человека. Но он уже расплылся в глазах. Быстро-быстро наматывалась вокруг нее паутина. Это он, огромный червяк, обматывал ее, душил…
– Пустите… Мне душно… – простонала Степанида Ивановна. Фиалкин исчез….
* * *
– Старуха-то помирает.
– Врешь!
– Посинела вся.
– Зачем ты ее сразу-то облапил, надо бы легче.
– Я думал, сразу надо.
Афанасий, стоя за дверью, вытирал потное лицо. Один ус отстал у него, не приклеивался. Павлина, таращась, шептала:
– А помрет – деньги сейчас же брать надо да вещи с брильянтами. Закопаем их в землю – и знать ничего не знаем…
– А власти наедут?
– Ну что ж! И – отопремся. И посидим – выпустят… Деньги-то большие… Ну, иди опять к ней, наскакивай.
– Ой, не могу, противно. С души воротит.
– Иди, говорю, напугай ее хорошенько. Один конец…
Афанасий зашевелил усами, втянул голову, растопырил пальцы и пошел к постели. Но генеральша уже не видела его. Лежа на бочку, она только часто-часто стонала. Крошечное тело ее потрясали мелкие судороги.
– Кончается? – зашептала Павлина, просовываясь в дверь. Афанасий и Павлина сели на кровать, глядели на генеральшу, ждали. Павлина вынула из кармана юбки два пятака – прикрыть глаза покойнице. В это время на дворе усадьбы малиново, весело залился колокольчик.
Афанасий сорвал с себя усы и побежал на крыльцо. Павлина грохнулась около генеральшиной постели и заголосила на три голоса сразу. К дому подкатила коляска, в ней сидели Сонечка и Илья Леонтьевич.
Степаниду Ивановну похоронили. В ларчике ее, среди драгоценностей, было найдено завещание Алексея Алексеевича. По его воле все движимое и недвижимое имущество Гнилопят, в случае его и генеральшиной смерти, переходило Сонечке Смольковой.
Сонечка сказала, что не хочет жить в Гнилопятах. Она просила все в доме оставить стоять на своих местах, как было при генерале и генеральше, и дом закрыть наглухо. С утра до ночи рабочие стучали молотками, заколачивая досками двери и окна. Гулко раздавались удары по пустым комнатам.
В один из этих печальных часов Сонечка сидела у пруда, по-осеннему синего и прозрачного. Осыпались последние листья. Сонечка думала:
«Промчится жизнь. Приду когда-нибудь осенью и сяду на эту скамью. Пруд будет таким же ясным. Наклонюсь и увижу себя, – седые волосы, потухшие глаза. Будут стучать молотки, заколачивая за мною дверь. Как прожить мимолетную жизнь? Как остановить из этого потока хотя бы одну минутку, – не дать ей утечь?»
Сонечка подумала о недолгой женской жизни, о муже, – вздохнула и покачала головой: муж припомнился ей, словно вычитанный из какой-то пыльной книжки.
Долетел из-за рощи удар колокола, – в монастыре звонили к вечерне. Сонечка обернулась и долго слушала и снова опустила голову.
«Нет, этот зов не для меня. Успокоение? Нет!» Тревожно билось сердце, – молило: «Хоть гибели, хоть горьких слез, но жить! жить! жить! Не бродить в сладком тумане, в очаровании, как прежде, но жить! Гореть, как куст, раскинув огненные руки к этому синему небу, к этой печальной земле… Прими, вот я вся взвилась огнями перед тобой!»