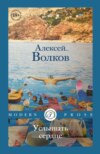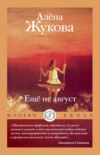Kitabı oku: «Услышать сердце», sayfa 3
Глава вторая
Этим утром Маша сквозь тяжелый липкий сон слышала, как он встал со своего топчана. Слышала, как он пошел в ванну, чистил зубы, что-то бормотал на кухне, открывал холодильник, наверное, что-то ел. Она слышала, как он вышел из дома, но не знала, куда он пошел. Она знала, что он вернется вечером или ночью, может, под утро – злой, пьяный или с похмелья. Ей не хотелось его видеть, не хотелось, чтобы он знал, что она проснулась. Она и не проснулась толком. После того как он ушел, вязкий сон затянул ее, и она открыла глаза потом, когда никого в доме уже не было. Она встала, зная, что одна, не стесняясь наготы, пошла в ванную, почистила зубы, умылась и посмотрела в зеркало с выцветшей амальгамой, похожей на пятна плесени. Отражение было мутное. Она не любила смотреть на себя, особенно теперь, когда за несколько недель здорово похудела и приобрела, как Саня выражался, готический вид. На нее смотрело усталое лицо молодой женщины с совершенно черными волосами, прямым носом, большими глазами и пухлыми губами. Она никогда не считала себя особенно красивой, но всегда пользовалась мужским вниманием, так что, получается, была по меньшей мере привлекательна. Хотя, вполне возможно, дело было в ее фигуре и большой груди, она не могла бы сказать точно. Она разожгла колонку, газ, как всегда, недовольно гавкнул и вспыхнул, и, пока грелась вода, пошла на кухню посмотреть, не осталось ли кофе. Кофе был в шкафу, на месте, растворимый Нескафе, отдававший жженой резиной. Но другого она требовать не могла – и так жила за чужой счет. Она вскипятила чайник, насыпала в надтреснутую чашку кофе, залила кипятком, поставила на стол остывать. Посмотрела в пыльное окно кухни. Все то же. Тот же двор, те же кусты, высокая трава, какие-то синеватые полевые или лесные цветы… День был яркий, солнечный, но сквозь стекло свет становился пыльно-желтым, как старая газета. Выходить на улицу ей не хотелось, но выйти все равно придется. Это можно сделать и позже. Есть тоже не хотелось, вчерашние пельмени, которыми потчевал ее Саня, до сих пор стояли комом в горле. Это была невероятная гадость, полностью соевая, с огромным количеством сливочного масла, которое он с пьяным возгласом «Кашу маслом не испортишь» ухнул ей в тарелку. Но отказываться было… неудобно? Пожалуй, ей было все равно. Она съела все, что было в тарелке, стараясь захватить поменьше масла, и пошла спать. Саня еще сидел на кухне, о чем-то спорил с Викой, предлагал ей «бухнуть нормально», из колонок, кажется, играл альбом Чарльза Мэнсона, первый и единственный, выпущенный на студии. Саня говорил про какую-то работу. Ах, ну да… Работа… Вот куда он с утра отправился. Ну что ж, может, и повезет. Она думала: «Надо бы все-таки попросить у него денег. Ужасно неудобно, но так дальше продолжаться не может. Я чувствую, что скоро просто лишусь сил. Этот дом, он как будто высасывает из меня жизнь. Ах, женские бредни. Ну конечно… Бредни… Может, и так. Но я действительно с каждым днем слабею. Мне нужно вырваться отсюда. Нужно в Москву, в Москву. Надо попробовать опять начать играть. Обязательно нужно. Ах как я играла…» Тут она почувствовала, что потекли слезы. Нет, она не плакала, слезы просто лились сами собой. Ей не было горько или обидно. Она знала, что скоро это само пройдет. Она села за стол, взяла чашку, подула на черную жижу. Сделала глоток. Почти обожглась. Но пить можно. Капля упала в горячий горький кофе. Вылила в раковину, сполоснула чашку. Так же, обливаясь слезами, пошла в ванную. Залезла под душ, взяла остаточки геля, помылась. Достала пену для бритья, прошлась везде бритвой. Опять отметила про себя, что вернулось ощущение, будто она – это не она. Будто она где-то не здесь, дает указания своему телу, что делать, и оно делает. А где же тогда она сама? Странное чувство, неприятное, наверное. Она не могла определить его точно. Просто оно было, и все.
Вытершись полотенцем, она прошла в комнату. Из окна лился все тот же пыльный газетный свет, как и в кухне. Наверное, было очень тепло, раз ее не начало знобить после ванной, ведь холод она терпеть не могла. Но жарко не было. На улице стоит знойный день, это она знала, видела по ярким солнечным бликам на листьях кустов, хоть и приглушенным пылью стекла. Вот только как бы ни было жарко на улице, в доме вечно царила стылость. Маша надела свежую футболку, трусики и джинсы. Старую футболку отнесла в ванную стираться. Лифчик она надевать не стала, но не для того, чтобы кого-то соблазнить, а просто в последнее время ей каждое действие давалось с трудом. Это была не лень, а что-то другое, она знала. Но вот что это и откуда, понять не могла. Почему так? Почему ей все трудно и ничего не хочется? Даже злиться на Саню сил не было, а он подчас будто специально ее изводил. А может, и правда специально. «Да и черт с ним, – подумала она. – Что он есть, что нет его». Она прошла в прихожую, надела шлепанцы и вышла на улицу. Здесь было гораздо теплее, чем в доме. Прямые солнечные лучи не попадали во двор, заросший деревьями и кустами, но воздух был уже хорошо прогрет, и везде, куда ни глянь, зелень. И тишина. Маша постояла у подъездной двери. Что-то она забыла… Ах да, деньги, конечно. Вернулась, нашарила среди своего нижнего белья в шкафу пятьсот рублей, которые выпросила у Вики. Положила в карман джинсов. Вышла из дома и, уже не останавливаясь, пошла по тропе к дороге. А оттуда на станцию. Здесь она зашла в магазин «24», другой вывески он не имел. Стала смотреть, не поменялся ли ассортимент. Не поменялся. Маша взяла две бутылки белого вина по 140 рублей, заплатила еще пять за пакет и пошла домой. Возле магазина к ней пытались пристать какие-то два алкаша со своим вечным: «Сударыня, не составите ли компанию? У нас, если чё, есть», но она что-то тихо пробормотала, опустила голову и побрела восвояси.
Придя домой, она поставила одну бутылку в холодильник, вторую взяла с собой, вышла из подъезда, села на лавочку у столика во дворе, открыла вино и стала пить из горлышка. Вино было тошнотворное, но хотя бы не сладкое. Она подумала, что красные вина по такой цене, наверное, пить невозможно вовсе. Мыслей не было, но и слез не было. Стояла почти полная тишина, и она слышала собственные глотки. «Я попрошу у него сегодня денег, – решила она, когда бутылка опустела наполовину. – Мне нужно в Москву. Мне нужно играть. Ах, если бы вернуть термен… Это было бы уже полдела. Да что ж теперь…» Она сделала еще глоток. Она вспоминала, как стояла на сцене и как смотрела в темный зал, где в слепящем свете жарких юпитеров ей были видны только первые три ряда в танцевальном партере. Как от взмаха ее руки термен пел то пронзительно, то нежно, а порой томно, лукаво, игриво и даже устрашающе. Она могла заставить его говорить как угодно. Она владела им и владела этим залом. Бас-гитарист подстраивался под ее мелодию, клавишник вторил гармониям, которые задавала она. Вокалиста в их группе не было – термен бы затмил любого. Ах как их встречали! Ах как их не хотели отпускать со сцены! Куда все это делось теперь? Как это все ушло, растворилось, а потом постепенно стало казаться нереальным, чем-то приснившимся жаркой летней ночью под утро? Интерес к их проекту угас так же быстро, как и появился. А ведь два альбома, которые они успели записать и выпустить на свои деньги, так и не покрыв расходы на студию, это было только начало. У нее было еще столько идей! Пожалуй, что и вокал можно было бы подключить, Вика, кажется, обещала свести ее с какой-то вокалисткой меццо-сопрано… Ах что теперь говорить! Группы больше нет. Термена тоже. Она сидит в этом дворе совершенно одна и не знает, как ей теперь быть.
Внезапно ей захотелось что-нибудь сыграть. Хотелось музыки, хотя бы скрипки, несмотря на то что скрипку она не любила. Она поставила бутылку на стол, встала, зашла в подъезд, потом в незапертую квартиру, на кухне взяла с холодильника футляр и достала из него скрипку. Вышла на улицу, занесла смычок и стала играть Dignare с вариациями. Звуки, поначалу несмелые, вскоре окрепли и оформились. Водя смычком, Маша замечала, что перебарщивает с акцентами, что за такое прочтение в Гнесинке бы руки оторвали. Плевать ей теперь на Гнесинку. Кто ей теперь будет пенять недопустимостью интерпретации партитуры?
Саня заслышал скрипку, когда уже свернул с дороги на их тропинку, ведущую к дому. Он шел медленно, проклиная тяжелые пакеты, режущие пальцы, злился на Машу, которая сидела и прохлаждалась, пока он тут тащит продукты. Однако вариации знакомого произведения заинтересовали его, и ему стало интересно послушать. Было совершенно очевидно, что Маша уже выпила и теперь сидит, упиваясь жалостью к самой себе. Эта мысль одновременно разозлила и насмешила Саню. Он уже дошел до двора и остановился, поставив пакеты на землю. Маша не видела его, стояла лицом к дому. Скрипка играла транскрипцию вокальной партии, и там, где вокал обрывался для взятия дыхания, обрывалась и скрипка, поскольку аккомпанемента не было. От этого музыка будто не могла взлететь, как птица с подбитым крылом, звук захлебывался, но через полтакта выплывал вновь. Саня слушал, презрительно скривившись, а когда ему надоело, заорал хриплым голосом последние строчки кантаты:
– Спееераавимус интэээ! – И пьяно захохотал: – Машкааа! Кого хороним, бля? Я сегодня богач, отставить нытье!
Музыка оборвалась, Маша повернулась к нему, положила инструмент и смычок на стол и пошла помогать Сане с пакетами. Подойдя, она тихо сказала:
– Привет. Что, удача с работой?
– Потом, потом, все потом, – ответил он.
Маша взяла один пакет, Саня – другой, и пока она шла к дому, он успел смачно шлепнуть ее по заднице. Она никак не отреагировала. Дома она стала раскладывать пакеты на кухне, а Саня немедленно полез в ванну.
– Ууух, ну и жара, скажу тебе, – крикнул он, пуская душ. – Взмок, как сука, пока тащил… Капец. – И чуть позже: – Мааш! Ну заходи, чё… Отмечать начинаем!
Маша бросила разбирать сумки, сполоснула руки в раковине и пошла в ванную. Саня стоял голый, заканчивал вытираться. Маша вошла, буднично сняла футболку, стащила джинсы, опустилась на пол перед Саней и стала сосать его полувставший член, который быстро затвердел, а Саня положил ей руку на затылок и стал ритмично двигать ее головой.
– Ах ты, сучка, вот так, вот так, – приговаривал он.
Маша умела делать минет хорошо, а живя с Саней, поняла, что лучше самой заглотнуть поглубже, чем мучиться рвотными спазмами. Саня же в это время думал, кончить ли ему прямо сейчас, не растягивая удовольствие, или все же потрахать Машу. Он знал, что Маша, мягко говоря, не испытывает к нему нежных чувств и секс с ним – своего рода плата за жилье и еду. Но ему доставляло несказанное удовольствие, когда удавалось заставить Машу кончить. Подумав об этом, он решил так и сделать, вытащил у нее изо рта член, поставил ее раком возле ванны и стал водить головкой члена по половым губам. Слегка раскрыв губы, он увлажнил головку и начал постепенно вводить ее. Маша не издавала ни звука. Когда член вошел полностью, он левой рукой взял Машу за волосы, а правой сильно сжал ее ягодицу. Он стал с сопением вгонять член в нее, представляя как ее по очереди трахают пять кентавров. Это была его любимая фантазия. Маша сохраняла молчание, но по ощущениям он знал, что ей хорошо, что она сейчас возбуждена и тоже, скорее всего, представляет себе какую-то мерзость. Она стала тихонько подвывать и вдруг, впившись в ванну пальцами, резко выгнулась и протяжно вскричала:
– Аххх-ааа!
После чего тело ее обмякло, ноги задрожали, а Саня вытащил член и стал поливать ее спину каплями спермы.
– Аааа, ништяк ваще! – прорычал он и тут же залез в ванну мыться, не обращая на Машу никакого внимания.
Она опустилась на коврик в ванной, села скрестив ноги и опустив голову, ждала, пока Саня вымоется. Когда он вылез, она дождалась, пока он выйдет из ванной, и полезла в душ сама. Маша представляла себе не кентавров. Всякой раз, когда Саня ее трахал, она вспоминала мужчину из своего прошлого. Того, с кем ей было, наверное, лучше, чем со всеми другими. Того, кто стал для нее открывателем нового мира, мира, растворенного в обыденной жизни, невидимого для обывателей, недоступного и неприкосновенного для них. Мира, про который глупые старухи шептались у подъездов, а бульварные газетенки писали заголовки один страшнее другого. Мира, который на самом деле оказался совершенно не страшным, но таким желанным, красивым, долгожданным для нее. Каким стал и этот мужчина – дерзкий, красивый, сильный, бесстрашный. Таким она его видела. Может быть, отчасти он и был таким. Когда он ее брал – властно и спокойно, нежно и уверенно, – она вся трепетала, растворялась в его руках. И потом… Она даже плохо помнила, что бывало потом. Каждый раз это был полет, восторг, это было так волшебно. И теперь всякий раз во время близости с мужчиной в памяти ее, помимо воли, всплывали эти бережно сохраненные воспоминания. Поначалу от них становилось только хуже, потому что с тем мужчиной вряд ли кто мог сравниться. Но Маша научилась их отгонять, переключаться на настоящее. «В конце концов, – думала она, – не так уж у меня много удовольствий. Даже, наверное, совсем никаких. Так не лучше ли отдаться моменту?» И вот уже она попадала в ритм Сани, и пьяный дурман в голове уносил ее куда-то прочь. «Пусть так, пусть так, – думала она. – Пусть сейчас будет хорошо, даже вот с этим, не все ли мне теперь равно».
Вымывшись, Маша вытерлась влажным полотенцем, натянула на мокрые ноги джинсы, надела футболку и тут вспомнила, что оставила скрипку на улице. Она сходила за инструментом, принесла его и бутылку вина в дом, убрала скрипку в футляр на кухне и положила на холодильник. Саня уже сидел за столом, все еще голый, но уже с рюмкой водки в руке.
– Ну, Машка, за новую работу! – сказал он и протянул ей рюмку, чтобы чокнуться.
Она аккуратно чокнулась с ним бутылкой, сделала большой глоток, села за стол на табурет и спросила:
– Ну и что за работа?
Саня выпил рюмку, запил колой, сразу же налил вторую.
– Ой, Машка, не поверишь! – сказал он, морщась. – Заказчик – поп! – Он откинулся на стуле и захохотал. – Прикинь! Прям вот поп! Который с кадилом. А работа – в церковной школе надо стенку в актовом зале расписать. Ерунда на самом деле. Справлюсь. И не такое расписывали. Я с него даже аванс выбил, прикинь?
– Поздравляю, – тихо сказала Маша. – Сань… дай мне денег. Мне очень надо.
– Иии, ни-ни-ни, – замахал руками Саня. – Даж не проси, – сказал он, откусывая от куска копченой колбасы и заедая хлебом. – Ты ж пропьешь все. На хера тебе деньги? Я ж тебе даю периодически. На вино, на сигареты. Чё мало, что ли? Устройся на работу, и будут у тя деньги.
– Сань, я играть хочу, – тихо сказала она. – Играть хочу. Мне очень нужно, пожалуйста. Я отдам, как заработаю.
– А при чем тут играть и деньги? Какая связь? Не вижу связи никакой. – Он махнул еще рюмку и взревел: – Ээээх, крепка ты, советская власть!
– Я уже все обдумала. Смотри. Мне надо походить по тусовкам. Поговорить с людьми. А это клубы. Какие-никакие расходы. Хотя бы на вход. Ну, может, где зацеплюсь. Ну мне надо, Сань! Очень надо!
– Да харэ клянчить, блин! Я чё, против, что ли? Ходи, мути, тусэ-мусэ. Ну начни уроки давать, в чем проблема? И будут деньги, хоть на клубы, хоть на что. У тя чё, аллергия на работу?
– Нет сейчас учеников, Сань. Смотрела, искала. Ну хочешь сам проверь. Нет спроса.
– Ну, – Саня поднял рюмку и выпучил на Машу глаза, – на нет и суда нет. – И выпил.
Маша сделала большой глоток из бутылки. Посмотрела на Саню немигающими пьянеющими глазами. Он посмотрел на нее, не находя что сказать.
– Может, водки лучше? – спросил он.
– Нет, спасибо, – все так же тихо ответила она. – Я вина выпью.
– Смотри только не отрубайся сразу. Ты мне еще понадобишься, – засмеялся он.
– А когда тебе это мешало? – ответила Маша.
Она открыла ноутбук на столе, пошевелила мышкой, экран ожил, и Маша открыла плейлист. Заиграл Marilyn Manson, альбом Mechanical Animals. Маша не то чтобы очень любила Мэнсона, но это был единственный исполнитель, по которому они с Саней сходились. Саня налил еще рюмку.
Глава третья
Для Вики и Сереги это утро началось раньше всех. Они проснулись по будильнику, одновременно встали, застелили кровати и по очереди пошли умываться. Если бы кто-то увидел их выходящих из комнаты тем утром, то, скорее всего, подумал бы, что они брат и сестра. А может быть, муж и жена – одним словом, спортивная семья. Было в них что-то очень близкое. Можно было бы даже сказать, что Вика была женской версией Сереги, чуть меньшей силы, чуть меньшей мускулистости, но идеальной для него парой. Такие люди понимают друг друга с полуслова, действуют как единый организм, без лишних слов и препирательств. Иначе и невозможно, когда люди заняты общим делом, требующим совместных усилий.
Серега вышел из ванной чисто выбритым, умытым, но еще не вполне проснувшимся.
– Перчатки, лапы, бинты не забудь, – тихо сказал он Вике, выходившей из кухни.
– Само собой, – ответила та. – С вечера в рюкзак кинула.
Пока Вика мылась, Серега уже зажег газ и стал готовить на двоих порцию овсянки, варить яйца, поджаривать в тостере ломтики зернового хлеба. На нем были синие спортивные шорты, двигался он легко и плавно, и все его тело было как будто каучуковым, состояло из одних мышц. Сейчас, когда он, плавно перетекая на кухне, ставил на стол тарелки, наливал в небольшие чашки слабый кофе, докидывал в каждую тарелку ложку протеина, можно было четко увидеть трапецию, верхние, средние и нижние грудные, все шесть кубиков пресса, плечевые – ровные шары, рассеченные ближе к бицепсу, как на картинке в учебнике анатомии, сами бицепсы не большие, но идеально прорисованные, венозные, трицепсы – жилистые тросы. Спина была визуально расширена из-за чрезвычайно развитых широчайших и сильно выделявшихся дельтоидов. Ноги его были не раскачены, но квадрицепсы буквально нависали над коленными чашечками, бицепсы бедра – мощные короткие столбы под мелкими ягодицами, икры были будто имплантированы под кожу, смотрелись как нечто инородное на тонких от природы лодыжках.
Вика вышла из ванной, одетая в спортивные штаны и свободную футболку – одежду взяла с собой в ванную сразу, чтобы не бегать обратно в комнату – сразу одеться, – и начать завтракать. Она была коротко стрижена, почти наголо, лицо ее с торчащими ушами, небольшим носом и тонкими губами было скорее мужским, чем женским, и все же что-то женское улавливалось в ее облике. То ли колючий взгляд ее серых глаз, то ли слишком угловатые, какие-то подростковые движения, то ли слишком худые ноги – что-то все время выдавало в ней прежнюю Вику. Грудь у нее и раньше была маленькая, а теперь совершенно исчезла, стала плоской. Отсутствие нормального питания и движений сильно изменили ее тело – плечи узкие, руки худые, жилистые, но торс ее смотрелся скорее единой массой, без прорисовки отдельных мышц, как у Сереги. Кисти рук были совсем небольшие, но видно было, что пальцы сильные, цепкие, тренированные.
И все же некоторое изящество оставалось в этих пальцах. Такие руки бывают у ювелиров, огранщиков, иногда у музыкантов. Живот у нее был впалый, пресс выделялся, но, конечно, не так, как у Сереги. Ягодицы были практически плоскими, а ноги костлявые, с торчащими коленными чашечками и выпирающими суставами ступней. Но все это было заметно, если кто-нибудь захотел приглядеться к Вике повнимательнее.
Двум другим обитателям дома это было делать совершенно ни к чему, они были заняты своей жизнью и ничего вокруг не замечали. Вика тоже старалась их не замечать. Незнакомые люди, как правило, видели в этой девушке спортивного парня, только немного угловатого, с нервными движениями. Черт их разберет этих спортсменов, так ведь? Обколются допингами своими… Лучше подальше от них держаться. Так все окружающие и поступали. И Вику это совершенно устраивало. Весь ее внешний вид, недобрый взгляд исподлобья, полное отсутствие мимики лица не способствовали контактам в обществе. Даже развязные гопники, болтающиеся по вечерам на станционной площади, избегали стрелять у Вики сигаретку, когда она возвращалась домой из Москвы со спортивной сумкой через плечо. Было в ее облике что-то такое, что отталкивало даже самых пьяных и наглых. Такая долго препираться или мямлить не будет. Пырнет ножичком – и пойдет себе спокойно дальше. Нож Вика с собой действительно носила. На поясе, на ремне, у нее был так называемый тычковый нож в пластиковых ножнах. Оружие страшно опасное, а если ударить в шею, то просто смертельное. Но при этом его никак нельзя было квалифицировать как холодное оружие. Да, сейчас никто бы не смог узнать в Вике ту девушку, что училась на параллельном курсе с Машей, но не на скрипача, а на пианиста. Никто бы не мог угадать уже в ее чертах ту любимицу профессора Зуева, того самого, от которого выбегали с экзаменов в слезах. Это ей он однажды сказал:
– Пальцы сильные. Далеко пойдешь, если лениться не будешь. Я такие пальцы только у Рихтера видел, пожалуй.
Она и пошла, но никто бы тогда не мог предположить, куда приведет дорога. И меньше всех она сама. После окончания Гнесинки она даже немного выступала. Пригласили в Колонный зал, на конкурс молодых исполнителей. Готовилась как сумасшедшая, мать очень переживала, что дело кончится нервным срывом. Поджав губы, нахмурив брови, буквально сутками играла, забыв про пищу и сон. Дали второе место. Она не расстроилась, знала, что таким юным и совершенно еще не известным первых не дают. Но поняла, что ее оценили. Это было тогда главным. Вика узнала себе цену, и иногда ей самой становилось страшно от того, какая огромная работа ей предстоит. «Хорошо темперированный клавир» могла сыграть весь наизусть, с закрытыми глазами, на четверть такта быстрее, чем было принято. Так она чувствовала. Так понимала Баха. Ее доводили до трясучки претенциозные исполнения, интерпретации произведений. Для нее было очевидно, что клавир – это математика. Это прежде всего виртуозность. Что слушатель получает наслаждение от клавира не потому, что пианист раскрывает какие-то там образы.
– Нет там никаких образов! Это не «Времена года»! – с жаром доказывала она матери. – Это торжество чистой гармонии, но без соплей, понимаешь? Да как же тебе объяснить-то? Это совсем про другое, это про просвещение, про научные достижения, про освобождение от мрака Средневековья. Ну, как хорошо записанная математическим языком теория. Формулы, понимаешь ты? Формулы!
Мать не могла понять, о чем Вика толкует. Ее радовало, что у дочки все получается, и значит, не упустила она ребенка – вовремя отдала в музыкальную школу, вовремя поняла, что ей нужно.
Нелегко ей далось воспитание дочери. В начале девяностых, когда родилась Вика, она с мужем поднимала бизнес. Гоняли грузы из Владивостока и Польши. Муж отвечал за поиск партнеров и доставку, она – за реализацию по Москве и области. Везли все – японские игрушки, компьютеры, электронные игры, вызывавшие у детей буквально истерический восторг (ну еще бы, это вам не волк с яйцами!), шмотки, бытовую химию, сигареты, алкоголь… Потом муж открыл банк. Небольшой, но стабильный. Долго она не могла привыкнуть к этой новой роли – жена банкира. Но в жизни все оказалось совсем не как в кино. Не было шикарных лимузинов и приемов в вечерних платьях и фраках, не было и загородной резиденции. Хапнули несколько квартир в Москве, две успешно перепродали, другие сдавали. Даже в отпуск вдвоем ни разу не съездили после того, как начали бизнесом заниматься. Все суета, суета… А однажды утром муж просто не проснулся. Она помнила, как пыталась разбудить его и как поняла, что проснулась с мертвым. Ей хотелось кричать, было страшно и больно, хотелось кому-то позвонить, но пришлось овладеть собой, чтобы не напугать ребенка, спящего в другой комнате, зайти к соседке и попросить ее проводить дочку в садик.
Труднее всего было ответить на вопрос Вики: «А почему папа с нами не завтракает?» Ответить спокойно и не разрыдаться.
– Папе сегодня можно поспать подольше, у него выходной.
И только после того, как за девочкой закрылась дверь, она спокойно вызвала «скорую» и сообщила о смерти мужа. Ну а потом… Потом снова был бизнес. И успехи дочери на музыкальном поприще. Способности у Вики обнаружились рано, еще в элитном детском саду, куда ее устроила мать. Воспитательница сказала, у девочки есть талант и его непременно нужно развивать. А для этого нужны деньги. Деньги у матери были. После смерти мужа на себе она поставила крест, не хотелось ничего – ни в отпуск поехать, ни развлечься. Она как будто высохла изнутри. А вот сделать из Вики великую пианистку, а не банкиршу хотелось. Не хотела мать, чтобы дочь повторила ее судьбу. Хотела, чтобы Вику не коснулась грязь и подлость мира финансов, хотела, чтобы доченька была ангелом на сцене. И играла бы ангельскую музыку. Сама-то мать даже в консерватории ни разу не бывала, да и в классической музыке не понимала ничего. Но сама идея, сам образ Вики, выходящей на сцену в концертном платье – непременно в белом, – стал для нее смыслом жизни.
Дочь не противилась желаниям матери сделать из нее суперпианистку, хотя слава как таковая ее не привлекала. Ее завораживал сам процесс игры на инструменте, разбора новых произведений, очаровывал момент перехода от несвязного треньканья к плавному музицированию. И еще ей всегда хотелось понять, для чего создавалось произведение, что чувствовал композитор, чем хотел поделиться с потомками, о чем рассказать в музыке, самом абстрактном искусстве на свете. И потому играла Вика страстно, лихо, мастерски, не механически повторяла записанное в партитуре, а как будто разговаривала со слушателями, передавая им то, чем хотел поделиться давно ушедший человек, обессмертивший себя в музыке. Так она и выросла за роялем. Друзей как таковых у нее не было, да оно и понятно – вундеркинды лишены детства, обычная история. Постоянные репетиции, выступления, поездки на конкурсы и снова репетиции по много часов в день. Каждый день. Вика не тосковала по играм и дружбе. Играть на рояле ей было куда интереснее, чем играть с подругами. Ну а потом она выросла и уже не представляла себе иной жизни.
Вот только смущало мать то, что Вика в ее возрасте до сих пор не интересовалась противоположным полом. Мать тактично спрашивала, нравится ли ей кто-то из мальчиков, есть ли кто на примете, и сама понимала, что со взрослой девушкой, уже не школьницей и даже не уже студенткой, такие разговоры вести глупо. Но Вика не видела в этих вопросах ничего странного, поскольку с детства привыкла делиться с матерью всем, что было на душе. Отвечала честно, что пока никакие мальчики ее не интересуют, что с ней все нормально, просто сейчас для нее самое главное – музыка. Мать успокаивалась, понимала, что сама в свое время перегнула палку, пытаясь вырастить из дочери вундеркинда, и вот вам результат – играет как заведенная, занимается буквально до изнеможения. Ну а мальчики… Это дело нехитрое, появится кто-то. Появился Костик. Флейтист. И жизнь посыпалась. Вика влюбилась в него сразу же, как только увидела на репетиции. Играли Рахманинова, у Вики даже не была ведущая партия – элегия была больше для флейты, в ней вся суть была. Но вот тогда впервые в жизни, после того как суетливый и вечно восторженный концертмейстер, обожавший Рахманинова, сгорая от нетерпения, затараторил: «Ну-ка попробуем, попробуем. Костик, вы уж постарайтесь. Вика, не сочтите за труд, подыграйте нам. Да, да… Вот-с, ноты. Прошу вас. М-да. Пожалуйста… Иии…», тогда она впервые не смога сыграть. Несколько раз путала клавиши. В ноты не смотрела – только на него. А потом она не слышала даже, что говорил этот толстый лысый дядька. Так, кричал что-то, ругался, пыхтел как паровоз. Костик был смущен, заступился за коллегу. Вика и не помнила точно, что Костик сказал. Помнила голос. Нежный, почти детский… Да и сам он был похож на ангелочка – кудрявые светлые волосики, синие глазки, длинные реснички, сам весь гибкий, почти что хрупкий, пальчики детские, с прозрачными ноготочками. Вика так его сразу про себя и прозвала: Ангелочек.
Не имея никакого опыта общения с мальчиками, Вика сама подошла к Костику после репетиции, спросила, не хочет ли он пойти в кафешку выпить кофе. А вечером она уже была в его объятиях и даже почти не волновалась, хоть все это было впервые в жизни. Вика была так счастлива, что все это случилось именно с ним, с Ангелочком, что простила ему даже бестактное замечание по поводу ее плоской груди. Вообще особого энтузиазма с его стороны Вика не заметила. Но что она может понимать в мужчинах, если она и целовалась сегодня впервые в жизни, не говоря уж о…
А через неделю по дороге через сквер на репетицию она увидела в сквере на лавочке Костика с другой. И та, другая, смеялась, запрокинув лицо и открыв рот, а он что-то шептал ей на ушко и своей ангельской ручкой сжимал ее бедро. Вика быстро пробежала мимо, не стала устраивать сцену. Да и не могла она ничего устроить, не знала, как это делается, как полагается себя вести в таких ситуациях. А потом, поймав его в коридоре, тихо спросила, глядя в глаза:
– Как же это? Ты с ней… на скамейке… Я видела! Что же это?
А Костик рассмеялся и ответил, даже не смутившись, даже не пытаясь отпираться, что это ничего такого, что он вообще за свободные отношения, да и вообще не понимает, чего это Вика себе напридумывала.
– Напридумывала. Напридумывала, – шепотом повторяла она, застыв в коридоре.
Играть она больше не могла. Сбивалась с ритма, путала клавиши. Это началось на следующий день. И больше не прекращалось. На первый раз концертмейстер просто отправил ее с репетиции домой, сказал, чтоб в таком состоянии она больше не смела появляться. Она пришла домой не сразу, долго ходила по городу, чтобы не волновать мать ранним появлением, если та будет дома. Но на другой день все повторилось, и она пришла домой и рассказала матери, что больше не может играть.
– Боже мой! Как не можешь! Что случилось? – затараторила мать.
Вика спокойно ответила:
– Я больше не хочу жить. – И замолчала.
Не помогали ни крик, ни истерика, ни угрозы, ни оскорбления. Она не отвечала. Обратились к психологу, потом к психиатру. Тому удалось кое-как разговорить Вику, хотя бы выяснить обстоятельства, ставшие триггером депрессивного расстройства. Но вылечить не удалось. Самое страшное было в том, что Вика практически перестала есть. Психиатр всерьез говорил о принудительном кормлении.