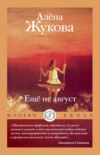Kitabı oku: «Всё, что помню», sayfa 3
В редакции предупредили, что характер актрисы не простой, она давно предпочитает общаться на английском, хоть и владеет русским. Алёна упаковала диктофон, просмотрела еще раз вопросы и запись спектакля. Актриса была, несомненно, талантлива. Вот только в интернете практически не было сведений о ее детстве, словно ее биография начиналась с того момента, когда она стала женой известного британского режиссера и продюсера. Хотя кое-где вскользь упоминалось, что у актрисы русские корни и что она родилась в Ленинграде.
Несмотря на «пугалки» по поводу тяжелого характера звезды, Алёна летела на интервью со всех ног. Ей очень хотелось поговорить с актрисой, узнать помнит ли Нинель Маклауд свое детство, проведенное в СССР, кем были ее родители, училась ли она в советской школе, чем занималась.
Все разрешилось буквально в первые минуты, когда Алена, вбежав в гримерку актрисы, чуть не упала, засмотревшись на красивую рекламную афишу нового спектакля. На ней, среди космической россыпи звезд, угадывались две человеческие фигурки, летящие в пустоту. Под плакатом в кресле сидела Нинель. Она разговаривала по телефону и смеялась. Этот смех был тем самым, малиново-лимонным… Алёна улыбнулась и, удивившись собственной дерзости, спросила актрису: «Нелля, ой, простите, миссис Маклауд, а вам никогда не приходилось перелетать с крыши на крышу, снимаясь в кино?»
Миссис Маклауд удивленно взглянула на журналистку и улыбнулась:
– Увы, – ответила она на русском, – но очень хотелось. Когда-то, в далеком детстве я жила в приморском городе во дворе с красивой беседкой. Мне тогда рассказали про маленькую девочку, которая не боялась прыгать с крыши этой беседки. Я бы так не смогла. Ужасно боялась высоты. Мне было стыдно, обидно, что я такая трусиха. Очень хотелось спросить эту девочку, как она это делает, но не решилась. В результате все трюки в том кино сделали за меня каскадеры. А та девочка, случайно не вы? Всю жизнь мечтала с ней познакомиться…
Глава 3. Бабушка
Она главная, на ней держится дом. Евдокия, Дуся, Дука… Дед Василий – алкоголик и буян – грозится уйти к любовнице, что и делает на старости лет. После этого вскорости умирает.
Дочь Надя (моя мама) – официально мать-одиночка. Работает фильм за фильмом, не останавливаясь. При слове «простой» – траур в семье: мама единственный добытчик. Бабушка, как настоящая одесская хозяйка, может сделать из одной курицы обед из четырех блюд, а из мелкой рыбешки – пиршество для семьи и соседских котов. Из муки, воды, яйца и постного масла у нее получается нежно-упругое тесто для вертуты с абрикосами. Абрикосы можно не покупать: перезревшие до медовой мякоти, они падают с деревьев во дворе, а те, что висят повыше, – добыча для лазающей братии. Мне нравится карабкаться на дерево, а еще больше – с него прыгать. Старая шелковица с чернильными ягодами – моя взлетная площадка.
Бабушкиными стараниями мы всегда сыты, хотя денег в семье не хватает, но самое печальное не это. После смерти начальственного деда нас собираются «уплотнить». Наша квартира может стать коммунальной. Под этим дамокловым мечом мы живем довольно долго. Забегая вперед – только с приходом на Одесскую киностудию директора Геннадия Пантелеевича Збандута нас оставят в покое. Он прекратит всяческие посягательства. А пока мудрая бабушка, чтобы отвести завистливые взгляды соседей, приглашает пожить у нас близкую и дальнюю родню. Готовит она теперь в три раза больше, но от этого в сто раз счастливее. Как же нравится ей кормить всех вокруг! Она любит вспоминать веселую историю, как в двадцатые, когда деда послали в Красноярск восстанавливать хозяйство после разгрома Колчака и проводить партийные чистки, поехала с ним и сразу включилась в работу по созданию общественных столовых. В те времена ей только исполнилось двадцать, но уже на руках был маленький ребенок – мамин старший брат Костя. В ту столовую, где она работала, захаживал худющий старик. Он представился Суриковым (хотя знаменитый Василий Суриков лет шесть, как умер). Возможно, этот человек был однофамильцем или кем-то из родни. Бабушке было все равно, знаменитость или нет. Суриков, так Суриков… Она подкармливала его, приглашая домой, а он в благодарность написал ее портрет. «Я этот портрет от глаз людских подальше спрятала, – признавалась бабушка, – так этот художник чуть ли не до слез расстроился и пришел со своими картинами узнать, какую из них я бы на стену повесила?» Когда бабушка об этом рассказывала, то смеялась так, что ходил ходуном ее большой живот, а на глазах выступали слезы: «Чтоб он был здоров! И где он видел, чтобы яблоки синие, а груши фиолетовые? Я ему прямо сказала – такое не повешу. Попросила коврик с лебедями нарисовать. Скатерть старую дала. Получилось красиво, только опять: лебеди на себя не похожи – шеи длинные, перья розовые… Думаю, не здоров был человек – все не как мы видел…»
Увы, эти шедевры она не сберегла. Кем на самом деле был этот художник – неизвестно. Известно то, что когда она уезжала из Красноярска вместе с мужем, сыном и родившейся там дочкой, художник уже не был «доходягой» – крепко жал ей руку да и не выглядел больше стариком. Откормила!
Но как же ей не повезло с внучкой: я почти не ем. Если удается затолкать в меня котлетку – это удача. Даже к монпансье и к мороженому на палочке безразлична. Доходит до того, что доктор срочно прописывает рыбий жир и гематоген из-за низкого гемоглобина. Я закрываю рот капитально… Мама негодует, родня волнуется, бабушка терпеливо ищет выход. И находит: алоэ, орехи, изюм перемолоть, залить кагором и давать по ложке перед едой… Помогло, еще как! Появился аппетит, а уж кагор люблю по сей день.
Я не единственная внучка – у бабушки есть еще внук Витька, но она его почти не видит. В семье ее старшего сына Константина большие проблемы: Костя, как и дед Василий, пьет… Жена его бросила и запрещает Витьке видеться с бабушкой, считая, что она потакает отцовскому пьянству. А бабушка просто не умеет по-другому – не может выгнать пьяного сына из дому, она его жалеет…
Костя начал пить после войны – после того, как был откомандирован в Северную группу войск на территории Польши под руководством маршала Рокоссовского. Наша фамилия Яворские. Как и Рокоссовские, это фамилии старых шляхетских родов. Вряд ли у деда была дворянская кровь, а если и была, то прокисла, но про то, что Василий поляк, в доме – молчок. Иногда слышу, как ругаются сын с отцом на незнакомом языке, словно шипят друг на друга, а потом на кухне Костя заплетающимся языком жалуется бабушке: «Всю жизнь мою испоганил! Отец, называется… Да он хуже врага! Разве я бы уехал из Гданьска, если бы не он? Очко сыграло. Помнишь, как он орал после покушения на Рокоссовского, что поляки нас всех перережут? А он кто – не поляк, что ли? А ты? Ты почему его не остановила, когда он приказал мне вернуться в Одессу? Жили бы там, как люди. А так… Какая Одесса? На Кушку послали, в задницу… Да это хуже любой войны было! Вот вы все прицепились с выпивкой, а кто меня спросил, с чего это я запил и хочу ли вообще жить?»
Бабушка плачет, жалея сына, и подливает ему крепкий куриный бульон с клецками. Он роняет ложку и тянется к бутылке, которую принес с собой. Мама всегда безошибочно определяет по запаху перегара, что заходил брат, и требует, чтобы бабушка не пускала его на порог, если тот выпил. Бабушка кивает, и делает по-своему. Чтобы не раздражать дочку, прячет бутылки, проветривает квартиру, отмывает туалет и укладывает пьяного сына спать в своей комнате. Весь трельяж и сервант уставлены Костиными фотографиями. Вот только послевоенные из Польши она не выставляет, но мне показывает. На них красавец с ямочкой на подбородке в форме офицера польской армии сидит верхом на пушке; марширует, отдает честь старшему по званию; обнимает счастливую жену, которой тоже очень нравилось жить в Польше. По секрету бабушка признается, что не осуждает мужа за то, что настоял на возвращении сына из Польши. Вот как бы она жила без Костеньки?
Я утыкаюсь носом в ее большой теплый живот и понимаю, что такое жалость: это когда прощаешь любимым людям все, даже очень плохое, и когда не противно обнимать их, пахнущих водкой, подтирать за ними мочу и блевотину, как делает она, подтирая за мужем и сыном…
Родилась бабушка в 1903 году в Одессе. Она была девятой в семье рабочего мясокомбината Степана Шумилова. Мать вскоре умерла, а братья решили после первой революции бежать в Канаду. Украинцев всегда привлекала эта страна. Хотели забрать младшую Дусеньку, но отец не дал. Родилась она на Евдоху – в середине марта. В это время бывает снежно – говорят, что Евдоха перины трясет. Вот и ее трясла жизнь, испытывала на прочность, но не сломала. Характер у нее был твердый как кремень, но такой, как если бы камень поместили в подушку, полную лебяжьего пуха. Мягко тронешь – не заметишь, а если надавишь – сразу почувствуешь. Она – единственная из детей, кто взяла на себя заботу о старом отце. Мой прадед Степан дожил до глубокой старости. Бабушка рассказывала, что он выпивал стакан свежей бычьей крови после разделки туши – так делали иногда мясники, особенно в голодное время. «Зато румянец у него был на пол-лица! И дожил до ста лет…» – приговаривает она, пытаясь запихнуть в меня котлетку. Я разеваю рот от ужаса – пить кровь! Прадед был вампиром! Даже его фотографии боюсь. На ней он вылитый Лев Толстой – борода, нависшие брови. Подсознательно переношу это отношение на классика. Душа долго отвергает его книги, особенно детские рассказы.
Кстати, про чтение… Было тогда такое определение – малограмотный для людей, кто мог с трудом читать, но не умел писать. Вот это ее случай. Она стыдилась, и время от времени я заставала ее с прописями. Надо сказать, что к началу школы я тоже едва знала буквы. Некому было заниматься моим образованием, пока этого не заметил наш сосед дядя Саша Аренберг. Те, кто читал книгу Константина Паустовского «Время больших ожиданий», могли запомнить эту фамилию. Александр Анисимович Аренберг был репортером газеты «Одесские новости», а потом и многих других – «Моряка», «Правды».
А тогда, в шестидесятые, Аренберг живет в нашем доме этажом выше, и он мне нравится. Нравятся его смеющиеся глаза, тихий голос, неспешная манера ходить, говорить. Нравится, как он одевается, хотя чаще всего закутан в байковый полосатый халат: мерзнет. Бабушка, завидев его, справляется о здоровье и, хитренько прищурившись, приглашает зайти «снять пробу», вкусно ли получилось у нее на этот раз, – он ведь знаток. Это, конечно, уловка, чтобы заманить и накормить. Аренберг заходит. Ему особенно нравятся ее котлетки из мелкой ставридки. Дед запрещает бабушке пускать соседа: «Сидевшим по пятьдесят восьмой тут не место!», а бабушка плюет на запреты…
Именно Александр Анисимович Аренберг занялся моим просвещением – научил бегло читать и дал интересные книги. Имя Паустовского я услышала от него. До сих пор это мой любимый писатель. Его рассказы и сказки для детей понравились больше, нежели «бородатого», которого мы проходили в школе. Я так и не простила ему слезы мальчика, съевшего сливы.
Наша квартира на первом этаже дома не закрывается, а на кухне вечно кто-то сидит. Но чаще всего на кухне сижу я, пытаясь «помочь» бабушке. По доброте своей она меня не прогоняет, хотя явно мешаюсь под ногами, а дед брезгливо морщится, заявляя, что не прикоснется к еде, если эта байстрючка не выйдет из кухни… Бабушка тихонько посылает его куда подальше. Она никогда не сквернословит, но слово «дупа» («жопа» на польском) – специально для мужа.
На кухне становится очевидно, что еда меня не любит, как и я ее, хотя процесс приготовления мне очень нравится. Я никак не могу понять, как так получается, что у бабушки лепестки вареников склеиваются, как положено, а вишневый сок из них не просачивается. Но больше всего мне нравится процесс разделки курицы, которую бабушка приносит с Привоза. Внутри курицы оказывается столько интересного: желудок, покрытый изнутри перламутровой кожицей, а в нем всегда, кроме зерен, еще камушки и песок; воздушные мешки, которые мне разрешается проколоть; сердце, похожее на клубничину… Все это бабушка называет потрохами и бережно собирает, чтобы сделать вкуснейшую фаршированную шейку. Для этого с горлышка курицы, как перчатка, снимается кожа.
Я мечтаю: вот вырасту, буду сама разделывать курицу. Но, когда выросла, курицы уже продавались, разделанные кем-то другим, с вложенными в них потрохами, запечатанными в целлофановые мешочки. Знаю даже хозяек, кто безжалостно потроха выбрасывает, но тогда в дело шло все. И самое удивительное – все было вкусно.
Коронное блюдо, которое бабушка делает к приходу своей закадычной подруги Раечки – слоеный пирог. Начинка может быть любой, но чаще – клубника, абрикосы и айва. К приходу Раи дом благоухает, расстилается белая накрахмаленная скатерть, выставляется чайный сервиз и раскладываются мельхиоровые ложечки. Что за такая важная птица тетя Рая – я не знаю. Иногда мне кажется, что она бабушкина сестра, так они похожи. Обе – толстушки с карими глазами-буравчиками, у обеих ямка на подбородке, вот только у Раи «короной» черные как смоль косы, а у бабушки тоже коса, но рыжая с проседью, собранная на затылке в «дульку». Рая иногда приходит с особенными подарками. Ей из Америки брат присылает посылки. Как они доходили в те времена, не имею понятия, но помню, что мама радуется невероятно Раиным вещичкам. Даже мне перепадает иногда что-то вроде красивого кулечка или блестящей ленточки. Откуда такая щедрость Раи, я не понимаю.
Однажды застала бабушку и Раю, сидящих в обнимку. Рая ловит бабушкины руки и тянет их к губам, а бабушка отмахивается и причитает: «Да брось ты… А как же иначе? Ты одна с детьми, а вокруг фашисты… Но как же мы их тогда обдурили!»
Как-то раз Рая пришла без предупреждения. Это была уже середина семидесятых. Никакого пирога бабушка не испекла. Слышала, как они ссорятся, как плачет Рая… Это была их последняя встреча. Рая с детьми уехала к брату в Америку, а бабушка ей этого не простила.

Слоеный пирог
Первое тепло втянуло в себя еще не настоявшиеся запахи лета. Заклубившаяся по придорожью трава, густо присыпанная лепестками отцветающих вишен, заправила воздух пряной горечью, начисто вытеснив прокисший дух отсыревшей земли. После майских ливней все вокруг набухло и сочилось, как слоеный ягодный пирог, который баба Вера пекла по большим праздникам. Сегодня как раз был такой день – день рождения внука Сережи. Мальчику перевалило за тридцать. Он защитил кандидатскую диссертацию по прикладной математике и принялся за докторскую. До последнего времени жениться не спешил, был домоседом, сластеной и книголюбом. Вера Егоровна гордилась внуком, одобряла его холостяцкий образ жизни и не разделяла страхов дочери Антонины, что Сереженька засиделся.
– Дело большое, – цедила она сквозь зубы в ответ на истеричные всплески Тониных стенаний. – Успеет еще, чай, не девка, чтобы с годами в цене падал.
Тесто для пирога замешивалось как-то неохотно – липло к рукам, собиралось в комок, и баба Вера знала, что это неспроста.
– И что это за имя такое – Майя? – бурчала она под нос. – Все равно что Марта… Ведь не русское же. И фотографию не показал, небось носатая и очкастая…
Все это имело отношение к девушке, которая должна была прийти сегодня вечером в их дом, сесть с ними за стол, есть этот самый пирог и знакомиться с мамой и бабушкой Сергея. Ясно для чего – невеста. Об этом внук уже объявил, и на ее памяти она – первая, кого он решил привести на смотрины.
Тоня суетилась возле стола и в сотый раз перекладывала с места на место тарелки. Красный халат, голова в бигудях и тяжелый второй подбородок делали ее похожей на генерала Кутузова, склонившегося над картой военных действий. Не хватало только черной повязки на глазу, но свирепо-сосредоточенное выражение ее лица компенсировало эту недостачу.
– Мама! – рявкнула басом Тоня, тряся в воздухе ножом. – А где вилочки для рыбы? Ты куда их засунула? В ящике нет, в коробке тоже.
Вера криво усмехнулась и посоветовала дочке вспомнить, когда и кому из соседей она их одалживала.
– Опять ты за свое! Да не брала их Белла! Чуть что – сразу она. Между прочим, когда Белла что и одалживает, так всегда возвращает чистеньким, отмытым, отглаженным, не то что эти Курдюковы. После них противно вещь в руки взять, а ты им даешь. А вот когда Белла приходит, так ты – морду ящиком. Думаешь, я не знаю почему? А просто для тебя фамилия Курдюковы гораздо приятнее, чем фамилия Мильштейн. Мне надоели твои мерзкие штучки – щупаешь, проверяешь, зудишь, что Белла все подменила. И про ее еврейскую хитрость уже слышать не могу. Помнишь, как ты серебряную ложку в мусорное ведро уронила, а Беллу воровкой обозвала? А потом, вместо того чтобы извиниться, вспомнила про Исход. На смех курам! Что ты несла, забыла? Евреи, мол, одолжили у египтян на три дня золотую и серебряную посуду, а потом с этими тарелками сбежали. И по пустыне сорок лет ходили, лишь бы награбленное не возвращать. Как тебе не стыдно? И при чем тут Белла? Ты, мать, эти дела брось. Чтоб ты знала: у Сережкиной невесты дядя в Израиле, и родители ее туда собираются. Может, и молодые вырвутся, если поженятся. Ты глаза-то открой. Посмотри, что вокруг делается.
Баба Вера насупилась и ничего не ответила. Ей и правда уже давно не нравилось все, что происходило в стране. Война не война, а продуктов опять не хватает. Теперь в магазинах и с мукой перебои, и масло – польское, ничем не пахнет, и куры, что ли, нестись перестали. А этот – в телевизоре, на танке стоял, руками махал, а вокруг толпа кричала: «Яйцы! Яйцы!». Это ей тогда так послышалось, а оказалось, что народ кричал: «Ельцин! Ельцин!». Вот и докричались… Лучше бы яиц потребовали. Теперь вот даже на пирог не хватает. Искромсали на кусочки большую страну. И что хорошего? Где живем – сами не знаем. Только все равно – незачем уезжать. Стыдно ведь! За колбасой, что ли? За ней можно и в столицу съездить, ближе будет. Ишь, чего удумал внучок! Уедут они, как же. Пока жива – не дам. Костьми лягу. Да, ничего не скажешь, хороша невесточка. Гнать ее надо, поганой метлой гнать…
Пирог не удался. Кислые мысли и камень на душе отняли у теста легкость, а у начинки сладость, а может, во всем был виноват продуктовый дефицит.
Баба Вера косилась на девушку и не понимала, что мог Сережка в ней найти. Худая, чернявая, только нос торчит. А характер, сразу видать – не сахар: брови густые сводит, губы поджимает. Ох, намается с такой девкой, держись. Но аппетит хороший – во как пирог уплетает. Небось ее бабка такой не делает. Сейчас спрошу…
– Майя, может, тебе добавочки? – как можно равнодушнее предложила Вера. – Наверное, твоя бабуля пирогов не печет?
Майя чуть не подавилась, поймав на себе лисий взгляд старушки. Она отложила кусок пирога и, не отводя глаз, негромко, но жестко ответила:
– Не печет. Во время войны ее саму в печь отправили. Сначала в газовую камеру, а потом в печь. Вам должно быть знакомо слово «холокост», если нет, то я вам расскажу историю моей семьи.
Ее смуглое тонкое лицо пошло красными пятнами, глаза заблестели, и баба Вера тяжело встала из-за стола и, шаркая, пошла на кухню. По дороге она успела проворчать, что нечего тут пугать холокостами – сами все видели и лучше вашего знаем, что и как.
Антонина выбежала за ней следом и прикрыла за собой дверь на кухню. Оттуда была слышна невнятная словесная перепалка на повышенных тонах. Сергей пытался удержать Майю, которая рвалась к двери и твердила, что ни минуты не останется в их доме. Он схватил ее в охапку, рискуя получить зонтиком по голове, и крепко встряхнул.
– Майка, ты с ума сошла? Из-за чего?! Она же ничего такого не сказала! Ну, брось! Бабка вредная, но добрая, вот увидишь.
– Ты заметил, как она меня глазами сверлила? Понимаешь, я кожей чувствую, что она меня уже ненавидит. Пойдем, пожалуйста. Я перед мамой твоей извинюсь, она хорошая, но не могу я, пойми, а то расплачусь…
Они стояли, обнявшись, у Майкиного дома. Разлипаться не хотелось. Вечернее небо густело и наливалось темнотой. На его фоне профиль девушки, казалось, был вырезан из белого картона. Майя окаменела, смотря куда-то вдаль или, наоборот, в глубь себя. Сергей любовался ею и все старался как-то растормошить. Ничего интереснее не придумав, просто осторожненько подул в ухо.
– Вся белая, а уши красные. Горят, значит, кто-то о тебе вспоминает.
Майя повернула лицо, и он увидел горящие угольки глаз. Вот куда надо было дуть. Слезы, которые в них проступили, казалось, сейчас закипят.
– Сереженька, ты ведь не передумаешь, правда? Я боюсь, что ты не сможешь просто наплевать на своих бабку и маму.
– Ну, во-первых, между ними единства взглядов не наблюдается. Мама – это одно, а бабуля – совсем другое. Как я сказал, так и будет. Через три месяца свадьба, а потом – радостные проводы молодой семьи на Землю обетованную. А потом – суп с котом. Приедут обе как миленькие, что им тут без меня делать? Кстати, у нашей бабули в Израиле подруга детства живет. Ее, кажется, Раей зовут. Мать рассказывала, что были они неразлейвода, но потом та уехала, а бабка наша из вредности ни на одно письмо не ответила. Ей даже посылки оттуда приходили, а она их отсылала назад.
– Вот видишь! А ты говоришь: «Приедет как миленькая». Да твоя бабулька, наверное, и на свадьбу-то не придет. А я так мечтала понравиться. У меня комплекс семейной недостаточности. Все говорят, что я очень похожа на свою бабушку Голду. У нас была большая семья – бабушкины сестры, их мужья, дети, – всех уничтожили, кроме мамы моей – самой маленькой в семье – и дяди Иосифа, который ушел на фронт. Бабушка Голда, когда фашисты за ними пришли, просто накрыла свою маленькую дочь с головой одеялом и приказала молчать. Девочка слышала крики, автоматные очереди, но молчала. Она была очень послушной, и это ее спасло, никто не заметил ее под одеялом. Мама совсем не помнит, как оказалась в детдоме, помнит только, что долго куда-то бежала. Ей в детдоме хотели дать другие имя и фамилию, а она не могла возразить, поскольку онемела от шока, но когда к ней вернулась речь, то гордо заявила: «Я – Манечка Левина». Это спасло ее во второй раз, иначе вернувшийся с фронта дядя Иосиф не смог бы ее найти. А хочешь, я тебе бабушку покажу? Ее фотография с Иосифом всю войну прошла, а теперь с ним в Израиль уехала, но он попросил знакомого художника написать портрет Голды. Все, кто его видит, спрашивают, чего это я так чудно одета. Меня Майей назвали в честь Победы, а хотели – Голдой.
– Нет, Майя лучше.
– Что лучше? Вот видишь – и ты туда же, главное, чтобы скрыть, чтобы не выпячивать, вроде физического недостатка. А если бы меня, к примеру, Марфой хотели назвать, тебе бы понравилось?
– Какая разница! Теперь вы, девушка, без пяти минут как гражданка Рубцова. Не возражаете?
Сергей улыбался, замечая, как с лица невесты сползает трагическая маска. Но вдруг Майя словно проснулась:
– Сереженька, ой, я совсем забыла тебе сказать! Я с дядей Иосифом на днях разговаривала. Он позвонил из Хайфы, ну я ему и рассказала про нас. Он за меня очень рад. Только фамилию он менять не советует. Ты же теперь понимаешь, что она значит для мамы, для меня. Он предложил тебе тоже ее взять. Сергей Александрович Левин. Неплохо, как думаешь?
– Так, дорогая моя, а обрезание он не предлагал?
– Ну, не обижайся, пожалуйста. Если хочешь, мы тут останемся. Я, конечно, буду по маме скучать, но ты ведь со мной.
Майкины глаза опять грозились намокнуть. Она уткнулась лицом в Сережину грудь, и ее худенькие плечики дернулись. Сережа втянул запах Майиных волос – они пахли дождем. Он просунул руки под ее блузку, захотев прямо тут, сейчас, стиснув ее до хруста в костях, прислонить к дереву и заставить уступить его желанию. Майя подняла голову и легонько оттолкнула Сергея.
– Не сегодня, пожалуйста. Лучше пойдем к нам, я тебе бабушкин портрет покажу, сам увидишь, как мы похожи.
В ответ на это предложение Сергей не очень удачно пошутил, что он тоже копия бабушки в детстве.
– Ты не заметила? Мы же с ней – одно лицо.
Майя, как-то нелепо пятясь, отходила от него все дальше и дальше. Потом она закричала:
– Никогда не говори это, слышишь! Ты не похож на нее, ни капельки! А если такой, как она, – уходи!
Она побежала к подъезду, как вдруг, споткнувшись, упала плашмя на асфальт. Сергей одним прыжком оказался рядом и увидел, что ее колено превратилось в кровавое месиво. Майя угодила им прямо на железную крышку люка. Девушка, хоть и кусала губы от боли, но была счастлива. Сережа дул на рану, называл ее Маюшечкой, кошечкой и еще сотней уменьшительно-ласкательных имен. Он нес ее на руках к дому, а она шептала:
– Ты не волнуйся, до свадьбы заживет.
– А если нет, – успокаивал он, – невесте подыщем изящные костыли.
– И еще туфли на шпильках, платье в оборках и фату в пол. Красота!
– Все будет, все, что захочешь, только не плачь…
– А я и не плачу, это от счастья…
До свадьбы зажило не все. Травма оказалась достаточно серьезной, и невеста только месяц назад избавилась от костылей. Колено все еще было стянуто тугой повязкой, но роскошные кружевные оборки свадебного платья, привезенного дядей Иосифом, скрывали от посторонних глаз эту неприятность. Торжество было решено провести скромно в Сережиной квартире, а на сэкономленные деньги поехать в Коктебель. Мечта отдохнуть в Планерском, пройтись по волошинским местам была для обоих самой заветной, если не считать той мечты, которая уже почти свершилась, и последним аккордом должен был стать «Свадебный марш» Мендельсона. Планы чуть не смешали два обстоятельства – приезд дяди Иосифа и вредность бабы Веры.
Когда подсчитывали гостей с обеих сторон, то Вера Егоровна с удовольствием отмечала значительный перевес в пользу жениха. Невестины ряды крепко поредели по причине не прекращающейся в последнее время эмиграции, и даже у родителей Майи было абсолютно чемоданное настроение. Вера все в толк не могла взять: «Дочь вроде замуж выдают, а сами палец о палец не ударят. Та еще семейка, лишь бы сбагрить поскорее девку. Ясное дело, кому такая красавица нужна, кроме нашего дурачка. Он-то бабами избалован не был, все на свои циферки пялился, а как глаза поднял, так эта швындра носатая нарисовалась. А мы вот посмотрим, как это вам удастся нашего парня захомутать…»
Вера Егоровна вынашивала план, который мог сорвать, а если не сорвать, то хотя бы отсрочить свадьбу…
Она придумала, что в тот день, когда молодым в ЗАГС идти, она встанет ни свет ни заря и примется месить тесто для пирога. Еще она будет жарить, шкварить, резать, чистить, а потом… То ли от усталости и волнений, то ли от старости и болезней как схватится за сердце, как упадет на пол, как заголосит! Тут тебе и «скорая», и больница – вот-вот помрет! О какой свадьбе может идти речь? Но ее планам не суждено было сбыться.
Дядя Иосиф приехал за три дня до росписи, и все пошло кувырком. Когда-то до отъезда он был городской знаменитостью – лучший кардиолог города. Его помнили, любили, и гостей со стороны невесты заметно прибавилось. Квартира жениха уже не могла всех вместить. Иосиф решил сделать подарок племяннице и заказал самый красивый и дорогой ресторан. Такой поворот событий спутал планы бабы Веры. Можно было, конечно, просто так на пол упасть и за сердце схватиться, но она считала это неубедительным. Несмотря на заказанный ресторан, Вера Егоровна все же затеяла выпечку пирога якобы для того, чтобы не нарушать традицию и сделать внуку подарок. Встала рано, долго возилась на кухне, как вдруг сомлела и с грохотом завалилась. Шуму и крику было – не приведи Господь! Тоня рыдала, пытаясь привести мать в сознание. Сергей вызвал «скорую», позвонил Майе и, успокоив как мог, попросил к телефону дядю Иосифа.
Иосиф приехал раньше «скорой». Он склонился над старушкой и приложил ухо к ее груди. Лицо его выразило крайнее недоумение.
– Пульс и сердце как у спортсмена, – сказал он. – Возможно, легкий обморок. Откройте окно.
Он еще раз наклонился над Верой Егоровной и ласково сказал:
– Голубушка, ну нельзя так в вашем возрасте напрягаться. К чему эти кулинарные подвиги? Поверьте, в ресторане еды будет более чем достаточно. И пироги тоже будут.
– Таких не будет, – сказала несчастная баба Вера, разлепив один глаз.
В этом она оказалась права. И даже тающий во рту свадебный торт был не таким вкусным, как ее знаменитый слоеный пирог.
До отъезда в Израиль бабушка Вера не дожила, возможно, просто не захотела. Она так и не смирилась с мыслью, что внук с женой уедут, а за ними настанет их с Тоней очередь.
Теперь вся жизнь семьи превратилась в долгие сборы. Уже ничего не покупалось и не делалось просто так, только если это «там» пригодится. Вера чувствовала, что меньше всего им «там» нужна старая развалина, ну разве что пироги печь.
– Ничего, ничего, пусть Раиных пирогов попробуют, – злорадствовала она. – Как ее, безрукую, ни учила, а все попусту. Хорошо бы Райкин адрес отыскать, им там он не помешает. Куда ж этот конверт подевала?
Полночи Вера перебирала старые фотографии, открытки, письма и документы. На одном из клочков бумаги она нашла каракули на иностранном языке. Похоже, что это был адрес Раисы Пилцер – ее закадычной подруги юности, а ныне гражданки Израиля. Наконец, намаявшись, Вера легла в постель, но сон не шел. Она опять взяла старые фотографии и попыталась найти на них Райку, но вспомнила, что давно все разорвала на клочки и в мусорное ведро выбросила. Полуслепые глаза высматривали на фотографиях то, что не попало в объектив. Ей хотелось вытянуть из памяти подробности, а ничего особенного не вспоминалось. Почти забылись довоенные годы, немного яснее казались послевоенные, а саму войну помнила, как если бы она была вчера. Жизнь показалась такой короткой и незначительной.
Прикрыв веки, из-под которых потекли по бороздкам морщин слезы, она, как в кино, увидела перрон вокзала, с которого они с Раей провожали на фронт мужей, потом – эти страшные конверты с похоронками, пришедшие в конце войны один за другим, сначала Рае, потом ей. Вспомнила и то, что всегда вспоминать боялась: оккупация, немцы в городе, а у них с Райкой малые дети на руках…
Больно кольнуло сердце. Она попыталась лечь удобнее. Сердце ныло не переставая. Потом вроде отпустило, только трудно стало дышать.
«Надо бы окно открыть», – подумала, куда-то проваливаясь, но встать уже не было сил.
Ей вдруг показалось, что она громко кричит, падая с высоты в бездонную пропасть. Наконец перестала падать и полетела вверх. «Значит, не умираю, – пронеслось в голове, – просто засыпаю. Полетели!»
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.