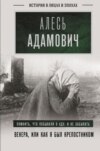«Хатынская повесть» kitabından alıntılar, sayfa 6

Утро после трудной ночи подчеркивает в любом человеке усталость, но также и облегчение, что это кончилось, минуло.

… И теперь у него та постоянная безадресная улыбка? В голосе была, когда поздоровался. Мне бы взглянуть на него, только взглянуть. На Глашу. И увидеть хотя б один раз Сережу. Сережу своего я помню голубоглазым: много раз видел такого во сне. Голубоглазого, светлоголового. А по рассказам Глаши знаю, что он черненький и глаза тоже темные. Увидев настоящего, если бы меня вылечили, потерял бы того, голубоглазого, светлого. Даже вот так можно терять!

Есть предел беде человеческой, за которым слезы уже иссыхают и когда человек и жаловаться уже не может...

– Задним умом и я Наполеон!

Наш "комендант" - ленинградец, об этом говорят, как о его личном качестве. И его вежливое "вы" ко всем, даже к подросткам, и зачтен сивая молчаливость, готовность длинно и сложно объяснять то, что другой решил бы одним "да" или "нет", и сама юношеская стройность этого седоватого забородатевшего человека в красноармейских обносках - все сливается для нас с понятием "ленинградец", окрашено им и окрашивает его.

что последняя обязательная слезинка мертвого (о ней и Косач говорил, о последней, о вымороженной) – это слезинка одиночества, страшной покинутости каждого перед лицом смерти.)

хлопцы? Тут же немцы. Два дня, как стали

Человек, если занял навсегда какое-то место, точку в твоем сердце, он не свободное место занял, которое мог бы заполнить и кто-то другой. Он не занимает, он создает эту светящуюся точку, без него ее и не было бы в тебе…