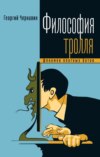Kitabı oku: «Философский словарь», sayfa 18
Дизъюнкция (Disjonction)
Разделение, разъединение. В логике дизъюнкцией называют высказывание, состоящее из двух или более частей, соединенных разделительным союзом «или»: «р или q» – дизъюнкция.
Различают эксклюзивный и инклюзивный виды дизъюнкции. Эксклюзивная дизъюнкция объединяет несовместимые высказывания: «или р, или q». Она истинна, если истинно одно, и только одно, из составляющих ее высказываний (если истинны все или несколько составляющих дизъюнкцию высказываний, такая дизъюнкция ложна). Инклюзивная дизъюнкция объединяет высказывания, которые оба могут быть истинными. Для того чтобы дизъюнкция была истинной, достаточно, чтобы истинным было одно из составляющих ее высказываний (конъюнкция «р или не-р» является тавтологией), но даже если истинны все высказывания, дизъюнкция не становится ложной.
В разговорной речи использование дизъюнкции довольно часто ведет к двусмысленности. Например, Груччо Маркс (101), щупая пульс больного, произносит: «Или у меня часы стоят, или этот человек умер». Это высказывание только имеет вид эксклюзивной дизъюнкции, на самом деле оно ею не является. Оба якобы взаимоисключающих высказывания вполне могут быть истинными.
Дикость (Sauvagerie)
Своего рода личное или врожденное, а потому не такое страшное варварство. Хорошие дикари бывают, хороших варваров нет и быть не может. Дикость близка к природе («…в моем родимом диком краю», – писал Монтень, подразумевая, что живет в деревне). Варварство есть отрыв от цивилизации. Дикарь – это существо, еще не затронутое цивилизацией. Варвар – существо, утратившее цивилизацию. Дикость мы оставили позади себя. Варварство поджидает нас впереди.
Диктатура (Dictature)
В широком и расплывчатом смысле, распространившемся в новейшее время, – всякая власть, основанная на силе. В узком и историческом смысле – авторитарная или военная власть, ограничивающая не только личные и групповые свободы людей, но и нормальное функционирование государства, как правило, на протяжении определенного времени и в общих интересах. От деспотизма диктатура отличается менее выраженным монархическим началом (возможна коллективная и даже демократическая диктатура), от тирании – отсутствием явного пренебрежения к интересам широких масс людей. В отличие от тирании, диктатура может быть установлена демократическим порядком, политически оправдана и морально допустима. У древних римлян, например, диктатурой называлась исключительная форма правления, устанавливаемая законным путем на срок шесть месяцев с целью спасения республики. По Марксу и Ленину, диктатура пролетариата должна длиться существенно дольше, но и цель ее гораздо выше – спасение не просто республики, но и всего человечества. И в том и в другом случаях введение диктатуры привело к установлению тирании или деспотизма. И понятие диктатуры в результате всего этого утратило заключавшийся в нем положительный смысл.
Дилемма (Dilemme)
В широко распространенном смысле слова – трудный выбор из двух в равной мере неудовлетворительных возможностей. В строгом смысле, принятом в логике, – разновидность альтернативы, при которой оба термина подводят к одному и тому же выводу, расцениваемому как неизбежный. У философов, пишет, например, Монтень, «всегда наготове утешительная для смертного человека дилемма: либо наша душа смертна, либо бессмертна. Если она смертна, значит, никакой кары ей не будет; если бессмертна, значит, она будет становиться все лучше и лучше» («Опыты», книга II, глава 12; см. также: Паскаль, «Мысли», 409–220). Вывод отсюда один и тот же – смерти бояться нечего. Нетрудно заметить, что дилемма стоит столько же, сколько составляющие ее выводы. Где доказательство, вопрошает Монтень, что после смерти душа будет становиться лучше, а не хуже?
Динамизм (Dynamisme)
В распространенном смысле слова динамизм – это силы, потенции (dynamis), энергии. Динамизм противостоит вялости или апатии. В философском смысле динамизм – это учение, согласно которому природа не сводится к протяженности и движению, но включает также существование некой внутренне присущей ей силы или энергии. Такого взгляда придерживается, например, Лейбниц в противовес Декарту (см., в частности, «Рассуждение о метафизике», §§ 17–18).
Отметим, что в этом смысле динамизм противостоит механицизму, понимаемому в узком смысле, но не обязательно материализму. Ничто не мешает думать, что материя может выступать в виде энергии, а энергия может быть материальной. Стоицизм, например, являет собой материалистическую разновидность динамизма.
Дионисийский (Dionysiaque)
Относящийся к Дионису – богу вина и музыки, т. е. богу пьянства. Ницше превратил Диониса (наравне с Аполлоном) в один из двух полюсов своей эстетики, являющейся и его этикой. Дионисийское искусство – это искусство чрезмерности, экстаза, нестабильности, смеси созидания и разрушения, трагизма и, добавил бы я, всего того, что пока не стало вечностью, – «удовольствие от того, что только должно произойти, от будущего, от того, что торжествует над настоящим, каким бы хорошим оно ни было» («Воля к власти», IV, 563). Дионис противостоит Аполлону – богу света и красоты, а дионисийское искусство противостоит аполлонийскому, основанному на чувстве меры и гармонии (удовольствии от того, что уже стало вечностью). Ницше также противопоставляет Диониса Христу («Дионис против Распятого»), как жизнь противостоит морали. Отсюда следует, что Христос и Аполлон находятся на одной стороне баррикады: стороне вечной жизни, вечного здесь и сейчас (жизнь sub specie aeternitatis, т. е. с точки зрения вечности или истины). Вопреки тому, что утверждает Делез (102), выбор между Ницше и Спинозой неизбежен, и это выбор между опьянением и мудростью.
Дискурс (Discours)
Точный перевод этого слова означает «речь». Но если речь есть акт или способность, то дискурс – скорее результат того или другого. И речь, и дискурс суть актуализация языка. Но речь – это потенциальная или действенная его актуализация, тогда как дискурс – его энтелехия, как сказал бы последователь Аристотеля, иначе говоря, его творение. Дискурс – это завершенная и доведенная до совершенства речь. Вот почему мы особенно чувствительны к несовершенствам дискурса. Слова летучи. Дискурс тянет к земле.
Дискурсивный (Discursif)
Осуществляемый посредством речи и рассуждений. Тем самым дискурсивное познание противостоит интуитивному или непосредственному познанию. Например, философия всегда дискурсивна. Это, однако, не исключает, что она может отталкиваться от интуиции или опыта, в котором нет ничего дискурсивного, и приводить к мудрости, для которой дискурсивность – пройденный этап.
Дискуссия (Discussion)
Обмен противоречивыми аргументами между двумя или более собеседниками. Участие в дискуссии предполагает наличие общего образа мыслей, благодаря которому возможен спор. Тем самым дискуссия напоминает диалог; мало того, оба эти понятия часто употребляются как синонимичные. Если все же попытаться провести между ними различие, я думаю, разумно опереться на этимологию, которая в слове «дискуссия» подчеркивает идею столкновения (discutere в переводе с латыни означает «разбивать»). Итак, диалог есть обмен идеями или аргументами; дискуссия – столкновение идей или аргументов. Диалог стремится к достижению общей истины, которой предварительно не обладает ни один из участников. Дискуссия – это своего рода противоречивый диалог, каждый из участников которого считает себя правым, во всяком случае по тому или иному конкретному пункту, и старается убедить в своей правоте остальных. И диалог, и дискуссия подразумевают универсальность. Поэтому можно рассуждать об этике дискуссии (например, Хабермас (103) или Аппель (104)), но также и об этике диалога (например, Марсель Конш). Дискуссия или диалог имеют смысл только в том случае, если ее (его) участники в равной мере способны признать, что истина существует или хотя бы вероятна, иными словами, если все участники находятся по отношению к истине в равном, хотя бы теоретически, положении. Однако одно дело – вести поиск универсального сообща (при помощи диалога), и совсем другое – в противоборстве с остальными (в дискуссии). В этом узком смысле слова дискуссия – это не столько совместный с другими поиск универсального, сколько попытка убедить остальных ее участников в том, что лично ты этой истиной уже обладаешь. Таков частный парадокс дискуссии.
Длительность (Durée)
Длиться значит продолжать быть. Такое определение дает Спиноза. «Длительность, – пишет он, – есть неопределенная непрерывность существования» («Этика», часть II, определение 5). С ним согласен Бергсон, заявляющий, что «вселенная длится», иначе не было бы времени. «Длительность, имманентно присущая всему сущему во вселенной», должна предсуществовать, равно как и мы в ней, благодаря чему мы получаем возможность, расчленяя ее методом абстракции, говорить о времени («Творческая эволюция», глава I).
Нетрудно заметить, что всякая действительная длительность существует в настоящем времени (поскольку прошлого уже нет, а будущего еще нет), следовательно, она неделима (разве можно расчленить настоящее?). Тем самым длительность отличается от:
– абстрактного времени, которое могло бы быть бесконечно делимой суммой прошлого и будущего;
– пережитого времени или временности, подразумевающего память и предвосхищение;
– наконец, мгновения, которое следовало бы представить себе как прерывистое и не имеющее длительности настоящее.
Длительность – это и есть само настоящее, пока оно продолжается. Длительность – это вечное предъявление природы. Следовательно, это и есть реальное время как время бытия, время быть в бытии или, как я это называю, время-бытие.
Добро (Bien)
Все абсолютно хорошее. Если всякая ценность, как я убежден, относительна, то добро – не более чем иллюзия, то что останется от положительного оценочного суждения, если отринуть субъективные условия, благодаря которым оно возможно. Приходится слышать, что, например, здоровье, богатство или добродетель суть примеры добра, при этом предполагается, будто они имеют собственную ценность. На самом деле все перечисленное относится к ценностям только в той мере, в какой мы этого желаем. Что значит здоровье для самоубийцы, богатство для святого, а добродетель для мерзавца? «Нет ни Добра, ни Зла, – пишет Делез в связи со Спинозой, – есть лишь то, что хорошо или дурно для нас». Добро – это и есть то, что хорошо, понимаемое как вещь в себе.
Однако в речи избежать смешения этих понятий удается далеко не всегда. Мы говорим «творить добро», а не «творить хорошее». Язык словно бы отражает наши иллюзии, одновременно усиливая их. Правда, следует отметить, что в выражении «творить добро» содержится и здравое зерно: оно подчеркивает, что добра не существует, но его требуется создавать. Добро – не бытие, а цель; не идея, что бы там ни утверждал Платон, а идеал; не абсолют, что бы там ни думал Кант, а убеждение. Добро есть коррелят наших желаний, возведенный в ранг абсолютной реальности.
Добро, по Аристотелю, есть «то, к чему все стремятся» («Никомахова этика», книга I (А), 1). Подобный подход отражает стремление осмысливать природу по человеческой модели, а человека – по модели финализма. Материалист придерживается другой точки зрения: «Объект какого-либо человеческого влечения… человек называет для себя добром». Так считал Гоббс («Левиафан», гл. VI). Так считал Спиноза: «Под добром я разумею всякий род удовольствия и затем все, что ведет к нему, в особенности же то, что утоляет тоску, каково бы оно ни было; под злом же я разумею всякий род неудовольствия и в особенности то, что препятствует утолению тоски» («Этика», часть III, теорема 39, схолия; см. также часть III, теорема 9, схолия и часть IV, Предисловие). Вот почему добро многолико – не все люди стремятся к одним и тем же вещам, тем более не к одной и той же вещи. Сравним, например, Диогена и Александра Македонского. Впрочем, совпадение желаний разных людей – явление не просто частое, это почти правило и в силу этого источник конфликтов (все мы желаем одних и тех же вещей, но не все можем ими обладать) или соревновательности. С точки зрения мудреца, власть не является добром, но это не мешает честолюбцу считать добром мудрость. «Если бы я не был Александром, – говорил великий ученик Аристотеля, – я хотел бы быть Диогеном».
Добродетель (Vertu)
Усилие, которое мы прикладываем, чтобы хорошо себя вести, и то благо, которое приносит это усилие. Добродетель – не исполнение какого-то заранее заданного правила, тем более не уважение трансцендентного запрета. Добродетель – это одновременно нормируемая и нормативная самореализация индивидуума, который сам себе задает правила и сам себе устанавливает запреты, исходя из своих понятий о том, что достойно и что недостойно того, кем он является, и того, каким он хочет быть.
Греческое слово arкte, которое римляне переводили словом virtus (добродетель, доблесть), поначалу означало способность или совершенство. Так, «добродетель» ножа – резать, «добродетель» лекарства – исцелять, добродетель человеческого существа – жить и действовать достойно человека. Мы понимаем, что здесь речь идет о нравственной добродетели. Это способность, но нормативная способность. Совершенство, но в действии. Это приобретенное свойство (добродетельным нельзя родиться, им можно стать) выступает как склонность творить добро или, как говорил Аристотель, делать то, что ты должен делать, тогда, когда ты должен это делать, и так, как ты должен это делать. Но в качестве руководства к добродетельным поступкам и почти всегда в качестве правил поведения добродетельных людей выступает только сама добродетель. Добродетельное поведение подразумевает участие не только разума, но и воли. Добродетель требует усилий, но она же приносит удовольствие и радость. Тот, кто делится с другими, не испытывая при этом радости, не может называться щедрым. Это пересиливающий себя скупец. Тот, кто удерживается от разврата не потому, что ему противен разврат, а потому, что так надо, не может называться целомудренным. Это неудовлетворенный сластолюбец.
Известно, что Аристотель определял добродетель как золотую середину между двумя противоположными, но равно порочными крайностями («равно» здесь не означает «в равной мере»). Одна крайность «происходит от излишества, вторая – от недостатка» («Никомахова этика», книга II, 5–6, 1106b – 1107a). Так, храбрость располагается посередине между безрассудством и трусостью: безрассудный смельчак слишком рискует (допускает излишество), а трус совсем не рискует (демонстрирует недостаток). Храбрый же человек рискует в той мере, в какой это необходимо, тогда, когда это необходимо, и таким образом, каким это необходимо. Разумеется, ошибкой было бы видеть в этой модели апологию серости, посредственности и безликости. Золотая середина – это тоже крайность, но направленная вверх; это вершина, совершенство (там же), своего рода горная гряда между двух пропастей или двух болот.
«Под добродетелью и способностью, – пишет Спиноза, – я разумею одно и то же; то есть добродетель, поскольку она относится к человеку, есть самая сущность или природа его, поскольку она имеет способность производить что-либо такое, что может быть понято из одних только законов его природы» («Этика», часть IV, определение 8; см. также доказательство теоремы 20). Это одно из проявлений conatus’а, его специфически человеческая форма. Добродетель – это способность жить и действовать, как подобает человеку (в нормативном смысле выражения), то есть «под водительством разума» (IV, теорема 37, схолия) и в соответствии с «образцом человеческой природы» (часть IV, Предисловие), который мы сами для себя установили. Одного разума здесь недостаточно, ведь действовать побуждает не разум, а желание. Но и одного желания недостаточно, ведь надо желать того, что разумно и свободно (что одно и то же), и быть способным это совершить. Поэтому желание добродетели (как способность, а не как нехватка добродетели) и есть сама добродетель, но только в том случае, если она проявляется в действии. Conatus (здесь – «стремление к самосохранению». – Прим. пер.) есть «первичное и единственное основание добродетели» (часть IV, теорема 22, королларий). Это стремление к своему собственному благу (часть IV, теорема 18, схолия), которое одновременно является и благом всего человечества (часть IV, теоремы 36–37), и осуществление этого стремления (часть IV, теорема 73, схолия). Добродетель – это усилие, увенчавшееся успехом; это потенциальная способность, реализуемая в акте, сопровождаемая осознанием истинности своих действий и радостью.
Доброта (Bonté)
Свойство человека быть добрым, не столько отдельная добродетель, сколько сочетание в одном человеке нескольких разных и взаимодополняющих добродетелей: щедрости, мягкости, сострадания, благожелательности, иногда и любви. То, что такие люди существуют, хоть они и редки, и не вполне совершенны, – такая же непреложная, подтвержденная опытом истина, как и то, что существуют негодяи. Различия между теми и другими уже достаточно, чтобы наполнить смыслом, пусть и относительным, мораль и оправдать ее существование.
Можно добавить, что любовь без доброты – например, вожделение или ревность – перестает быть добродетелью, тогда как доброта без любви (как стремление делать добро тем, кто тебе безразличен, и даже тем, кого ненавидишь) остается доброй. Это ставит любовь на надлежащее место, которое бывает первым только в сочетании с добротой.
Доверие (Confiance)
Разновидность надежды, имеющей разумное основание и нацеленной не столько на будущее, сколько на настоящее, не столько на неведомое, сколько на хорошо знакомое, не столько на то, что от нас не зависит, сколько на то, что зависит именно от нас (каждый из нас волен доверять или не доверять кому-то или чему-то; мы сами выбираем себе друзей и врагов). Доверие не исключает ни ошибок, ни разочарований, но все-таки стоит больше, чем слепая надежда или тотальная подозрительность.
Доверие похоже на веру, но это действенная вера, направленная не столько на Бога, сколько на других людей или на самого себя. Возможна ли вера в Человека? Если и возможна, то она была бы глупостью или очередной религией. Доверие – это вера в человека, которого знаешь, и в той мере, в какой его знаешь. Чем лучше знаешь человека, тем больше ему доверяешь. Естественным «местом обитания» доверия является дружба.
Доверительность (Confidence)
Стремление рассказать кому-либо такие вещи о себе (и только о себе, ибо в противном случае это будет уже не доверительность, а бестактность), которых не открывают первому встречному. Доверительность – признак доверия, любви или близости. От признания отличается тем, что не предполагает обязательного чувства вины. От исповеди – тем, что не ждет прощения. Доверительность – особый язык, на котором говорят между собой друзья, слишком любящие друг друга, чтобы друг друга осуждать.
Довольство (Félicité)
Абсолютное счастье, непреходящая радость, на протяжении продолжительного времени сохраняющая неослабевающую силу. Но в самом понятии довольства заключено противоречие. Это переход (Спиноза, «Этика», часть III), который ни во что не переходит. Невозможность достижения довольства отличает нас от богов; мечта о нем – от животных. Абсолютное счастье на земле является тем, чем блаженство было бы на том свете. Двойной обман.
Догма (Dogme)
Истина, в непогрешимость которой мы верим и пытаемся навязать эту веру окружающим. Догма отличается от очевидности (в которую не надо верить) и критичности (предполагающей сомнение). Тем самым догма дважды уязвима, вернее, дважды отрицательна. Любая догма – глупость, и оглупляет как ничто иное.
Догматизм (Dogmatisme)
В широком значении – склонность следовать догмам и неспособность подвергать сомнению то, во что веришь. Догматизм выражает желание любить уверенность больше истины, что в результате приводит к тому, что догматик считает незыблемым все, что считает истинным.
В философском смысле догматизмом называют учение, утверждающее существование твердо установленных знаний. Это – противоположность скептицизма. В таком, техническом, значении слово «догматизм» не имеет уничижительного оттенка. Большинство великих философов – догматики (скептицизм в философии не правило, а исключение), и их догматизм имеет под собой вполне серьезные основания, в первую очередь – разум. Кто может сомневаться в собственном существовании, в истинности математической теоремы (если имеется ее доказательство), в том, что Земля вращается вокруг Солнца? В то же время неспособность сомневаться еще ничего не доказывает (каких-нибудь десять веков назад никто не сомневался, что Земля неподвижна, а постулаты Евклида универсальны). Значит, и скептики имеют право на существование – при условии, что их скептицизм не принимает формы догмата. Уверенность в том, что ни в чем нельзя быть уверенным, так же сомнительна, как любая другая, вернее, дважды сомнительна – ведь она противоречит сама себе.
Проблема догматизма лежит, главным образом, в области познания, однако иногда она затрагивает и мораль. В этой связи я предложил различать два вида догматизма: теоретический догматизм, или догматизм вообще, касающийся вопросов познания, и практический догматизм, имеющий отношение к вопросу о ценностях. В чем особенности последнего? В утверждении, что ценности являются истинами, которые, следовательно, поддаются точному познанию. По этой логике, о ценности того или иного поступка можно судить с точки зрения некоей объективной истины – что предлагают, в частности, Платон и Ленин. Если добро познаваемо, значит, зло – не более чем ошибка, и никто на свете не совершает зла добровольно, а просто заблуждается. Но зачем тогда демократия? Ведь вопрос об истине не решается голосованием! И зачем тогда личные свободы? Разве истину выбирают? В результате практический догматизм вполне естественно перетекает – у Ленина на практике, а у Платона в теории – к тому, что сегодня мы называет тоталитаризмом. Но это верно только в отношении практического догматизма. С теоретическим догматизмом этого не происходит, что является достаточным основанием для различия между первым и вторым. Если даже предположить, что нам точно известна какая-либо истина, это еще не причина, чтобы ей подчиниться. Разве знание чего-либо достаточно, чтобы принять решение о том, как должно быть? Кто сказал, что последнее слово всегда должно оставаться за истиной? Разве истина способна делать выбор? Биология ничего не говорит нам ни о ценности жизни, ни о ценности самоубийства. Если бы марксизм был наукой, он точно так же ничего не смог бы сообщить нам об относительной ценности капитализма и коммунизма. Именно людям принадлежит знание о том, чего они хотят. Наука не в состоянии хотеть чего бы то ни было, как бы велики ни были накопленные ею знания или то, что она принимает за знания.