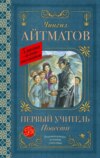Kitabı oku: «Вишневый сад (сборник)», sayfa 5
Телегин идет за ним.
Соня. А ты, дядя Ваня, опять напился с доктором. Подружились ясные соколы. Ну, тот уж всегда такой, а ты-то с чего? В твои годы это совсем не к лицу.
Войницкий. Годы тут ни при чем. Когда нет настоящей жизни, то живут миражами. Все-таки лучше, чем ничего.
Соня. Сено у нас все скошено, идут каждый день дожди, все гниет, а ты занимаешься миражами. Ты совсем забросил хозяйство… Я работаю одна, совсем из сил выбилась… (Испуганно.) Дядя, у тебя на глазах слезы!
Войницкий. Какие слезы? Ничего нет… вздор… Ты сейчас взглянула на меня, как покойная твоя мать. Милая моя… (Жадно целует ее руки и лицо.) Сестра моя… милая сестра моя… где она теперь? Если бы она знала! Ах, если бы она знала!
Соня. Что? Дядя, что знала?
Войницкий. Тяжело, нехорошо… Ничего… После… Ничего… Я уйду… (Уходит.)
Соня (стучит в дверь). Михаил Львович! Вы не спите? На минутку!
Астров (за дверью). Сейчас! (Немного погодя входит; он уже в жилетке и галстуке.) Что прикажете?
Соня. Сами вы пейте, если это вам не противно, но, умоляю, не давайте пить дяде. Ему вредно.
Астров. Хорошо. Мы не будем больше пить.
Пауза.
Я сейчас уеду к себе. Решено и подписано. Пока запрягут, будет уже рассвет.
Соня. Дождь идет. Погодите до утра.
Астров. Гроза идет мимо, только краем захватит. Поеду. И, пожалуйста, больше не приглашайте меня к вашему отцу. Я ему говорю – подагра, а он – ревматизм; я прошу лежать, он сидит. А сегодня так и вовсе не стал говорить со мною.
Соня. Избалован. (Ищет в буфете.) Хотите закусить?
Астров. Пожалуй, дайте.
Соня. Я люблю по ночам закусывать. В буфете, кажется, что-то есть. Он в жизни, говорят, имел большой успех у женщин, и его дамы избаловали. Вот берите сыр.
Оба стоят у буфета и едят.
Астров. Я сегодня ничего не ел, только пил. У вашего отца тяжелый характер. (Достает из буфета бутылку.) Можно? (Выпивает рюмку.) Здесь никого нет, и можно говорить прямо. Знаете, мне кажется, что в вашем доме я не выжил бы одного месяца, задохнулся бы в этом воздухе… Ваш отец, который весь ушел в свою подагру и в книги, дядя Ваня со своею хандрой, ваша бабушка, наконец, ваша мачеха…
Соня. Что мачеха?
Астров. В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Она прекрасна, спора нет, но… ведь она только ест, спит, гуляет, чарует всех нас своею красотой – и больше ничего. У нее нет никаких обязанностей, на нее работают другие… Ведь так? А праздная жизнь не может быть чистою.
Пауза.
Впрочем, быть может, я отношусь слишком строго. Я не удовлетворен жизнью, как ваш дядя Ваня, и оба мы становимся брюзгами.
Соня. А вы недовольны жизнью?
Астров. Вообще жизнь люблю, но нашу жизнь, уездную, русскую, обывательскую, терпеть не могу и презираю ее всеми силами моей души. А что касается моей собственной, личной жизни, то, ей-богу, в ней нет решительно ничего хорошего. Знаете, когда идешь темною ночью по лесу и если в это время вдали светит огонек, то не замечаешь ни утомления, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу… Я работаю, – вам это известно, – как никто в уезде, судьба бьет меня, не переставая, порой страдаю я невыносимо, но у меня вдали нет огонька. Я для себя уже ничего не жду, не люблю людей… Давно уже никого не люблю.
Соня. Никого?
Астров. Никого. Некоторую нежность я чувствую только к вашей няньке – по старой памяти. Мужики однообразны очень, неразвиты, грязно живут, а с интеллигенцией трудно ладить. Она утомляет. Все они, наши добрые знакомые, мелко мыслят, мелко чувствуют и не видят дальше своего носа – просто-напросто глупы. А те, которые поумнее и покрупнее, истеричны, заедены анализом, рефлексом… Эти ноют, ненавистничают, болезненно клевещут, подходят к человеку боком, смотрят на него искоса и решают: «О, это психопат!» или: «Это фразер!» А когда не знают, какой ярлык прилепить к моему лбу, то говорят: «Это странный человек, странный!» Я люблю лес – это странно; я не ем мяса – это тоже странно. Непосредственного, чистого, свободного отношения к природе и к людям уже нет… Нет и нет! (Хочет выпить.)
Соня (мешает ему). Нет, прошу вас, умоляю, не пейте больше.
Астров. Отчего?
Соня. Это так не идет к вам! Вы изящны, у вас такой нежный голос… Даже больше, вы, как никто из всех, кого я знаю, – вы прекрасны. Зачем же вы хотите походить на обыкновенных людей, которые пьют и играют в карты? О, не делайте этого, умоляю вас! Вы говорите всегда, что люди не творят, а только разрушают то, что им дано свыше. Зачем же, зачем вы разрушаете самого себя? Не надо, не надо, умоляю, заклинаю вас.
Астров (протягивает ей руку). Не буду больше пить.
Соня. Дайте мне слово.
Астров. Честное слово.
Соня (крепко пожимает руку). Благодарю!
Астров. Баста! Я отрезвел. Видите, я уже совсем трезв и таким останусь до конца дней моих. (Смотрит на часы.) Итак, будем продолжать. Я говорю: мое время уже ушло, поздно мне… Постарел, заработался, испошлился, притупились все чувства, и, кажется, я уже не мог бы привязаться к человеку. Я никого не люблю и… уже не полюблю. Что меня еще захватывает, так это красота. Неравнодушен я к ней. Мне кажется, что если бы вот Елена Андреевна захотела, то могла бы вскружить мне голову в один день… Но ведь это не любовь, не привязанность… (Закрывает рукой глаза и вздрагивает.)
Соня. Что с вами?
Астров. Так… В Великом посту у меня больной умер под хлороформом.
Соня. Об этом пора забыть.
Пауза.
Скажите мне, Михаил Львович… Если бы у меня была подруга или младшая сестра и если бы вы узнали, что она… ну, положим, любит вас, то как бы вы отнеслись к этому?
Астров (пожав плечами). Не знаю. Должно быть, никак. Я дал бы ей понять, что полюбить ее не могу… да и не тем моя голова занята. Как-никак, а если ехать, то уже пора. Прощайте, голубушка, а то мы так до утра не кончим. (Пожимает руку.) Я пройду через гостиную, если позволите, а то боюсь, как бы ваш дядя меня не задержал. (Уходит.)
Соня (одна). Он ничего не сказал мне… Душа и сердце его все еще скрыты от меня, но отчего же я чувствую себя такою счастливою? (Смеется от счастья.) Я ему сказала: вы изящны, благородны, у вас такой нежный голос… Разве это вышло некстати? Голос его дрожит, ласкает… вот я чувствую его в воздухе. А когда я сказала ему про младшую сестру, он не понял… (Ломая руки.) О, как это ужасно, что я некрасива! Как ужасно! А я знаю, что я некрасива, знаю, знаю… В прошлое воскресенье, когда выходили из церкви, я слышала, как говорили про меня, и одна женщина сказала: «Она добрая, великодушная, но жаль, что она так некрасива…» Некрасива…
Входит Елена Андреевна.
Елена Андреевна (открывает окна). Прошла гроза. Какой хороший воздух!
Пауза.
Где доктор?
Соня. Ушел.
Пауза.
Елена Андреевна. Софи!
Соня. Что?
Елена Андреевна. До каких пор вы будете дуться на меня? Друг другу мы не сделали никакого зла. Зачем же нам быть врагами? Полноте…
Соня. Я сама хотела… (Обнимает ее.) Довольно сердиться.
Елена Андреевна. И отлично.
Обе взволнованы.
Соня. Папа лег?
Елена Андреевна. Нет, сидит в гостиной… Не говорим мы друг с другом по целым неделям и бог знает из-за чего… (Увидев, что буфет открыт.) Что это?
Соня. Михаил Львович ужинал.
Елена Андреевна. И вино есть… Давайте выпьем брудершафт.
Соня. Давайте.
Елена Андреевна. Из одной рюмочки… (Наливает.) Этак лучше. Ну, значит – ты?
Соня. Ты.
Пьют и целуются.
Я давно уже хотела мириться, да все как-то совестно было… (Плачет.)
Елена Андреевна. Что же ты плачешь?
Соня. Ничего, это я так.
Елена Андреевна. Ну, будет, будет… (Плачет.) Чудачка, и я заплакала…
Пауза.
Ты на меня сердита за то, что я будто вышла за твоего отца по расчету… Если веришь клятвам, то клянусь тебе – я выходила за него по любви. Я увлеклась им как ученым и известным человеком. Любовь была не настоящая, искусственная, но ведь мне казалось тогда, что она настоящая. Я не виновата. А ты с самой нашей свадьбы не переставала казнить меня своими умными подозрительными глазами.
Соня. Ну, мир, мир! Забудем.
Елена Андреевна. Не надо смотреть так – тебе это не идет. Надо всем верить, иначе жить нельзя.
Пауза.
Соня. Скажи мне по совести, как друг… Ты счастлива?
Елена Андреевна. Нет.
Соня. Я это знала. Еще один вопрос. Скажи откровенно – ты хотела бы, чтобы у тебя был молодой муж?
Елена Андреевна. Какая ты еще девочка. Конечно, хотела бы! (Смеется.) Ну, спроси еще что-нибудь, спроси…
Соня. Тебе доктор нравится?
Елена Андреевна. Да, очень.
Соня (смеется). У меня глупое лицо… да? Вот он ушел, а я все слышу его голос и шаги, а посмотрю на темное окно – там мне представляется его лицо. Дай мне высказаться… Но я не могу говорить так громко, мне стыдно. Пойдем ко мне в комнату, там поговорим. Я тебе кажусь глупою? Сознайся… Скажи мне про него что-нибудь…
Елена Андреевна. Что же?
Соня. Он умный… Он все умеет, все может… Он и лечит, и сажает лес…
Елена Андреевна. Не в лесе и не в медицине дело… Милая моя, пойми, это талант! А ты знаешь, что значит талант? Смелость, свободная голова, широкий размах… Посадит деревцо и уже загадывает, что будет от этого через тысячу лет, уже мерещится ему счастье человечества. Такие люди редки, их нужно любить… Он пьет, бывает грубоват, – но что за беда? Талантливый человек в России не может быть чистеньким. Сама подумай, что за жизнь у этого доктора! Непролазная грязь на дорогах, морозы, метели, расстояния громадные, народ грубый, дикий, кругом нужда, болезни, а при такой обстановке тому, кто работает и борется изо дня в день, трудно сохранить себя к сорока годам чистеньким и трезвым… (Целует ее.) Я от души тебе желаю, ты стоишь счастья… (Встает.) А я нудная, эпизодическое лицо… И в музыке, и в доме мужа, во всех романах – везде, одним словом, я была только эпизодическим лицом. Собственно говоря, Соня, если вдуматься, то я очень, очень несчастна! (Ходит в волнении по сцене.) Нет мне счастья на этом свете. Нет! Что ты смеешься?
Соня (смеется, закрыв лицо). Я так счастлива… счастлива!
Елена Андреевна. Мне хочется играть… Я сыграла бы теперь что-нибудь.
Соня. Сыграй. (Обнимает ее.) Я не могу спать… Сыграй!
Елена Андреевна. Сейчас. Твой отец не спит. Когда он болен, его раздражает музыка. Поди спроси. Если он ничего, то сыграю. Поди.
Соня. Сейчас. (Уходит.)
В саду стучит сторож.
Елена Андреевна. Давно уже я не играла. Буду играть и плакать, плакать, как дура. (В окно.) Это ты стучишь, Ефим?
Голос сторожа: «Я!»
Елена Андреевна. Не стучи, барин нездоров.
Голос сторожа: «Сейчас уйду!» (Подсвистывает.) «Эй, вы, Жучка, Мальчик! Жучка!»
Пауза.
Соня (вернувшись). Нельзя!
Занавес
Действие третье
Гостиная в доме Серебрякова. Три двери: направо, налево и посредине. – День.
Войницкий, Соня (сидят) и Елена Андреевна (ходит по сцене, о чем-то думая).
Войницкий. Герр профессор изволил выразить желание, чтобы сегодня все мы собрались вот в этой гостиной к часу дня. (Смотрит на часы.) Без четверти час. Хочет о чем-то поведать миру.
Елена Андреевна. Вероятно, какое-нибудь дело.
Войницкий. Никаких у него нет дел. Пишет чепуху, брюзжит и ревнует, больше ничего.
Соня (тоном упрека). Дядя!
Войницкий. Ну, ну, виноват. (Указывает на Елену Андреевну.) Полюбуйтесь: ходит и от лени шатается. Очень мило! Очень!
Елена Андреевна. Вы целый день жужжите, всё жужжите – как не надоест! (С тоской.) Я умираю от скуки, не знаю, что мне делать.
Соня (пожимая плечами). Мало ли дела? Только бы захотела.
Елена Андреевна. Например?
Соня. Хозяйством занимайся, учи, лечи. Мало ли? Вот когда тебя и папы здесь не было, мы с дядей Ваней сами ездили на базар мукой торговать.
Елена Андреевна. Не умею. Да и неинтересно. Это только в идейных романах учат и лечат мужиков, а как я, ни с того ни с сего, возьму вдруг и пойду их лечить или учить?
Соня. А вот я так не понимаю, как это не идти и не учить. Погоди, и ты привыкнешь. (Обнимает ее.) Не скучай, родная. (Смеясь.) Ты скучаешь, не находишь себе места, а скука и праздность заразительны. Смотри: дядя Ваня ничего не делает и только ходит за тобою, как тень, я оставила свои дела и прибежала к тебе, чтобы поговорить. Обленилась, не могу! Доктор Михаил Львович прежде бывал у нас очень редко, раз в месяц, упросить его было трудно, а теперь он ездит сюда каждый день, бросил и свои леса, и медицину. Ты колдунья, должно быть.
Войницкий. Что томитесь? (Живо.) Ну, дорогая моя, роскошь, будьте умницей! В ваших жилах течет русалочья кровь, будьте же русалкой! Дайте себе волю хоть раз в жизни, влюбитесь поскорее в какого-нибудь водяного по самые уши – и бултых с головой в омут, чтобы герр профессор и все мы только руками развели!
Елена Андреевна (с гневом). Оставьте меня в покое! Как это жестоко! (Хочет уйти.)
Войницкий (не пускает ее.) Ну, ну, моя радость, простите… Извиняюсь. (Целует руку.) Мир.
Елена Андреевна. У ангела не хватило бы терпения, согласитесь.
Войницкий. В знак мира и согласия я принесу сейчас букет роз; еще утром для вас приготовил… Осенние розы – прелестные, грустные розы… (Уходит.)
Соня. Осенние розы – прелестные, грустные розы…
Обе смотрят в окно.
Елена Андреевна. Вот уже и сентябрь. Как-то мы проживем здесь зиму!
Пауза.
Где доктор?
Соня. В комнате у дяди Вани. Что-то пишет. Я рада, что дядя Ваня ушел, мне нужно поговорить с тобою.
Елена Андреевна. О чем?
Соня. О чем? (Кладет ей голову на грудь.)
Елена Андреевна. Ну, полно, полно… (Приглаживает ей волосы.) Полно.
Соня. Я некрасива.
Елена Андреевна. У тебя прекрасные волосы.
Соня. Нет! (Оглядывается, чтобы взглянуть на себя в зеркало.) Нет! Когда женщина некрасива, то ей говорят: «У вас прекрасные глаза, у вас прекрасные волосы…» Я его люблю уже шесть лет, люблю больше, чем свою мать; я каждую минуту слышу его, чувствую пожатие его руки; и я смотрю на дверь, жду, мне все кажется, что он сейчас войдет. И вот, ты видишь, я все прихожу к тебе, чтобы поговорить о нем. Теперь он бывает здесь каждый день, но не смотрит на меня, не видит… Это такое страдание! У меня нет никакой надежды, нет, нет! (В отчаянии.) О боже, пошли мне силы… Я всю ночь молилась… Я часто подхожу к нему, сама заговариваю с ним, смотрю ему в глаза… У меня уже нет гордости, нет сил владеть собою… Не удержалась и вчера призналась дяде Ване, что люблю… И вся прислуга знает, что я его люблю. Все знают.
Елена Андреевна. А он?
Соня. Нет. Он меня не замечает.
Елена Андреевна (в раздумье). Странный он человек… Знаешь что? Позволь, я поговорю с ним… Я осторожно, намеками…
Пауза.
Право, до каких же пор быть в неизвестности… Позволь!
Соня утвердительно кивает головой.
И прекрасно. Любит или не любит – это нетрудно узнать. Ты не смущайся, голубка, не беспокойся – я допрошу его осторожно, он и не заметит. Нам только узнать: да или нет?
Пауза.
Если нет, то пусть не бывает здесь. Так?
Соня утвердительно кивает головой.
Легче, когда не видишь. Откладывать в долгий ящик не будем, допросим его теперь же. Он собирался показать мне какие-то чертежи… Поди скажи, что я желаю его видеть.
Соня (в сильном волнении). Ты мне скажешь всю правду?
Елена Андреевна. Да, конечно. Мне кажется, что правда, какая бы она ни была, все-таки не так страшна, как неизвестность. Положись на меня, голубка.
Соня. Да, да… Я скажу, что ты хочешь видеть его чертежи… (Идет и останавливается возле двери.) Нет, неизвестность лучше… Все-таки надежда…
Елена Андреевна. Что ты?
Соня. Ничего. (Уходит.)
Елена Андреевна (одна). Нет ничего хуже, когда знаешь чужую тайну и не можешь помочь. (Раздумывая.) Он не влюблен в нее – это ясно, но отчего бы ему не жениться на ней? Она некрасива, но для деревенского доктора, в его годы, это была бы прекрасная жена. Умница, такая добрая, чистая… Нет, это не то, не то…
Пауза.
Я понимаю эту бедную девочку. Среди отчаянной скуки, когда вместо людей кругом бродят какие-то серые пятна, слышатся одни пошлости, когда только и знают, что едят, пьют, спят, иногда приезжает он, непохожий на других, красивый, интересный, увлекательный, точно среди потемок восходит месяц ясный… Поддаться обаянию такого человека, забыться… Кажется, я сама увлеклась немножко. Да, мне без него скучно, я вот улыбаюсь, когда думаю о нем… Этот дядя Ваня говорит, будто в моих жилах течет русалочья кровь. «Дайте себе волю хоть раз в жизни…» Что ж? Может быть, так и нужно… Улететь бы вольною птицей от всех вас, от ваших сонных физиономий, от разговоров, забыть, что все вы существуете на свете… Но я труслива, застенчива… Меня замучит совесть… Вот он бывает здесь каждый день, я угадываю, зачем он здесь, и уже чувствую себя виноватою, готова пасть перед Соней на колени, извиняться, плакать…
Астров (входит с картограммой). Добрый день! (Пожимает руку.) Вы хотели видеть мою живопись?
Елена Андреевна. Вчера вы обещали показать мне свои работы… Вы свободны?
Астров. О, конечно. (Растягивает на ломберном столе картограмму и укрепляет ее кнопками.) Вы где родились?
Елена Андреевна (помогая ему). В Петербурге.
Астров. А получили образование?
Елена Андреевна. В консерватории.
Астров. Для вас, пожалуй, это неинтересно.
Елена Андреевна. Почему? Я, правда, деревни не знаю, но я много читала.
Астров. Здесь в доме есть мой собственный стол… В комнате у Ивана Петровича. Когда я утомлюсь совершенно, до полного отупения, то все бросаю и бегу сюда, и вот забавляюсь этой штукой час-другой… Иван Петрович и Софья Александровна щелкают на счетах, а я сижу подле них за своим столом и мажу, и мне тепло, покойно, и сверчок кричит. Но это удовольствие я позволяю себе не часто, раз в месяц… (Показывая на картограмме.) Теперь смотрите сюда. Картина нашего уезда, каким он был пятьдесят лет назад. Темно- и светло-зеленая краска означает леса; половина всей площади занята лесом. Где по зелени положена красная сетка, там водились лоси, козы… Я показываю тут и флору и фауну. На этом озере жили лебеди, гуси, утки, и, как говорят старики, птицы всякой была сила, видимо-невидимо: носилась она тучей. Кроме сел и деревень, видите, там и сям разбросаны разные выселки, хуторочки, раскольничьи скиты, водяные мельницы… Рогатого скота и лошадей было много. По голубой краске видно. Например, в этой волости голубая краска легла густо; тут были целые табуны, и на каждый двор приходилось по три лошади.
Пауза.
Теперь посмотрим ниже. То, что было двадцать пять лет назад. Тут уж под лесом только одна треть всей площади. Коз уже нет, но лоси есть. Зеленая и голубая краски уже бледнее. И так далее и так далее. Переходим к третьей части: картина уезда в настоящем. Зеленая краска лежит кое-где, но не сплошь, а пятнами; исчезли и лоси, и лебеди, и глухари… От прежних выселков, хуторков, скитов, мельниц и следа нет. В общем, картина постепенного и несомненного вырождения, которому, по-видимому, остается еще каких-нибудь десять – пятнадцать лет, чтобы стать полным. Вы скажете, что тут культурные влияния, что старая жизнь, естественно, должна была уступить место новой. Да, я понимаю, если бы на месте этих истребленных лесов пролегли шоссе, железные дороги, если бы тут были заводы, фабрики, школы – народ стал бы здоровее, богаче, умнее, но ведь тут ничего подобного! В уезде те же болота, комары, то же бездорожье, нищета, тиф, дифтерит, пожары… Тут мы имеем дело с вырождением вследствие непосильной борьбы за существование; это вырождение от косности, от невежества, от полнейшего отсутствия самосознания, когда озябший, голодный, больной человек, чтобы спасти остатки жизни, чтобы сберечь своих детей, инстинктивно, бессознательно хватается за все, чем только можно утолить голод, согреться, разрушает все, не думая о завтрашнем дне… Разрушено уже почти все, но взамен не создано еще ничего. (Холодно.) Я по лицу вижу, что это вам неинтересно.
Елена Андреевна. Но я в этом так мало понимаю…
Астров. И понимать тут нечего, просто неинтересно.
Елена Андреевна. Откровенно говоря, мысли мои не тем заняты. Простите. Мне нужно сделать вам маленький допрос, и я смущена, не знаю, как начать.
Астров. Допрос?
Елена Андреевна. Да, допрос, но… довольно невинный. Сядем!
Садятся.
Дело касается одной молодой особы. Мы будем говорить, как честные люди, как приятели, без обиняков. Поговорим и забудем, о чем была речь. Да?
Астров. Да.
Елена Андреевна. Дело касается моей падчерицы Сони. Она вам нравится?
Астров. Да, я ее уважаю.
Елена Андреевна. Она вам нравится как женщина?
Астров (не сразу). Нет.
Елена Андреевна. Еще два-три слова – и конец. Вы ничего не замечали?
Астров. Ничего.
Елена Андреевна (берет его за руку). Вы не любите ее, по глазам вижу… Она страдает… Поймите это и… перестаньте бывать здесь.
Астров (встает). Время мое уже ушло… Да и некогда… (Пожав плечами.) Когда мне? (Он смущен.)
Елена Андреевна. Фу, какой неприятный разговор! Я так волнуюсь, точно протащила на себе тысячу пудов. Ну, слава богу, кончили. Забудем, будто не говорили вовсе, и… и уезжайте. Вы умный человек, поймете…
Пауза.
Я даже красная вся стала.
Астров. Если бы вы сказали месяц-два назад, то я, пожалуй, еще подумал бы, но теперь… (Пожимает плечами.) А если она страдает, то, конечно… Только одного не понимаю: зачем вам понадобился этот допрос? (Глядит ей в глаза и грозит пальцем.) Вы – хитрая!
Елена Андреевна. Что это значит?
Астров (смеясь). Хитрая! Положим, Соня страдает, я охотно допускаю, но к чему этот ваш допрос? (Мешая ей говорить, живо.) Позвольте, не делайте удивленного лица, вы отлично знаете, зачем я бываю здесь каждый день… Зачем и ради кого бываю, это вы отлично знаете. Хищница милая, не смотрите на меня так, я старый воробей…
Елена Андреевна (в недоумении). Хищница? Ничего не понимаю.
Астров. Красивый, пушистый хорек… Вам нужны жертвы! Вот я уже целый месяц ничего не делаю, бросил все, жадно ищу вас – и это вам ужасно нравится, ужасно… Ну, что ж? Я побежден, вы это знали и без допроса. (Скрестив руки и нагнув голову.) Покоряюсь. Нате, ешьте!
Елена Андреевна. Вы с ума сошли!
Астров (смеется сквозь зубы). Вы застенчивы…
Елена Андреевна. О, я лучше и выше, чем вы думаете! Клянусь вам! (Хочет уйти.)
Астров (загораживая ей дорогу). Я сегодня уеду, бывать здесь не буду, но… (Берет ее за руку, оглядывается.) Где мы будем видеться? Говорите скорее: где? Сюда могут войти, говорите скорее… (Страстно.) Какая чудная, роскошная… Один поцелуй… Мне поцеловать только ваши ароматные волосы…
Елена Андреевна. Клянусь вам…
Астров (мешая ей говорить). Зачем клясться? Не надо клясться. Не надо лишних слов… О, какая красивая! Какие руки! (Целует руки.)
Елена Андреевна. Но довольно, наконец… уходите… (Отнимает руки.) Вы забылись.
Астров. Говорите же, говорите, где мы завтра увидимся? (Берет ее за талию.) Ты видишь, это неизбежно, нам надо видеться. (Целует ее.)
В это время входит Войницкий с букетом роз и останавливается у двери.
Елена Андреевна (не видя Войницкого). Пощадите… оставьте меня… (Кладет Астрову голову на грудь.) Нет! (Хочет уйти.)
Астров (удерживая ее за талию). Приезжай завтра в лесничество… часам к двум… Да? Да? Ты приедешь?
Елена Андреевна (увидев Войницкого). Пустите! (В сильном смущении отходит к окну.) Это ужасно.
Войницкий (кладет букет на стул; волнуясь, вытирает платком лицо и за воротником). Ничего… Да… Ничего…
Астров (будируя). Сегодня, многоуважаемый Иван Петрович, погода недурна. Утром было пасмурно, словно как бы на дождь, а теперь солнце. Говоря по совести, осень выдалась прекрасная… и озими ничего себе. (Свертывает картограмму в трубку.) Вот только что: дни коротки стали… (Уходит.)
Елена Андреевна (быстро подходит к Войницкому). Вы постараетесь, вы употребите все ваше влияние, чтобы я и муж уехали отсюда сегодня же! Слышите? Сегодня же!
Войницкий (вытирая лицо). А? Ну да… хорошо… Я, Hе́lène, все видел, все…
Елена Андреевна (нервно). Слышите? Я должна уехать отсюда сегодня же!
Входят Серебряков, Соня, Телегин и Марина.
Телегин. Я сам, ваше превосходительство, что-то не совсем здоров. Вот уже два дня хвораю. Голова что-то того…
Серебряков. Где же остальные? Не люблю я этого дома. Какой-то лабиринт. Двадцать шесть громадных комнат, разбредутся все, и никого никогда не найдешь. (Звонит.) Пригласите сюда Марью Васильевну и Елену Андреевну!
Елена Андреевна. Я здесь.
Серебряков. Прошу, господа, садиться.
Соня (подойдя к Елене Андреевне, нетерпеливо). Что он сказал?
Елена Андреевна. После.
Соня. Ты дрожишь? Ты взволнована? (Пытливо всматривается в ее лицо.) Я понимаю… Он сказал, что уже больше не будет бывать здесь… Да?
Пауза.
Скажи: да?
Елена Андреевна утвердительно кивает головой.
Серебряков (Телегину). С нездоровьем еще можно мириться, куда ни шло, но чего я не могу переварить, так это строя деревенской жизни. У меня такое чувство, как будто я с земли свалился на какую-то чужую планету. Садитесь, господа, прошу вас. Соня!
Соня не слышит его, она стоит, печально опустив голову.
Соня!
Пауза.
Не слышит. (Марине.) И ты, няня, садись.
Няня садится и вяжет чулок.
Прошу, господа. Повесьте, так сказать, ваши уши на гвоздь внимания. (Смеется.)
Войницкий (волнуясь). Я, быть может, не нужен? Могу уйти?
Серебряков. Нет, ты здесь нужнее всех.
Войницкий. Что вам от меня угодно?
Серебряков. Вам… Что же ты сердишься?
Пауза.
Если я в чем виноват перед тобою, то извини, пожалуйста.
Войницкий. Оставь этот тон. Приступим к делу… Что тебе нужно?
Входит Мария Васильевна.
Серебряков. Вот и maman. Я начинаю, господа.
Пауза.
Я пригласил вас, господа, чтобы объявить вам, что к нам едет ревизор. Впрочем, шутки в сторону. Дело серьезное. Я, господа, собрал вас, чтобы попросить у вас помощи и совета, и, зная всегдашнюю вашу любезность, надеюсь, что получу их. Человек я ученый, книжный и всегда был чужд практической жизни. Обойтись без указаний сведущих людей я не могу и прошу тебя, Иван Петрович, вот вас, Илья Ильич, вас, maman… Дело в том, что manet omnes una nox8, то есть все мы под Богом ходим; я стар, болен и потому нахожу своевременным регулировать свои имущественные отношения постольку, поскольку они касаются моей семьи. Жизнь моя уже кончена, о себе я не думаю, но у меня молодая жена, дочь-девушка.
Пауза.
Продолжать жить в деревне мне невозможно. Мы для деревни не созданы. Жить же в городе на те средства, какие мы получаем от этого имения, невозможно. Если продать, положим, лес, то это мера экстраординарная, которою нельзя пользоваться ежегодно. Нужно изыскать такие меры, которые гарантировали бы нам постоянную, более или менее определенную цифру дохода. Я придумал одну такую меру и имею честь предложить ее на ваше обсуждение. Минуя детали, изложу ее в общих чертах. Наше имение дает в среднем размере не более двух процентов. Я предлагаю продать его. Если вырученные деньги мы обратим в процентные бумаги, то будем получать от четырех до пяти процентов, и я думаю, что будет даже излишек в несколько тысяч, который нам позволит купить в Финляндии небольшую дачу.
Войницкий. Постой… Мне кажется, что мне изменяет мой слух. Повтори, что ты сказал.
Серебряков. Деньги обратить в процентные бумаги и на излишек, какой останется, купить дачу в Финляндии.
Войницкий. Не Финляндия… Ты еще что-то другое сказал.
Серебряков. Я предлагаю продать имение.
Войницкий. Вот это самое. Ты продашь имение, превосходно, богатая идея… А куда прикажешь деваться мне со старухой матерью и вот с Соней?
Серебряков. Все это своевременно мы обсудим. Не сразу же.
Войницкий. Постой. Очевидно, до сих пор у меня не было ни капли здравого смысла. До сих пор я имел глупость думать, что это имение принадлежит Соне. Мой покойный отец купил это имение в приданое для моей сестры. До сих пор я был наивен, понимал законы не по-турецки и думал, что имение от сестры перешло к Соне.
Серебряков. Да, имение принадлежит Соне. Кто спорит? Без согласия Сони я не решусь продать его. К тому же я предлагаю сделать это для блага Сони.
Войницкий. Это непостижимо, непостижимо! Или я с ума сошел, или… или…
Мария Васильевна. Жан, не противоречь Александру. Верь, он лучше нас знает, что хорошо и что дурно.
Войницкий. Нет, дайте мне воды. (Пьет воду.) Говорите что хотите, что хотите!
Серебряков. Я не понимаю, отчего ты волнуешься. Я не говорю, что мой проект идеален. Если все найдут его негодным, то я не буду настаивать.
Пауза.
Телегин (в смущении). Я, ваше превосходительство, питаю к науке не только благоговение, но и родственные чувства. Брата моего Григория Ильича жены брат, может, изволите знать, Константин Трофимович Лакедемонов, был магистром…
Войницкий. Постой, Вафля, мы о деле… Погоди, после… (Серебрякову.) Вот спроси ты у него. Это имение куплено у его дяди.
Серебряков. Ах, зачем мне спрашивать? К чему?
Войницкий. Это имение было куплено по тогдашнему времени за девяносто пять тысяч. Отец уплатил только семьдесят, и осталось долгу двадцать пять тысяч. Теперь слушайте… Имение это не было бы куплено, если бы я не отказался от наследства в пользу сестры, которую горячо любил. Мало того, я десять лет работал, как вол, и выплатил весь долг…
Серебряков. Я жалею, что начал этот разговор.
Войницкий. Имение чисто от долгов и не расстроено только благодаря моим личным усилиям. И вот когда я стал стар, меня хотят выгнать отсюда в шею!
Серебряков. Я не понимаю, чего ты добиваешься!
Войницкий. Двадцать пять лет я управлял этим имением, работал, высылал тебе деньги, как самый добросовестный приказчик, и за все время ты ни разу не поблагодарил меня. Все время – и в молодости и теперь – я получал от тебя жалованья пятьсот рублей в год – нищенские деньги! – и ты ни разу не догадался прибавить мне хоть один рубль!
Серебряков. Иван Петрович, почем же я знал? Я человек не практический и ничего не понимаю. Ты мог бы сам прибавить себе сколько угодно.
Войницкий. Зачем я не крал? Отчего вы все не презираете меня за то, что я не крал? Это было бы справедливо, и теперь я не был бы нищим!
Мария Васильевна (строго). Жан!
Телегин (волнуясь). Ваня, дружочек, не надо, не надо… я дрожу… Зачем портить хорошие отношения? (Целует его.) Не надо.
Войницкий. Двадцать пять лет я вот с этою матерью, как крот, сидел в четырех стенах… Все наши мысли и чувства принадлежали тебе одному. Днем мы говорили о тебе, о твоих работах, гордились тобою, с благоговением произносили твое имя; ночи мы губили на то, что читали журналы и книги, которые я теперь глубоко презираю!
Телегин. Не надо, Ваня, не надо… Не могу…
Серебряков (гневно). Не понимаю, что тебе нужно?
Войницкий. Ты для нас был существом высшего порядка, твои статьи мы знали наизусть… Но теперь у меня открылись глаза! Я все вижу! Пишешь ты об искусстве, но ничего не понимаешь в искусстве! Все твои работы, которые я любил, не стоят гроша медного! Ты морочил нас!