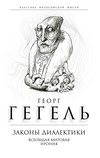Kitabı oku: «Мир как воля и представление», sayfa 27
Но несмотря на весь этот блеск, жизненные невзгоды могут легко возрасти до такой степени (и это бывает ежедневно), что люди жадно хватаются за смерть, которой вообще-то боятся больше всего. Но когда судьба хочет показать все свое коварство, то она может закрыть перед страдальцем даже и это убежище, и он остается в руках озлобленных врагов, которые предают его жестоким и медленным пыткам, и нет для него спасения. Тщетно взывает страдалец к своим богам о помощи: он безжалостно принесен в жертву своей судьбе. Но эта безжалостность является только отражением его неодолимой воли, объективацией которой служит его личность. И как внешняя сила не может изменить или уничтожить этой воли, так не может какая бы то ни было чуждая власть освободить его от мучений, вытекающих из жизни, которая есть проявление этой воли. Человек всегда предоставлен самому себе, как во всяком деле, так и в самом главном. Напрасно творит он себе богов, чтобы молитвами и лестью выпросить у них то, что может сделать только сила его собственной воли. Если Ветхий Завет признал мир и человека творением Бога, то Новый Завет, чтобы учить о том, что спасение и искупление от бедствий этого мира могут исходить только из самого мира, должен был позволить этому Богу стать человеком. Воля человека есть и будет то, от чего все для него зависит. Саньясины, мученики, святые всех вероисповеданий и деноминаций добровольно и охотно переносили всякие муки, ибо в этих людях упразднила себя воля к жизни, и потому даже медленное разрушение ее проявления было для них отрадно. Но я не буду забегать вперед в своем изложении. Впрочем, не могу здесь удержаться от заявления, что оптимизм, если только он не бездумная болтовня тех, у кого за плоскими лбами нет ничего, кроме слов, представляется мне не просто абсурдным, но и поистине бессовестным воззрением, горькой насмешкой над невыразимыми страданиями человечества. И пусть не думают, будто христианское вероучение благоприятствует оптимизму, наоборот, в Евангелии мир и зло употребляются почти как синонимы. [Сюда относится 46-я гл. II тома.]
60
Теперь, покончив с неизбежным для нашей цели эпизодическим рассмотрением двух вопросов: о свободе воли в себе и необходимости ее проявления, о ее судьбе в отражающем ее сущность мире, познание которого должно служить основой для ее самоутверждения или самоотрицания, – теперь мы можем полнее разъяснить само это утверждение и отрицание. Выше мы упомянули о них только в общих чертах, теперь же рассмотрим внутренний смысл тех действий, в которых только и выражаются утверждение и отрицание воли.
Утверждение воли – это само желание, постоянное, не нарушаемое никаким познанием, – такое, как оно вообще наполняет жизнь людей. Ввиду того, что уже тело человека есть объектность воли, как она проявляется на данной ступени и в данном индивиде, то его развивающееся во времени желание служит как бы парафразой тела, уяснением смысла целого и его частей, служит иным способом выражения той самой вещи в себе, проявление которой уже и есть само тело. Поэтому вместо «утверждение воли» мы могли бы говорить «утверждение тела». Основное содержание всех разнообразных волевых актов – это удовлетворение потребностей, не отделимых от существования тела в его здоровом состоянии, выражающихся уже в нем и сводимых к сохранению индивида и продолжению рода. Но через это самые различные мотивы приобретают косвенным путем власть над волей и вызывают разнообразнейшие волевые акты. Каждый из этих актов служит лишь пробой, образчиком являющейся здесь воли вообще: какого рода эта проба, какую форму имеет и сообщает ей мотив, это несущественно, дело заключается здесь только в наличии самого желания и в степени его силы. Воля может проявляться только в мотивах, подобно тому как глаз обнаруживает свою зрительную силу только при свете. Мотив вообще стоит перед волей как многообразный Протей: он всегда сулит полное удовлетворение, утоление волевой жажды, но как только он осуществляется, он тотчас же принимает другую форму и в ней опять побуждает волю – всегда сообразно степени ее силы и ее отношению к познанию, причем эта степень и это отношение обнаруживаются как эмпирический характер именно посредством таких проб и образцов.
С наступлением сознания человек находит себя водящим, и обычно его познание постоянно соотносится с его волей. Он старается в совершенстве познать сперва объекты своего желания, а потом средства их достижения. После этого он уже знает, что ему надо делать, и обычно не стремится к другому знанию. Он действует и подвизается: сознание, что он постоянно трудится для целей своего желания, поддерживает его; мысли его обращены на выбор средств. Такова жизнь почти всех людей: они хотят, знают чего хотят, стремятся к этому настолько удачно, чтобы не впасть в отчаяние, и настолько неудачно, чтобы спастись от скуки и ее последствий. Это порождает в них известную бодрость или, по крайней мере, некоторое спокойствие, где богатство или бедность, собственно, ничего не меняют: ведь и богач, и бедняк наслаждаются не тем, что у них есть (как я показал, это действует лишь отрицательно), а тем, чего они надеются достигнуть в итоге своих стараний. Они стремятся вперед с великой серьезностью и даже с торжественным выражением лица: так и дети ведут свои игры. Только в виде исключения такая жизнь нарушается тем, что познание, не зависящее от служения воле и направленное на сущность мира вообще, предъявляет или эстетическое требование созерцательности, или этический призыв к воздержанию. Большинство людей всю жизнь гонит нужда, не давая им опомниться. С другой стороны, воля часто разгорается до такой степени, которая далеко превышает утверждение тела и обнаруживается в бурных аффектах и могучих страстях: индивид не только утверждает тогда свое бытие, но и отрицает бытие других, стремясь устранить его там, где оно стоит на его пути.
Поддержание тела его собственными силами – это весьма ничтожная степень утверждения воли, и если бы люди этим добровольно ограничивались, то мы могли бы допустить, что со смертью этого тела гаснет и проявляющаяся в нем воля. Однако уже удовлетворение полового влечения выходит за пределы утверждения собственного существования, наполняющего столь краткий промежуток времени, и утверждает жизнь и после смерти индивида на неопределенное будущее. Природа, всегда правдивая и последовательная, а здесь даже наивная, совершенно открыто показывает нам внутренний смысл полового акта. Наше собственное сознание и мощь полового влечения учат нас, что в этом акте совершенно чисто и без какой-либо примеси (например, без отрицания чужих индивидов) выражается самое решительное утверждение воли к жизни; и вот во времени и в причинном ряду, т. е. в природе, появляется как следствие этого акта новая жизнь: перед родившим встает рожденный, в явлении от него отличный, но в себе, в идее, тождественный с ним. Вот почему через этот акт поколения живущих связываются в одно целое и как таковое живут вечно. Рождение по отношению к рождающему есть лишь выражение, симптом его решительного утверждения воли к жизни; по отношению же к рожденному это вовсе не есть основание воли в нем проявляющейся (так как воля в себе не знает ни основания, ни следствия), а подобно всякой причине, оно есть только случайная причина проявления воли в это время, на этом месте. Как вещь в себе воля рождающего и воля рожденного не различаются между собою, ибо только явление, а не вещь в себе, подвластно principio individuationis. Вместе с утверждением жизни за пределами собственного тела и вплоть до возникновения нового тела вновь утверждаются также страдание и смерть как сопричастные явлению жизни, и возможность искупления, создаваемая совершеннейшей способностью познания, на этот раз оказывается бесплодной. В этом имеет свое глубокое основание стыд полового акта.
Этот взгляд мифически представлен в том догмате христианского вероучения, согласно которому мы все причастны грехопадению Адама (очевидно, представляющему собой лишь удовлетворение полового инстинкта) и через него заслужили страдание и смерть. Названное вероучение выходит здесь за пределы мышления по закону основания и познает идею человека, единство которой восстанавливается связующими узами деторождения из ее распада на бесчисленных индивидов. Вследствие этого каждый индивид, с одной стороны, признается тождественным с Адамом, представителем утверждения жизни и в этом отношении подпавшим греху (первородному греху), страданию и смерти; с другой же стороны, познание идеи открывает каждого индивида как тождественного со Спасителем, представителем отрицания воли к жизни, и в этом отношении как причастного его самопожертвованию, искупленного его подвигом и спасенного из оков греха и смерти, т. е. мира (Рим. 5, 12–21).
Другое мифическое выражение нашей мысли о половом удовлетворении как об утверждении воли к жизни за пределами индивидуального существования, как о моменте, в котором только и завершается порабощение человека жизнью, или как о возобновляемой подписке на жизнь, – представляет собой греческий миф о Прозерпине: она еще могла возвратиться из подземного царства, пока не вкусила его плодов, но, отведав граната, она была обречена. В несравненной передаче этого мифа у Гете смысл его выступает очень ясно, особенно когда тотчас же после вкушения граната внезапно раздается незримый хор Парок:
О, ты наша!
Ты возвратилась, если бы не ела,
Но, плод вкусив, ты стала нашей!
Замечательно, что Климент Александрийский (Strom. Ill, с. 15) передает эту мысль с помощью того же образа и выражения:
«Кто оскопил себя от всякого греха ради царства небесного, – блаженны те, постники мира».
В качестве решительного и самого могучего утверждения жизни половое влечение проявляется и в том, что для человека, близкого к природе, как и для животного, оно служит последней целью, высшим пределом жизни. Самосохранение – вот первое стремление человека, но как только эта забота удовлетворена, он стремится лишь к продолжению рода: большего он как чисто природное существо домогаться не может. Да и природа, внутренней сущностью которой является сама воля к жизни, всей своей мощью побуждает человека, как и животное, к размножению. Исполнив это, она по отношению к индивиду уже достигла своей цели и совершенно равнодушна к его гибели, потому что как воля к жизни она заинтересована только в сохранении рода, индивид же для нее – ничто. Так как в половом влечении внутренняя сущность природы, воля к жизни, проявляется сильнее всего, то древние поэты и философы – Гесиод и Парменид – говорили очень глубокомысленно, что Эрос – это творящее первоначало, из которого проистекают все вещи (см. Aristot. Metaph., 1, 4). Ферекид сказал: «Зевс, пожелав сотворить мир, преобразился в Эрос» (Proclus ad Plat. Tim., I, III). Обстоятельное рассуждение об этом предмете нам недавно дал Г. Ф. Шеманн: «De cupidine cosmogonico», 1852. И Майя индийцев, чьим созданием и тканью является весь призрачный мир, может быть парафразирована: amor.
Половые органы гораздо больше, чем какой-либо другой внешний член тела, подчинены только воле, а вовсе не познанию: воля выступает здесь почти столь же независимо от познания, как и в тех органах, которые, побуждаемые просто раздражителями, служат только растительной жизни, воспроизведению, и в которых воля действует слепо, как в бессознательной природе. Ибо рождение – это лишь воспроизведение, распространяющееся на новый индивид, как бы воспроизведение во второй потенции, подобно тому как смерть – это лишь выделение во второй потенции. Ввиду всего этого половые органы являются настоящим фокусом воли и, следовательно, противоположным полюсом мозга, представителя познания, т. е. другой стороны мира, – мира как представления. Они – животворящее начало, обеспечивающее времени бес-конечную жизнь; в этом качестве они и почитались у греков в фаллосе, у индусов – в лингаме, которые таким образом служат символом утверждения воли. Познание, напротив, дает возможность устранить желание, обрести спасение в свободе, преодолеть и уничтожить мир.
Уже в начале этой четвертой книги мы обстоятельно показали, как воля к жизни в своем утверждении должна рассматривать свое отношение к смерти, которая ведь не оспаривает ее, ибо сама уже содержится в жизни и принадлежит ей, так что противоположность смерти – рождение составляет полный противовес ей, обеспечивая воле к жизни, несмотря на смерть индивида, жизнь на все времена; индийцы выразили это тем, что сделали атрибутом бога смерти, Шивы, лингам. Мы показали там же, как человек, с полной сознательностью стоящий на точке зрения решительного утверждения воли к жизни, бесстрашно смотрит в глаза смерти. Поэтому здесь мы уже не будем этого касаться. Не вполне сознавая это, большинство людей стоят именно на такой точке зрения и упорно утверждают жизнь. Как зеркало такого утверждения возвышается мир, с бесчисленными индивидами в бесконечном времени и бесконечном пространстве и с бесконечными страданиями, между рождением и смертью без конца. Но роптать на это нельзя ни в каком отношении, ибо воля ставит великую трагедию или комедию за собственный счет и является притом своим собственным зрителем. Мир именно таков потому, что такова воля, что так хочет воля, проявлением которой он выступает. Оправданием страданий служит то, что воля и в этом явлении утверждает себя самое, и это утверждение оправдывается и уравновешивается тем, что она же переносит страдания. Уже здесь открывается нам образ вечной справедливости – в целом; дальше мы познакомимся с нею и в частностях подробнее и яснее. Но прежде надо сказать о ее временной, или человеческой, справедливости. [Сюда относится 45-я гл. II тома.]
61
Мы помним из второй книги, что во всей природе, на всех ступенях объективации воли необходимо царит постоянная борьба между индивидами всех родов и что именно в этом обнаруживается внутренний разлад воли к жизни с самой собою. На высшей ступени объективации этот феномен, как и все другое, предстанет с большей отчетливостью и будет доступен поэтому дальнейшей расшифровке. Для этой цели исследуем прежде всего источник эгоизма как начального пункта всякой борьбы.
Мы назвали время и пространство principium indi-viduationis, потому что только в них и через них возможна множественность однородного. Они представляют собой существенные формы естественного познания, т. е. возникшего из воли. Поэтому воля будет повсюду являться себе во множестве индивидов. Но эта множественность относится не к воле как вещи в себе, а только к ее проявлениям: воля присутствует в каждом из них сполна и нераздельно и видит вокруг себя бесчисленно повторенный образ своего собственного существа. Но самое это существо, т. е. подлинную реальность, она непосредственно находит только внутри себя. Поэтому каждый хочет всего для себя, хочет всем обладать или, по крайней мере, господствовать над всем, а то, что ему противится, он хотел бы уничтожить. У существ познающих к этому присоединяется то, что индивид есть носитель познающего субъекта, а последний – носитель мира, так что вся природа вне его, в том числе и все остальные индивиды, существуют только в его представлении: он всегда сознает их только как свое представление, т. е. косвенно и как нечто, зависящее от его собственного существа и существования, ибо вместе с его сознанием для него необходимо исчезает и мир, другими словами, бытие и небытие мира становятся для него равнозначащими и неразличимыми. Таким образом, каждый познающий индивид является на самом деле и сознает себя всей волей к жизни, т. е., непосредственным в себе мира, а также восполняющим условием мира как представления, т. е. микрокосмом, который следует считать равным макрокосму. Сама природа, всегда и всюду правдивая, уже изначально и независимо от всякой рефлексии дает ему это познание с непосредственной достоверностью и простотой. Оба эти необходимые самоопределения человека объясняют, почему каждый индивид, ничтожно малый и совершенно исчезающий в безграничном мире, все-таки делает себя средоточием мира, относится к собственному существованию и благополучию ревностнее, чем ко всему другому, и даже, следуя естественному порыву, готов уничтожить мир, лишь бы только сохранить собственное я, эту каплю в море. Такое помышление есть эгоизм, свойственный всякой вещи в природе. Но именно в нем внутренний разлад воли с самой собою раскрывается с ужасающей силой. Ибо содержание и сущность этого эгоизма заключается в указанной противоположности микрокосма и макрокосма, или в том, что формой объективации воли служит principium individuationis, и потому воля одинаково является самой себе в бесчисленных индивидах, и притом в каждом из них сполна и всецело с обеих сторон (воли и представления). И в то время как каждый непосредственно дан самому себе как целая воля и целый представляющий, остальные даны ему прежде всего лишь как его представления, вот почему собственное существо и его сохранение важнее ему всех остальных. Собственная смерть видится каждому как конец мира, между тем как известие о смерти своих знакомых он выслушивает довольно равнодушно, если только она не задевает его личных интересов.
В сознании, поднявшемся на высшую ступень, – в человеческом сознании эгоизм, как и познание, боль и радость, также должен был достигнуть высшей степени, и обусловленное им противоборство индивидов проявляется самым ужасным образом. Мы видим его повсюду, как в мелочах, так и в крупном, в истории мира и в собственной жизни; видим его то в страшных событиях – в жизни великих тиранов и злодеев и в опустошительных войнах, то в смешной форме, когда оно служит сюжетом комедии и своеобразно отражается в самомнении и тщеславии, которые столь превосходно постиг и описал in abstracto Ларошфуко, как никто другой. Но явственнее всего это противоборство тогда, когда толпа людей освобождается от всякого закона и порядка: тотчас же наглядно выступает та bellum omnium contra omnes112, которую прекрасно изобразил Гоббс в первой главе «О гражданине». Тогда не только обнаруживается, как каждый стремится отторгнуть у другого то, что он желал бы иметь сам, но и как иные, ради ничтожного прироста своего благосостояния, нередко разрушают все счастье или жизнь другого. Это – высшее выражение эгоизма; его проявления в данном отношении уступают только проявлениям настоящей злобы, которая совершенно бескорыстно, безо всякой выгоды, ищет вреда и страдания других, – об этом скоро будет у нас речь. С этим раскрытием источника эгоизма надо сравнить его описание в моем конкурсном сочинении «Об основе морали», 14.
Главный источник страдания, которое мы выше признали существенным и неизбежным для всякой жизни, – это (как только оно проявляется в действительности и в определенной форме) указанная Эрида, борьба всех индивидов, выражение того разлада, которым проникнута внутри себя воля к жизни и который через principium individuationis обнаруживается вовне: бой зверей – это жестокое средство непосредственно и ярко изобразить его. В этом изначальном разладе таится неиссякаемый источник страдания, несмотря на принимавшиеся против него меры, которые мы подробнее и рассмотрим сейчас.
62
Мы показали, что первое и простое утверждение воли к жизни – это утверждение собственного тела, т. е. осуществление воли во временных актах, поскольку уже тело в своей форме и целесообразности представляет эту волю пространственно – и больше ничего. Это утверждение выражается в сохранении тела с помощью его собственных сил. К нему непосредственно примыкает и, собственно, даже принадлежит удовлетворение полового влечения, поскольку половые органы относятся к телу. Поэтому добровольный и не основанный на каком-либо мотиве отказ от удовлетворения этого влечения есть уже отрицание воли к жизни, добровольное самоуничтожение этой воли, возникшее в результате познания, действующего в качестве квиетива; в соответствии с этим такое отрицание собственного тела представляет собой уже противоречие воли со своим собственным явлением. Ибо хотя тело и здесь объективирует в половых органах волю к размножению, последнего все-таки не хотят. Вот почему такой отказ, будучи отрицанием или уничтожением воли к жизни, является тяжелой и мучительной победой над собой, но об этом ниже.
Но в то время как воля представляет такое самоутверждение собственного тела в бесчисленных рядах индивидов, она в силу присущего всем эгоизма легко выходит в каком-либо индивиде за пределы этого утверждения, – вплоть до отрицания той же самой воли, проявляющейся в другом индивиде. Воля первого вторгается в область чужого утверждения воли в том случае, если индивид губит или калечит самое тело другого, или же заставляет силы этого чужого тела служить его воле, а не воле, являющейся в этом чужом теле, – другими словами, если он отнимает у воли, являющейся в виде чужого тела, силы этого тела и таким образом увеличивает силу, служащую его воле, больше, чем это дает ему на это право сила собственного тела, – следовательно, утверждает собственную волю за пределами собственного тела, отрицая волю, являющуюся в чужом теле.
Это вторжение в сферу чужого утверждения воли отчетливо сознавалось испокон веков, и его понятие было названо словом несправедливость. Ибо обе стороны мгновенно схватывают, в чем тут дело, правда, постигая это не в отчетливой абстракции, как мы здесь, а своим чувством. Терпящий несправедливость чувствует вторжение в сферу утверждения своего собственного тела через отрицание его чужим индивидом; он чувствует это как непосредственное и духовное страдание, которое совершенно отличается и отделено от сопровождающей его физической боли, причиняемой самим деянием, или от огорчения по поводу утраты. С другой стороны, в совершающем несправедливость возникает сознание, что он в себе есть та самая воля, которая является и в чужом теле и которая в одном ее явлении утверждает себя так насильственно, что он, переходя границы собственного тела и его сил, становится отрицателем той же самой воли в другом ее явлении и, следовательно, в качестве воли в себе своим насилием он идет против самого себя, терзает самого себя; в нем также, говорю я, мгновенно возникает это сознание, не in abstracto, а в виде темного чувства, и это называют угрызениями совести, или, ближе к данному случаю, чувством содеянной несправедливости.
Несправедливость, понятие которой мы только что разобрали в самой общей абстракции, находит себе in concreto наиболее полное, прямое и наглядное выражение в каннибализме: это самая отчетливая и ясная ее форма, ужасный образ величайшего раздора воли с самой собою на высшей ступени ее объективации, какой является человек. Непосредственно за этим идет убийство, и потому, как только оно совершится, угрызения совести, смысл которых мы только что изложили отвлеченно и сухо, мгновенно следуют с ужасающей явственностью и наносят душевному покою неисцелимую рану на всю оставшуюся жизнь; ибо наш ужас перед совершенным убийством, как и наш трепет до его совершения, соответствуют той безграничной привязанности к жизни, которой проникнуто все живое как проявление воли к жизни. (В дальнейшем изложении мы более обстоятельно расчленим и возвысим на степень отчетливого понятия это чувство, сопровождающее несправедливый и злой поступок, – угрызения совести.) По существу однородны с убийством и отличаются от него только степенью преднамеренное изуродование или простое калечение чужого тела, даже всякий удар. Далее, несправедливость проявляется в порабощении другого индивида, в принуждении его к рабству, наконец – в покушении на чужую собственность, которое, поскольку она служит плодом чужого труда, по существу однородно с предыдущей несправедливостью и относится к ней как простое калечение к убийству.
Ибо такой собственностью, которой без несправедливости нельзя отнять у человека, может быть, согласно нашему пониманию несправедливого, только то, что обработано собственными силами этого человека, так что захват этого отнимает силы его тела у объективированной в нем воли, чтобы заставить их служить воле, объективированной в другом теле. Лишь в таком случае совершающий несправедливость вторгается в сферу чужого утверждения воли, хотя и покушается не на чужое тело, а на неодушевленную, совершенно отличающуюся от него вещь: ведь с этой вещью как бы срослись и отождествились труд и сила чужого тела. Отсюда следует, что всякое истинное, т. е. моральное, право собственности первоначально основывается исключительно на обработке, как это почти всюду признавали до Канта и как это отчетливо и прекрасно выражает древнейшее из всех законодательств: «Мудрецы, сведущие в старине, объясняют, что возделанная нива составляет собственность того, кто выкорчевал лес, очистил и вспахал ее, – как и антилопа принадлежит первому охотнику, который ее смертельно ранил» (законы Ману, IX, 44). Только старческой слабостью Канта объясняю я себе все его учение о праве, это странное сплетение ошибок, идущих одна за другой; так объясняю я себе и то, что право собственности он хочет основать на первом завладении. В самом деле, каким образом простое изъявление моей воли – устранить других от пользования вещью – может тотчас же создать и самое право на нее? Очевидно, само это изъявление предварительно нуждается в правомерном обосновании, а вовсе не оно служит таким основанием, как это думает Кант. Да и поступает ли по существу, т. е. в моральном смысле, несправедливо тот, кто не признает этих притязаний на исключительное обладание вещью, не основанных ни на чем, кроме собственного заявления? Разве может его за это тревожить совесть? Ведь совершенно ясно, что не может быть никакого правомерного завладения, а существует только правомерное освоение, приобретение вещи путем приложения к ней первоначально собственных сил. Там, где вещь посредством какого-нибудь чужого труда, как бы ни был он незначителен, обрабатывается, улучшается, ограждается от повреждений, хотя бы этот труд заключался только в том, чтобы срыть или выполоть из почвы дикорастущий плод, – там посягающий на эту вещь очевидно лишает другого результатов его сил, потраченных на нее, т. е. заставляет тело этого человека служить не собственной, а его воле, утверждает собственную волю за пределами ее проявления, вплоть до отрицания чужой воли, – т. е. совершает несправедливость. [Таким образом, для обоснования естественного права собственности нет нужды допускать две основы права – detentio113 и formatio114: вполне достаточно последнего. Но только название формации не совсем подходит, потому что приложение к вещи какого-либо труда необязательно является ее формированием.]
Напротив, одно только пользование вещью без всякой ее обработки или охраны от повреждения так же мало дает права на нее, как и изъявление своей воли на исключительное владение ею. Поэтому, если какой-нибудь род в течение хотя бы целого столетия один охотился в известной местности, не сделав, однако, ничего для ее улучшения, то он не может без моральной несправедливости запретить охоту в ней чужому пришельцу, который вдруг пожелал бы этого. Вот отчего так называемое право преоккупации, согласно которому за простое давнишнее пользование вещью требуют еще сверх того вознаграждения, т. е. присваивают себе исключительное право на дальнейшее пользование ею, в моральном отношении совершенно неосновательно. Тому, кто опирается только на это право, вновь прибывший мог бы с гораздо большим правом возразить: «Именно потому, что ты уже так долго пользовался этой вещью, справедливо, чтобы теперь воспользовались ею и другие». Для всякой вещи, которая не поддается никакой обработке посредством улучшения или предохранения от несчастных случаев, не существует морально обоснованного права на исключительное владение ею, кроме разве добровольной уступки со стороны всех остальных, например, в виде вознаграждения за другие услуги; но это уже предполагает построенное на договоре общежитие, государство. Морально обоснованное право собственности, как это показано выше, дает, по своей природе, владельцу такую же неограниченную власть над вещью, какую он имеет над собственным телом; из этого следует, что он путем обмена или дара может переносить свою собственность на других, которые затем владеют данной вещью с тем же моральным правом, что и он.
Что касается совершения несправедливости вообще, то оно осуществляется либо насилием, либо хитростью: по своему нравственному значению это одно и то же. В особенности при убийстве безразлично, пользуюсь ли я кинжалом или ядом; так же обстоит дело и при всяком физическом оскорблении. Все разнообразные случаи несправедливости могут быть сведены к тому, что я, совершая несправедливое, заставляю другого индивида служить не своей, а моей воле, действовать не по своей, а по моей воле. На пути насилия я достигаю этого с помощью физической причинности; на пути же хитрости – посредством мотивации, т. е. причинности, прошедшей через познание; иначе говоря, я достигаю этого тем, что подставляю воле другого человека обманные мотивы, в силу которых он, думая следовать своей воле, следует моей. Так как среда, в которой находятся мотивы, есть познание, то я могу исполнить это, только совершив подлог в его познании, – а это и есть обман. Своей целью он всегда имеет воздействие на волю другого, не просто на его познание как таковое и само по себе, но на познание лишь как средство, поскольку оно определяет его волю. Ибо самый обман мой, исходя из моей воли, нуждается в мотиве, а таким может быть только чужая воля, а не чужое познание само по себе, потому что оно как таковое никогда не может иметь влияния на мою волю, не может ее волновать и быть мотивом ее целей: только чужое желание и действие могут быть таким мотивом, а через них (следовательно, косвенно) и чужое познание. Это относится не только ко всякому обману, вытекающему из явного своекорыстия, но и к такому обману, который имеет своим источником чистую злобу, жаждущую насладиться мучительными последствиями чужой ошибки, ею же вызванной. Даже обыкновенный хвастун стремится к тому, чтобы, усилив этим хвастовством уважение к себе или изменив к лучшему мнение других людей, оказать или облегчить себе большее влияние на их желания и поступки. Простой отказ в истине, т. е. в изъявлении вообще, сам по себе не есть нечто неправое, но таковым является, несомненно, всякое навязывание лжи. Кто не хочет указать заблудившемуся путнику настоящей дороги, тот не совершает по отношению к нему никакого правонарушения, но его совершает тот, кто указывает ему неверный путь.