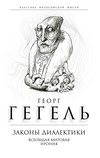Kitabı oku: «Мир как воля и представление», sayfa 29
Предложенная здесь теория наказания, для здравого ума непосредственно ясная, в главном, конечно, мысль не новая, а только почти вытесненная новыми заблуждениями, отчего и необходимо было ее отчетливо изложить. В своих основных чертах она содержится уже в том, что говорит об этом Пуфендорф – «De officio hominis et civis»119, кн. II, гл. 13. К ней же примыкает и Гоббс: «Левиафан», гл. 15 и 28. В наши дни ее, как известно, защищал Фейербах. Мало того: мы находим ее уже в изречениях древних философов; так, Платон ясно излагает ее в «Протагоре», в «Горгии», наконец, в одиннадцатой книге «Законов». Сенека отлично выражает мнение Платона и теорию любого наказания в следующих немногих словах: Nemo prudens punit, quia peccatum est; sed ne peccetur120 (Delira, I, 16).
Таким образом, мы признали в государстве средство, с помощью которого эгоизм, вооруженный разумом, старается избегнуть собственных дурных последствий, направляющихся против него самого; при этом каждый способствует благу всех, так как видит, что в общем благе заключается и его собственное. Если бы государство вполне достигло своей цели, то оно, все более покоряя себе и остальную природу посредством объединенных в нем человеческих сил, в конце концов уничтожило бы всякого рода беды и могло бы в известной мере превратиться в нечто похожее на страну Шлараффию. Но, во-первых, оно все еще очень далеко от этой цели; во-вторых, другие, все еще бесчисленные беды, присущие жизни, по-прежнему держали бы ее во власти страдания; и если бы даже все они и были устранены, то каждое освободившееся место тотчас же занимала бы скука; в-третьих, государство никогда не может совершенно устранить распри индивидов, ибо она в мелочах досаждает там, где ее изгоняют в крупном; и, наконец, Эрида, благополучно вытесненная изнутри, устремляется вовне: изгнанная государственным укладом как соперничество индивидов, она возвращается извне как война народов и, подобно возросшему долгу, требует сразу и в большой сумме тех кровавых жертв, которые в мелочах были отняты у нее разумной предусмотрительностью. И если даже предположить, что, умудренное опытом тысячелетий, человечество, наконец, все это одолеет и устранит, то последним результатом оказался бы действительный избыток населения всей планеты, а весь ужас этого может себе представить теперь только смелое воображение. [Сюда относится 47-я гл. II тома.]
63
Мы признали, что временное правосудие, пребывающее в государстве, носит воздающий или карательный характер; мы видели, что оно становится правосудием только благодаря своему отношению к будущему, ибо без такого отношения всякое наказание и возмездие за преступление оставалось бы неоправданным и было бы только прибавлением другого зла к уже совершенному, без смысла и значения. Но совершенно иначе обстоит дело с вечным правосудием, о котором мы уже упомянули ранее и которое правит не государством, а вселенной, не зависит от человеческих учреждений, недоступно случайности и заблуждению, не знает слабости, колебаний и ошибок, является непогрешимым, незыблемым, непорочным. В понятии воздаяния уже заключается время, поэтому вечное правосудие не может быть воздающим и оттого не может, подобно временному, допускать отсрочку и промедление и не нуждается для своего существования во времени, так как не уравновешивает посредством его дурное дело дурным последствием. Наказание должно быть здесь так связано с преступлением, чтобы оба они составляли одно.
Вы мните, – на крылах людские преступления
Взлетают к небесам и на скрижали Зевса
Заносятся неведомой рукой, и Зевс по ним
Вещает смертному свой грозный приговор?
О, нет! вся пелена небесного пространства
Мала для записи свершаемых грехов,
И нет у Зевса сил, чтоб все их покарать.
Но есть возмездие, – и подле вас оно.
Eurip., ар. Stob. Ed., I, с. 4.
Что такое вечное правосудие действительно коренится в сущности мира, – в этом из всего развития нашей мысли скоро убедится каждый, кто усвоил ее себе.
Явление, объектность единой воли к жизни есть мир, во всей множественности своих частей и форм. Самое бытие и характер бытия, как в целом, так и в каждой части, вытекает только из воли. Она свободна, она всемогуща. И каждой вещи воля является именно так, как она определяет себя в самой себе и вне времени. Мир есть только зеркало этой воли, и вся конечность, все страдания, все муки, которые он содержит в себе, выражают то, чего она хочет, они таковы потому, что она этого хочет. С полной справедливостью поэтому каждое существо несет бытие вообще, затем бытие своего рода и своей особой индивидуальности, какова она есть, и при условиях, каковы они есть, в мире, каков он есть, – подвластный случайности и заблуждению, бренный, преходящий, вечно страдающий; и все, что с каждым существом происходит и даже может с ним произойти, всегда справедливо. Ибо воля – его, а какова воля, таков и мир. Ответственность за бытие и свойства этого мира может нести только он сам и никто другой, ибо разве пожелает другой взять ее на себя? Кто хочет знать, чего в моральном отношении стоят люди в общем и целом, пусть взглянет на их участь в общем и целом. Это нужда, несчастье, скорбь, муки и смерть. Царит вечное правосудие: если бы люди, в целом, не были так недостойны, то их участь, в целом, не была бы столь печальной. В этом смысле мы можем сказать: мир сам есть Страшный суд. Если бы все горе мира можно было положить на одну чашку весов, а всю вину мира на другую, то весы, наверное, остановились бы неподвижно.
Но, конечно, для познания в том виде, как оно, выросшее из служения воле, предстает индивиду как таковому, мир видится иначе, чем он в конце концов раскрывается перед исследователем, узнающим в нем объектность той всеединой воли к жизни, которой является он сам: нет, взоры несведущего индивида застилает, по выражению индийцев, пелена Майи, и вместо вещи в себе ему предстает одно лишь явление, во времени и пространстве, этом principio individuationis, и в остальных видах закона основания; и в этой форме своего ограниченного познания он открывает не единую сущность вещей, а ее явления – обособленные, разделенные, неисчислимые, многоразличные и даже противоположные. И кажется ему тогда, что наслаждение – это одно, а страдание нечто совсем другое, что этот человек – мучитель и убийца, а тот – страстотерпец и жертва, что злоба – это одно, а зло – другое. Он видит, что один живет в довольстве, изобилии и роскоши, в то время как у его порога умирает другой в муках лишений и холода. И он спрашивает себя: где же возмездие? И сам он в страстном порыве воли, составляющем его источник и его сущность, набрасывается на утехи и радости жизни, держит их в тесных объятиях и не подозревает, что именно этим актом своей воли он ловит и крепко прижимает к себе все те муки и горести жизни, зрелище которых приводит его в содрогание. Он видит беду, видит зло в мире, но далекий от сознания, что это только различные стороны проявления единой воли к жизни, он считает их совершенно различными и даже противоположными, и часто охваченный principio individuationis, обманутый пеленой Майи, он пытается с помощью зла, т. е. причинения чужого страдания, избегнуть зла, страдания собственной индивидуальности.
Ибо подобно тому как среди бушующего беспредельного моря, с воем вздымающего и опускающего водяные громады, сидит пловец в челноке, доверяясь утлому судну, – так среди мира страданий спокойно живет отдельный человек, доверчиво опираясь на principium individuationis, или тот способ, каким индивид познает вещи в качестве явления. Беспредельный мир, всюду полный страдания, в своем бесконечном прошлом, в бесконечном будущем чужд ему и даже представляется ему сказкой: его исчезающая личность, его непротяженное настоящее, его мимолетное довольство – только это имеет для него реальность, и чтобы сохранить это, он делает все, пока более глубокое познание не откроет ему глаза. А до тех пор только в сокровенной глубине его сознания таится смутное предчувствие того, что, быть может, весь этот мир не так уж чужд ему, что он имеет с ним связь, от которой не в силах его оградить principium individuationis. Из этого предчувствия вытекает тот неодолимый трепет, общий всем людям (а может быть, и более умным из животных), который внезапно овладевает ими, когда они случайно сбиваются с пути principii individuationis, т. е. когда закон основания в одной из своих форм, по-видимому, терпит исключение, – когда, например, кажется, будто какое-либо действие произошло без причины, или явился умерший, или как-либо еще, прошлое или будущее стало настоящим, либо далекое – близким. Невероятный ужас перед такими феноменами объясняется тем, что внезапно утрачиваются познавательные формы явления, которые только и держат индивида в обособленности от остального мира. Но это обособление заключено только в явлении, а не в вещи в себе: именно на этом и основывается вечное правосудие.
В действительности всякое временное счастье, всякое благоразумие стоят на зыбкой почве. Они охраняют личность от невзгод и доставляют ей наслаждения; но личность – это только явление, и ее отличие от других индивидов, ее свобода от страданий, которые терпят другие, основывается на форме явления, на principio individuationis. Согласно истинной сущности вещей, каждый должен считать все страдания мира своими, и даже только возможные страдания он должен считать для себя действительными, пока он представляет твердую волю к жизни, т. е. пока он всеми силами утверждает жизнь. Для познания, прозревающего в principium individuationis, счастливая жизнь во времени как подаренная случаем или добытая умным расчетом, среди страданий бесчисленных других индивидов, есть не что иное, как сон нищего, в котором он видит себя королем, но от которого он должен пробудиться, чтобы удостовериться в том, что только мимолетная греза разлучила его со страданием его жизни.
Вечное правосудие скрыто от взора, погруженного в principium individuationis, в познание, которое следует закону основания: он нигде его не находит, этого правосудия, если только не спасает его какими-нибудь фикциями. Он видит, как злой, совершив всевозможные преступления и жестокости, живет в довольстве и безнаказанно уходит из мира. Он видит, как угнетенный до конца влачит жизнь, полную страданий, и нет для него мстителя, нет воздающего. Но вечное правосудие постигнет лишь тот, кто возвысится над этим познанием, следующим за законом основания и привязанным к отдельным вещам, кто познает идеи, проникнет в principium individuationis и поймет, что к вещи в себе неприложимы формы явления. Только такой человек, силой этого же познания, может понять и истинную сущность добродетели, как она вскоре раскроется перед нами в связи с настоящим рассуждением, хотя для практической добродетели это познание in abstracto совершенно не нужно. И вот, кто достигнет такого познания, тому станет ясно, что так как воля есть «в себе» каждого явления, то причиняемые другим и лично испытываемые невзгоды, мучения и зло, всегда поражают одно и то же единое существо, хотя явления, в которых обнаруживаются то и другое, выступают как совершенно различные индивиды и даже разделены между собою дистанцией времен и пространств. Он увидит, что различие между тем, кто причиняет страдание, и тем, кто должен его переносить, только феноменально и не распространяется на вещь в себе – живущую в обоих волю: обманутая познанием, находящимся у нее в услужении, воля не узнает здесь самой себя и, домогаясь в одном из своих явлений повышенного благополучия, причиняет другому великое страдание и таким образом в страстном порыве вонзает зубы в собственную плоть, не ведая, что она всегда терзает только самое себя, и обнаруживая этим через посредство индивидуации то самопротивоборство с самой собою, которое она заключает внутри себя. Мучитель и мученик – это одно и то же. Первый заблуждается, думая, что он непричастен к мучениям; второй заблуждается, думая, что он непричастен к вине. Если бы у них обоих открылись глаза, то причиняющий мучения понял бы, что он живет во всем, что страдает на свете и тщетно спрашивает себя (если одарено разумом), почему оно призвано к бытию для такого большого страдания и за какую неведомую вину; а мученик понял бы, что все злое, совершаемое или когда-нибудь совершавшееся в мире, вытекает из той воли, которая составляет и его сущность, является и в нем, и что вместе с этим явлением и его утверждением он принял на себя все те муки, какие возникают из подобной воли, и по справедливости терпит их, пока он есть эта воля. Эту мысль высказывает чуткий поэт Кальдерон в своей трагедии «Жизнь – это сон»:
Ведь худшая в мире вина —
Это на свет родиться.
В самом деле, разве это не вина, когда, согласно вечному закону, на ней стоит смерть? Кальдерон в этих стихах выразил только христианский догмат о первородном грехе.
Живое познание вечного правосудия, этого коромысла весов, нераздельно связующего malum culpae121 и malum poenae122, требует полного возвышения над индивидуальностью и принципом ее возможности; поэтому, как и родственное ему чистое и ясное познание сущности всякой добродетели, оно всегда будет оставаться недоступным для большинства людей. Оттого мудрые праотцы индийского народа в эзотерическом учении мудрости, или Ведах, позволенных только трем возрожденным кастам, выразили это познание прямо, насколько оно поддается слову и понятию и насколько это допускает их образная и рапсодическая манера изложения, – но в народной религии, или экзотерическом учении, они передали его лишь с помощью мифа. Непосредственное выражение этой мысли о вечном правосудии мы находим в Ведах – плоде высшего человеческого познания и мудрости, ядро которого дошло до нас, наконец, в Упанишадах, этом величайшем даре нашего столетия; мысль эта выражается разнообразно, особенно часто в такой форме: перед взором ученика проводятся одно за другим все существа мира одушевленные и неодушевленные, и о каждом из них произносится ставшее формулой и потому названное Махавакья123 слово Tatoumes, правильнее tat twam asi, что означает: «Это – ты». Но для народа эта великая истина, насколько он в своей ограниченности мог постигнуть ее, была переведена на язык того способа познания, который следует закону основания, хотя по своей сущности никак не может вместить ее во всей ее чистоте и даже находится в прямом противоречии с нею, но в форме мифа воспринял, однако, ее суррогат, достаточный как норма поведения, ибо при способе познания, следующем закону основания и вечно далеком от нравственного смысла этого поведения, этот смысл делается все же понятным благодаря образности изложения, в чем и состоит цель всех вероучений, ибо все они представляют собой мифическое облачение истины, недоступной грубому пониманию человека. В таком смысле этот миф можно было бы на языке Канта назвать постулатом практического разума; рассматриваемый с этой точки зрения, он имеет то великое преимущество, что не содержит в себе никаких элементов, кроме тех, которые находятся у нас перед глазами в царстве действительности, и поэтому все свои понятия он может облекать в созерцания. Я имею здесь в виду миф о переселении душ. Он учит, что все страдания, которые мы причиняем в жизни другим существам, неминуемо будут искуплены в последующей жизни на этом же свете такими же точно страданиями; и это идет так далеко, что кто убивает хотя бы животное, тот когда-нибудь в бесконечности времен родится таким же самым животным и испытает ту же смерть. Он учит, что злая жизнь влечет за собой будущую жизнь на этом свете в страждущих и презренных существах, что мы возродимся тогда в низших кастах, либо в виде женщины или животного, либо в виде парии или чандала, прокаженного, крокодила и т. д. Все муки, какими грозит этот миф, он подтверждает наглядными примерами из действительного мира, показывает страждущие существа, которые даже не знают, чем они заслужили свое страдание, и другого ада ему не нужно создавать. Зато как награду он сулит возрождение в лучших, благороднейших формах – в лице брахмана, мудреца, святого. Высшая награда составит удел самых благородных деяний и полного отречения, она выпадет и на долю женщины, в семи жизнях подряд добровольно умиравшей на костре супруга, и на долю человека, чистые уста которого никогда не изрекли ни единого слова лжи. Эту высшую награду миф в состоянии выразить на языке нашего мира только отрицательно, посредством обетования, столь часто повторяющегося: ты уже больше не возродишься, non adsumes iterum existentiam apparentem124, или, как говорят буддисты, не признающие ни Вед, ни каст: «Ты обретешь нирвану, т. е. состояние, в котором нет четырех вещей: рождения, старости, болезни и смерти».
Никогда не было и не будет другого мифа, который теснее сливался бы с философской истиной, доступной немногим, чем это древнее учение благороднейшего и старейшего народа; и как ни выродился теперь этот народ во многих отношениях, все же оно царит еще у него в качестве всеобщего народного верования и оказывает могучее влияние на жизнь, – ныне так же, как и четыре тысячи лет назад. Вот почему эту non plus ultra125 мифического изображения изумленно приняли еще Пифагор и Платон, заимствовали его из Индии или Египта, чтили его, пользовались им и – кто знает, насколько? – сами верили в него. Мы же посылаем теперь к брахманам английских clergymen126 и ткачей-гернгутеров, чтобы из сострадания научить их уму-разуму и объяснить им, что они созданы из ничего и должны этому благодарно радоваться. Но с нами случается то же, что со стреляющим в скалу. В Индии наши религии никогда не найдут себе почвы: древняя мудрость человечества не будет вытеснена событиями в Галилее. Напротив, индийская мудрость устремляется обратно в Европу и совершит коренной переворот в нашем знании и мышлении.
64
Но от нашего не мифологического, а философского описания вечного правосудия перейдем теперь к родственному ему размышлению об этическом смысле поведения и о совести, представляющей собой просто чувство, познающее этот смысл. Но сперва я хочу обратить здесь внимание еще на две особенности человеческой природы, которые могут способствовать уяснению того, до какой степени всякий сознает – по крайней мере, в виде смутного чувства – сущность этого вечного правосудия и его основу – единство и тождество воли во всех ее проявлениях.
Совершенно независимо от указанной цели, к которой стремится государство при наказании и которая служит основанием уголовного права, но после совершения злого деяния не только потерпевшему, которого большей частью одушевляет жажда мести, но и совсем беспристрастному зрителю доставляет удовлетворение тот факт, что лицо, причинившее другому страдание, само испытывает ту же меру страдания. Мне кажется, что здесь сказывается не что иное, как именно сознание вечного правосудия, тотчас же, однако, искажаемое непросветленным умом, ибо погруженный в principium individuationis, он совершает амфиболию понятий и от явления требует того, что свойственно только вещи в себе: он не видит, насколько оскорбитель и оскорбленный сами в себе суть одно и то же существо, не узнающее себя в своем собственном проявлении, несущее как муку, так и вину; он не видит этого и требует, чтобы тот же самый индивид, который совершил вину, потерпел и муку. Поэтому большинство людей и потребует, чтобы человек, который обладает высокой степенью злобы (какую, однако, можно было бы найти у многих, но только не в таком сочетании свойств, как у него) и который значительно превосходит остальных необыкновенной силой духа и вследствие этого приносит несказанные страдания миллионам других, например, в качестве всемирного завоевателя, – большинство людей, говорю я, потребует, чтобы подобный человек когда-нибудь и где-нибудь искупил все эти страдания такой же мерой собственного горя; ибо они не понимают, что мучитель и мученики суть в себе одно и что та воля, благодаря которой существуют и живут мученики, есть та же самая воля, которая проявляется и в мучителе, именно в нем достигая самого явственного обнаружения своей сущности, и которая одинаково страдает как в угнетенных, так и в угнетателе, – в последнем даже больше в той мере, в какой его сознание яснее и глубже, а воля сильнее. А то, что более глубокое, освобожденное от principii individuationis познание, из которого проистекают всякая добродетель и благородство, не питает помыслов, требующих возмездия, это показывает уже христианская этика, которая решительно запрещает всякое воздаяние злом за зло и отводит царство вечного правосудия в область вещи в себе, отличную от мира явлений («Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь». Рим, 12, 19).
Есть в человеческой природе гораздо более поразительная, но зато и более редкая черта: она характеризует собой стремление перенести вечное правосудие в область опыта, т. е. индивидуации, и в то же время указывает на предчувствие того, что, как я выразился выше, воля к жизни разыгрывает свою великую трагедию и комедию за собственный счет и что одна и та же воля живет во всех явлениях; эта черта состоит в следующем. Мы видим иногда, как великая несправедливость, которую испытал человек лично или даже пережил в качестве свидетеля, столь глубоко возмущает его, что он сознательно отдает свою жизнь на верную гибель для того, чтобы отомстить виновнику этой неправды. Мы видим, например, что он в течение целого ряда лет разыскивает какого-нибудь могущественного тирана, наконец, убивает его и сам умирает на эшафоте, предвидя его заранее и часто даже не пытаясь избегнуть его, потому что жизнь сохраняла для него ценность лишь как средство мести. Такие случаи особенно часто встречаются у испанцев127. Если вникнуть в дух этой жажды возмездия, то она оказывается очень непохожей на обычную месть, которая зрелищем причиненного страдания облегчает то, что уже пришлось претерпеть; здесь же мы видим, что целью может быть названа не столько месть, сколько кара, потому что в намерение входит здесь воздействие на будущее силой примера, и притом здесь отсутствует какой-либо своекорыстный расчет как для отомщающего индивида (ибо он при этом погибает), так и для общества, обеспечивающего свою безопасность законами: эта кара налагается отдельным лицом, а не государством, и не во имя какого-нибудь закона, – напротив, она всегда поражает такое деяние, которое государство не хотело или не могло покарать или наказания которого оно не одобряет. Мне кажется, что негодование, увлекающее подобного человека далеко за пределы всякого себялюбия, вытекает из глубочайшего сознания того, что он сам представляет всю ту волю к жизни, которая проявляется во всех существах, во все времена и которой поэтому принадлежит и не может быть безразлично как отдаленное будущее, так и настоящее; утверждая эту волю, он требует, однако, чтобы зрелище, представляющее ее сущность, никогда больше не являло такой чудовищной несправедливости, и он хочет примером неотвратимой мести (ибо страх смерти не удерживает мстителя) устрашить всякого будущего злодея. Воля к жизни, продолжая утверждать себя, уже не связана здесь с отдельным явлением, с индивидом, а охватывает идею человека и стремится сохранить ее проявление чистым от чудовищной и возмутительной несправедливости. Это – редкая, знаменательная и возвышенная черта; в силу ее отдельная личность приносит себя в жертву, желая стать десницей вечного правосудия, подлинной сущности которого она еще не понимает.
65
Все предшествующее рассмотрение человеческого поведения проложило нам дорогу к последнему выводу и весьма облегчило нам задачу – уяснить то этическое значение поведения, которое мы, вполне понимая друг друга, характеризуем в жизни словами доброе и злое, – уяснить это значение в абстрактной и философской форме и показать его как звено нашей главной мысли.
Но сначала я восстановлю подлинный смысл понятий доброго и злого, которые философскими писателями наших дней странным образом рассматриваются как понятия простые и, следовательно, недоступные анализу; я сделаю это для того, чтобы разрушить смутную иллюзию, будто они содержат больше, чем это есть на деле, и уже сами по себе означают все, что здесь требуется. Я могу сделать это потому, что я сам так же мало расположен прикрываться в этике словом добро, как раньше не прикрывался словами красота и истина, которым в наши дни приписывают особое достоинство и которые поэтому нередко призываются на выручку; нет, я не буду строить торжественной физиономии, которая заставляла бы других верить, будто, произнося эти три существительные, я делаю нечто серьезное, а не обозначаю только три очень широкие и абстрактные, следовательно, не очень содержательные понятия, имеющие весьма различное происхождение и смысл. В самом деле, кому из познакомившихся с современными сочинениями не опротивели в конце концов эти три слова, хотя первоначально они и указывали на такие прекрасные вещи? Ведь тысячу раз приходится наблюдать, как всякий, совершенно не способный к мышлению, думает. Что ему стоит только во весь голос и с физиономией вдохновенного барана произнести эти три слова, чтобы изречь великую мудрость!
Объяснение понятия истинного дано уже в трактате о законе основания, гл. 5, 29 и сл. Содержание понятия прекрасного впервые получило подлинное объяснение во всей нашей третьей книге. Установим же теперь действительное значение понятия доброго, или хорошего, что может быть сделано очень просто. По существу своему это понятие относительно и означает соответствие известного объекта какому-нибудь определенному стремлению воли. Таким образом, все то, что нравится воле в каком-либо из ее проявлений, что удовлетворяет ее цели, все это, как бы различно оно ни было в других отношениях, мыслится в понятии хорошего. Оттого мы и говорим: хорошая еда, хорошие дороги, хорошая погода, хорошее оружие, хорошее предзнаменование и т. д., словом, мы называем хорошим все, что именно таково, как мы его желаем; поэтому для одного может быть хорошо то, что для другого будет полной противоположностью. Понятие хорошего распадается на два вида: непосредственное удовлетворение воли в настоящем и опосредствованное удовлетворение, направленное в будущее, т. е. приятное и полезное.
Противоположное понятие, пока речь идет о непознающих существах, выражается словом дурное, реже и в более абстрактном смысле употребляется слово зло; оно, таким образом, означает все то, что не удовлетворяет известному стремлению воли. Как и все другие существа, которые могут иметь отношение к воле, так и людей, содействующих известным, определенным желаниям, относящимся к ним благосклонно и дружественно, назвали хорошими, – в том же смысле и всегда с тем же элементом относительности, что и, например, в выражении: «Он ко мне хорошо относится, а к тебе – нет». Те же, кто в силу своего характера вообще не препятствовал стремлениям чужой воли как таковым, а скорее способствовал им, кто постоянно был услужлив, благожелателен, дружелюбен, благотворителен, – те за такое отношение их поведения к воле других вообще были названы добрыми людьми. Противоположное понятие для познающих существ (животных и людей) выражают по-немецки (а в течение примерно ста лет и по-французски) другим словом, чем для существ бессознательных, а именно не словом schlecht (mauvais), a bose (mechant), между тем как почти во всех других языках этого различия не существует, и κακος, malus, cattivo, bad говорят как о людях, так и о неодушевленных вещах, противостоящих целям определенной индивидуальной воли. Таким образом, всецело исходя из пассивной стороны хорошего, человеческая мысль только позднее могла перейти к активной его стороне и исследовать поведение человека, названного добрым, по отношению уже не к другим людям, а к нему самому; при этом она в особенности задалась целью объяснить, во-первых, то чисто объективное уважение, которое такое поведение вызывает в других; во-вторых, то своеобразное довольство собою, которое оно несомненно вызывает в самом деятеле, ибо он покупает его даже ценою жертв другого рода; и, наконец, в-третьих, то внутреннее страдание, которое сопровождает злые помыслы, какую бы внешнюю выгоду ни приносили они тому, кто их питал. Отсюда и произошли этические системы, как философские, так и опирающиеся на вероучения. И те, и другие всегда стараются как-нибудь соединить блаженство с добродетелью: первые отождествляют для этого, посредством закона противоречия или же закона основания, блаженство с добродетелью либо выводят его как ее следствие – и то, и другое всегда софистически; последние утверждают существование других миров, кроме того, который известен возможному опыту. [Мимоходом замечу следующее: то, что всякому положительному вероучению придает великую силу, его опорная точка, посредством которой оно овладевает умами, – это, безусловно, его этическая сторона, правда, не непосредственно как таковая, но поскольку она тесно связана и сплетена с остальной, свойственной каждому вероучению мифической догмой и представляется объяснимой исключительно благодаря ей. И это доходит до того, что, хотя этический смысл поступков совершенно необъясним по закону основания, а каждый миф все-таки следует этому закону, тем не менее верующие считают этический смысл поведения и его миф совершенно нераздельными, даже совсем отождествляют их и в каждом нападении на миф видят нападение на правду и добродетель. Это идет так далеко, что у монотеистических народов атеизм, или безбожие, стал синонимом отсутствия всякой нравственности. Для священников подобное смешение понятий очень кстати, и лишь вследствие него могло возникнуть такое чудовищное явление, как фанатизм, который овладел не просто отдельными, особенно извращенными и злыми индивидами, но и целыми народами и, наконец (к чести человечества лишь однажды в его истории), воплотился у нас, на Западе, в инквизицию: по новейшим, теперь уже достоверным сведениям, она в одном Мадриде (а ведь и в остальной Испании было много таких духовно-разбойничьих притонов) в течение 300 лет замучила на костре за рели- гиозные убеждения 300 000 человек, о чем следует немедленно напоминать каждому ревнителю, как только он подымет голос.] Напротив, с нашей точки зрения, внутренняя сущность добродетели окажется стремлением в направлении, совершенно противоположном блаженству, т. е. счастью и жизни.