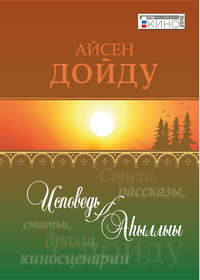Kitabı oku: «Исповедь = Аһыллыы»
Слово об авторе
Как поэт, прозаик и сценарист Айсен Дойду начинал активно писать еще в далекие 60-е годы, когда учился во Всесоюзном государственном институте кинематографии в Москве. Тогда пресловутая «хрущевская оттепель» была в самом разгаре, и вольнодумцы выражали свои мысли и авторские позиции в различных рукописных журналах типа «Метрополя» В. Аксенова и его друзей. Молодой Айсен Сивцев кинулся с головой в этот опасный омут, печатался в институтском журнале «Футуриг», за что впоследствии жестоко поплатился, когда в Якутске, уже в брежневские «застойные» времена, его записали в диссиденты, не брали на работу по специальности, не печатали.
Автор на родине был официально признан только после перестройки, в начале 90-х годов, как поэт – авангардист литературного объединения «Белая лошадь». В новом сборнике Айсена Дойду, как яркий образ поэтического стиля автора тех времен, напечатано стихотворение «Еще раз о лю…», которое, кстати, перевел на французский язык поэт Жак Карро и напечатал в журнале «Tempete dе plumes» («Буря на кончике пера») в 1995 году.
Однако как самобытного и весьма интересного поэта Айсена Дойду сначала признали в Киргизии и Эстонии, печатали в журналах этих республик еще в конце 80-х, чем морально поддержали его, вселили надежду, веру в свои творческие возможности. И он активно писал и пишет стихи и поэмы также сейчас, в наши дни. Его последние стихи, написанные на родном якутском языке, напечатаны в этом сборнике.
В поэзии Айсена Дойду, кроме эмоционально – лирических откровений, присутствует ярко выраженная гражданская позиция автора, где он выступает как защитник родной природы, любимого города, где родился и вырос, как поборник правды и социальной справедливости. Это особенно заметно в его первом поэтическом сборнике «Соло для чорной сабаки», изданном в 1990 году в Якутске.
В нашей республиканской литературе Айсена Дойду можно признать как билингвиста – человека, пищущего на двух языках: русском и якутском. Драмы, написанные автором на родном языке, ставят на сценах якутских театров, они напечатаны в сборниках его произведений. Драмы последних лет – «Мэҥэ халлаан оҕото Манчаары Баһылай» и «Ааттаах поэт Арбита» – имели успех у зрителей. Их на сцене Театра им. П. А. Ойунского поставил известный у нас и зарубежом режиссер Сергей Потапов, с которым у Айсена Дойду перспективное творческое содружество. В драме «Ааттаах поэт Арбита» («Знаменитый поэт Арбита») автор создает образ якутского поэта Ивана Арбиты, трагически погибшего в гулаговском аду в Верхоянске. Это был человек, не принявший систему и реалии сталинского режима 30-х годов, гениальный поэт, который всегда стоял за правду и справедливость, за творческую и духовную свободу личности, настоящего гражданина.
Совершенно другим человеком, по характеру и привычкам, является герой в повести «Золото», который живет по – обывательски стандартно, занятый своими сугубо бытовыми заботами и интересами. Но этих совершенно противоположных по натуре героев – поэта Арбиту и горожанина Бореньку – объединяет стремление всегда быть открытым и щедрым, естественное пренебрежение к тщеславию и личному обогащению. Потому повесть «Золото» неспроста привлекает внимание якутских кинорежиссеров, готовых ее экранизировать, показать людям необычные метаморфозы героя, который остался в живых благодаря именно своей скромности и человечности.
Рассказ «Заснеженные ели» повествует об отношениях охотника со своим четвероногим другом – помощником Кустуком, с которым не прижились оба в городе, где люди, пленники каменных дорог и стен, частично потеряли теплые душевные связи между собой и доброе, участливое отношение к животным, отчего последние становятся злыми и жестокими. Искренняя, истинная дружба человека с собакой, верной охотнику до конца, показана автором предельно реалистично, просто и правдиво, что доказывает хорошее знание писателем жизни таежных людей, охотников Якутии. Этот рассказ, заметив, перевели во Франции с перспективой напечатать в альманахе наряду с другими произведениями Айсена Дойду.
В сборнике читатель прочтет и один из последних киносценариев автора «По воле Дьылга Хаана, или Острые стрелы судьбы», где правдиво показано время прихода русских казаков на Лену. На фоне конфликтов и кровавых стычек якутов с пришельцами мы видим по – человечески искреннюю и прекрасную любовь местной девушки Абакаяды и казака Семена Дежнева, которая впоследствии стала примером и основой дружественных и добрососедских отношений якутов и русских, судьбы которых тесно переплелись и соединились по воле бога – айыы Дьылга Хаана. В сценарии много неожиданных перипетий, убедительно и ярко выписанных персонажей, положительных и отрицательных, правдиво показана эпоха со всеми ее трагическими и радостными мгновениями.
В сборнике «Исповедь» хочется выделить статьи Айсена Дойду на историческую и религиозную темы, которые были раньше напечатаны в газетах «Наше время», «Орто дойду» и «Жизнь Якутска», они частично опубликованы автором в Интернете, где нашли многочисленные отзывы – взрывные и доброжелательные.
В статье «Новый взгляд на древнюю историю народа саха» автор опирается на архивные, археологические и совершенно новые открытия в генетике, что вызовет большой интерес не только у якутского читателя, но и за рубежом, где считают якутов «народом без истории». Но еще больший резонанс у читателей вызовут статьи о древней вере тюрков – тенгрианстве, которая чудом сохранилась у якутов – саха, живущих на северо – востоке России, в регионе Полюса Холода. Доклад по статье «Тенгрианство. Религия древних эпох и новых грядущих столетий» был прочитан Айсеном Дойду на V Международной конференции по тенгрианству в Болгарии осенью 2015 года.
В этой статье автор пишет не только о прошлом величии тенгрианства, религии великого Чингисхана, которая помогала ему, сыну Вечного Неба, завоевать полмира, но и о том, что вера в законы Неба, Великого Космоса имеет свое продолжение и сейчас, в наше время, объединившись с законами современной физики, которые доказывают роль полевых структур, микро– и макроволновых колебаний в космосе, в нашей Галактике. Здесь человек, являясь малой частицей Вселенной, Вечного Неба, не должен нарушать своими дурными поступками и помыслами Великую Гармонию Жизни, планеты Земля, где он живет. В мире, в природе, во Вселенной все взаимосвязано, о чем и ратует, что и утверждает с древних времен религия Вечного Неба – тенгрианство.
В заключение надо сказать, что произведения Айсена Дойду – стихи, рассказы и повести, драмы и киносценарии – часто печатаются в местных журналах «Полярная звезда», «Чолбон», «Илин»… Издательствами выпущены четыре сборника стихов и прозы, которые давно исчезли с полок книжных магазинов. Последний, юбилейный сборник автора, скорее всего, тоже долго не залежится, ибо эта книга наверняка заинтересует как любителей поэзии, так и крепкой прозы, поклонников театра и кино. Сборник «Исповедь» разнообразен как по жанру включенных в него произведений, так и по своей тематике, где лирика соседствует с прозаически – житейскими проблемами, а новелла, повествование предшествуют философским и религиозным откровениям автора. Здесь все, как и в нашей реальной жизни, течет и меняется, рождает вопросы и утверждения, которые, возможно, являются самыми главными в жизни каждого человека.
Иван Иннокентьев,
член Союза писателей России,
заслуженный работник культуры РС(Я)
Хоһооннор. Стихи
Аар Кудук Мас
О-о, бу тураахтыыр эбиккин!
Аҕыс иилээх – саҕалаах
далан дойдум тулааһына,
кэтит дойдум биттэҕэ,
айгыр – силик айхаллаах
Аар Кудук Маспыт бэйэлээх,
Алахчын Хотун иччилээх
Орто дойдум тутааҕа!
Амарахтыыр аймахтарга,
урааҥхайдыыр сахаларга
иитэр Ийэ – мас буолан
туругурдаан турдаҕыҥ!
Айбыт айыы аҕалаах,
иэйэхситтиир ийэлээх,
билэр–өйдүүр төбөлөөх,
астык ааллаах атыырдаах,
ирдиир – көрдүүр ыллыктаах,
содуоллаһар суоллардаах,
туруолаһар туруктаах,
самнархайдыыр сайылыктаах,
кыргыһыылаах кыстыктаах,
кыайар – хотор хоннохтоох,
албан ааттаах эр киһи!
Тэтэркэйдиир имнэрдээх,
имигэстэй илиилэрдээх,
мэтэгэркээн түөстэрдээх,
хойуу – субуй суһуохтаах,
кылбаа көмүс ытарҕалаах,
илин – кэлин кэбиһэрдээх,
кылыгырыыр симэхтэрдээх
саха аймах кэрэтэ,
дьиэлээх кэргэн ийэтэ!
Айыыһыттан айдаран,
Иэйэхситтэн имэҥнэнэн
кэргэниниин таптаһан,
оҕолорун төрөтөн,
саха дьонун элбэтэн,
үөскүүрүгэр кыһаллан
хотун дьахтар барахсан!
Аламай күнүм анныгар,
уйгу – быйаҥ дойдубар
хайгыыр хотун дьахтарым
уонна дохсун эр киһи
көрсө түһэн – билсиһэн,
төлөннөөхтүк таптаһан,
хоонньохтоһон – холбоһон
олохторун тэрийбиттэр,
уйаларын оҥостоннор
оһохторун оттубуттар,
бур – бур буруо таһаарбыттар,
элбэх оҕо төрөтөннөр,
аймах – уруу үөскэтэннэр,
далбар түөлбэ тэрийэннэр
үөрэ – көтө олорбуттар!
Алгыс
Күлүмнүүр күндү күннээх,
дьэҥкир ыраас халлааннаах,
унаар урсун уулардаах,
күөхтүү хампа тыалардаах,
дьоллоох дьоһун дьоннордоох,
айгыр – силик бэйэлээх
албан ааттаах Орто дойдум!
Түһүлгэҕэр төннөммүн
сэргэлэргин кууһабын,
кэлбит кэми уруйдаан
ахтар – таптыыр Алахчыммар
ытык тоҕой саламаҕа
маҕан кылбын ыйыыбын!
Арыы түөлбэ алаастардаах,
сытар сылам сыһыылардаах,
сүөгэй сүүрэр сүөһүлэрдээх,
кымыс сыттаах сылгылардаах
далбар далан дойдубут.
Манна ааннаан олорор
Айыы айбыт сыччыйа,
биэбэйдээбит бэдэрэ,
Орто дойду кэрэтэ –
саха омук киһитэ.
Иэйэн – туойан киниэхэ
анаан – минээн этэбин,
арчылыырдыы алгыыбын:
аччыктыыры аһатан,
хоргуйбуту хоннорон,
хоргустууру харыстаан,
ылларбыты ыллыктаан,
ачайбыты абыраан,
кэлбиттэри кэрэлээн,
барбыттары байдамнаан,
уруулары уруйдаан,
аймахтары айхаллаан,
туруктааҕы тарҕатан,
үөлээннээҕи үөскэтэн,
сирин – уотун баһылаан
кэскиллээхтик олордун,
тускуллаахтык туругурдун!
Айгыр – силик! Уруй – мичил!
Дьөһөгөй. Төннүү
Орто туруу дойдубут
оһуор дьэрэкэй киинигэр
арҕаһыттан тэһииннээх,
көхсүттэн көнтөстөөх
айбыт айыы аймахтара,
Күн Өркөн дьонноро
бүгүн мустан тураллар.
Күнү көрсө кэлэннэр
эрэнэллэр, кэтэһэллэр,
илиилэрин өрө уунан
кэп туонар курдуктуу
истиҥнээхтик иэйээхтээн
күүрээннээхтик көрдөһөллөр.
Күлүм аллай!
Маҥхалыырым барахсан,
Күөгэллиирим көмүһүм,
Алахчыным хотунум…
Истэбин! Көрөбүн!
Сирэйиҥ сиэрдийбит,
мөссүөнүҥ мөлтөөбүт,
хараҕыҥ уута халыйбыт –
онно ахтар Дьөһөгөйүҥ
күн буолан кылбайбыт,
сах курдук сарыаллаабыт…
Кэтэһэҕин кэлэрбин…
Истэбин! Көрөбүн!
Түһэбин… төннөбүн!
Үчүгэйи баҕаран,
ньүксү нөрүөн нөргүйэн
истэр истиҥ сүрэхпиттэн
баҕараммын этэбин.
Көмүс күммүт күөрэйдэ,
күүтэр кэммит кэлээхтээтэ!
Айгыр – силик аан дойду
саһарҕаттан сырдаата,
соргулуурдуу сандаарда.
Айхаллыыбын, алгыыбын!..
Аньыы – хара араҕыстын,
кирдээх санаа кэбэлийдин,
хара хабыр халбарыйдын!
Алыас! Алыас!
Сотуллубат суоллардаах,
ыһыллыбыт ыллыктаах,
оломтолоох олохтоох
дьарылыктыыр дьылҕалаах,
туругурдуур туруктаах,
тосхоллордуур тускуллаах
сайдар саха дьонноро,
айыыларбыт оҕолоро…
Наскыл! Тускул!
Күөгэл – нусхал!
Уруй! Айхал!
Люблю
Люблю я в людях чистоту и цельность,
Когда в словах – святая простота,
В поступках, жестах – не суета, а дельность,
В глазах открытых – неба высота.
Тебя хотел бы видеть я такой –
Учтивой, милой, умной, нежной,
И в сердце верном – ангельский спокой,
Когда вокруг так много скверны.
Когда вокруг балдеж и суета,
Народ везде базарит неразумный,
Нужны мне – разум, доброта,
Мне нужен мир – прекрасный и не шумный.
Я ухожу от пьянства, бардака,
Где все обман и скучная игра,
Я убегу от жизни дурака
В мир Высшей Правды и Добра, –
В твой лучший мир, где голоса столетий
Звучат божественно, как музыка Вивальди,
Где в царстве Красоты, Гармонии на свете
Все в жертву отдают – искусства ради,
Где в штормовых морях белеют паруса,
Творений гениев рождается так много,
Где свято чтут и деда, и отца
И в храмах светлых славят в песнях Бога!
Люблю я в людях чистоту и цельность,
Когда в словах – святая простота,
В поступках, жестах – не суета, а дельность,
В глазах открытых – неба Высота!
Исповедь
Ветер, звезды, река,
крыши, окна, столбы…
дни, года и века…
я такой же как вы –
из толпы –
миллионная часть, миллиардная доля,
я – вселенская пыль,
семя Бога и воля,
птица света и тьмы,
Смерти цель я живая,
суть холодной зимы
и зеленого, теплого мая;
я как фактор и новость,
«я» – как буква и повесть;
справедливый упрек:
я всегда поперек,
иногда невозможный, возможно,
чаще «свой» для чужих,
но порою «чужак» для своих;
в браках – брак,
в дебрях быта – дурак,
в драку лез ошалело и рьяно,
и бывал я противный и пьяный,
куролесил безбожно довольно,
падал, падло, я долго и…
больно,
но однажды поднялся, –
я встал…
«только так! только так!
к черту муть и бардак!»
Фантазер по натуре, чудак,
я – начало свое и конец,
я – азартный игрок
и певец,
я – струна несмолкаемой лунной гитары,
я – журчащий, поющий ручей:
пей и лей! пей и лей!
– Нынче чей ты?
– Ничей.
Я – стрела,
золотое звенящее слово,
я – волшебник и маг,
создающий из какушки смак,
нажитое добро превращающий в тлен,
я – свобода и плен,
я – любовь,
небывалая жгучая страсть –
на фиг славу и власть!
на хрен пошлость и мразь! –
Я – поклонник ромашек и роз,
враг бездарных и скучных мимоз…
– Правда – истина где?
– В унитазах.
И сегодня зараза маразма,
раз за разом,
входит, наглая в раж,
Люди знают, не врут:
время злобы и смут подошло:
как легко убивают и мрут,
и тут
не фанатик идей я
и шут,
я – не «пряник и кнут»,
я – язычник – якут, и сегодня, сейчас
буду горше, чем соль, –
в корень сердца смотрящая боль.
– Сильный прав? Прав подлец?
Но тогда, если так,
я – мертвец,
что зарылся в земле
от кошмара живых убежав –
здесь беда и битье! –
я – дите, кто хватает бездумно
ручонками пламя,
я – усталый, познавший все страхи старик,
я – молчанье и крик,
я – сегодня – вчера…
трижды три, дважды два!
Ветер, звезды, река,
крыши, окна, столбы…
дни, года и века…
Я – мольба,
я – судьба;
наяву и во сне –
я есть всадник
на белом
крылатом коне!
Я – полет,
я – поэт,
чья стихия – стихи;
«я» есть я, но и…
и
сын тончайшей
зеленой травинки
и могучего духа Айыы!
Якутск
Мой забытый, опальный Якутск,
город «серый и скучный»,
город добрых начал
и обычных печальных концов.
Кто поможет тебе?
Кто спасет твое ветхое древо?
Город – сон, город явь,
город первой любви и последних надежд,
город пыльный, старинный, седой,
это город – старик
с сучковатою тростью кривой,
город мертвых шаманов,
купцов и священников,
город ссыльных, убийц и мошенников,
город псов и святых простаков,
город странных навязчивых снов,
город вещих таинственных слов.
Город жил, пережил и пожары, и смерть,
город трижды тонул,
город трижды воскрес
и донес чрез века свой божественный крест.
Город знает в лицо Муравьевых, Бесстужевых,
город помнит и храбрых –
Дежневых, Хабаровых,
город, чье продолжение –
Камчатка, Аляска, Америка…
Где конец и начало земли? Снова: эврика!
Мой старинный Якуцкъ –
город в зоне зимы,
город в поясе вечного холода,
город открытый, наивный и добрый,
город щедрый простой и покладистый,
город теплых дождей
и вечерней прохлады, покоя,
город светлых июньских ночей,
город утренних рос, золотых одуванчиков,
город, пропахший смолой
и сиреневым дымом печей,
город в зеленой долине у Лены,
я люблю твои мшистые теплые стены.
Как хорошо здесь бродить не спеша…
Ты – город – сердце, город – душа!
Город прадедов, бабушек, дедушек наших,
которые тут чинно – важно когда – то ходили
по мостовым деревянным,
по тротуарам дощатым,
вдоль заборов, дырявых от шитиков,
у ворот расписных,
где горят фонари – одиночки,
должно быть, стояли они и смеялись,
носогрейки курили – дымили,
а потом в свете зимней луны
у дряхлеющей «башни Дыгына»
втихоря целовались они… Хорошо!
Этот город под Северной Синей Звездой,
город сказок и песен,
чабыргахов, преданий,
город чистого первого снега,
город свадеб и «ярмонков» шумных,
город церквей и соборов,
город праздничных звонов:
динь – день – дом! Но…
Но разбито, убито, забыто,
«нету их боле» – пусто, ноль…
Что сейчас?
Город – тень, город – боль,
это город забывших достоинство,
собственный чин,
это город в низине, на дне,
этот город с ногами в воде
дышит смрадом бензина и гари…
Этот город сегодня в дерьме.
Это город, в котором гуляют другие,
это город, в котором торгуют чужие,
этот город как двор проходной,
перевалочный путь лагерей,
город резвых чинуш и рвачей,
город пьяных бродяг и бичей,
город нищих артистов, поэтов, творцов…
город обманутых наших отцов.
Как твоя сложится дальше судьба,
город – молитва, город – мольба?
Сегодня атака железа и камня –
окна разбиты и сорваны ставни.
Кружева – на дрова!
Узорочье дивное – в свалку!
Чужое не жалко,
итить твою мать!
И можно тащить, шуровать – воровать!
Что закон! Это нас не касается.
И, наглея, они подбираются
быстро, бодро теснят, наступают,
руки хищные жадно хватают,
быль и сказку живую ломают,
дом за домом, квартал за кварталом…
Мало сил отстоять и оспорить
нашу память, наследство, историю.
Отвернулись. Махнули: пуща – ай…
И прощай!
Прощай, мой Якуцкъ,
деревянный Якутск,
Дьокуускай!
Знакомые улицы, окна и лица,
город – калека, город – провинция,
город властями верховными списанный,
город любимый,
последний,
единственный!
15 апреля, 1992 г., г. Якутск
Рассказ
Золото
В субботу утром я проснулся от громкого стука в дверь.
Черти вас носят! Это в самый смачный момент заявились, когда я с Мерилин Монро купался голышом в голубом бассейне… Под пальмами! Заколебался я: подняться или дальше спать… с прекрасной Мерилин? Стук в дверь, однако, не прекращался, будто знали, что я дома и не тороплюсь открывать. Петров что ли с бутылкой? А может, это Светка?
Вскочил и, на ходу заправляя штаны, ринулся к двери. А рожа моя (заметил в зеркале) была ужасная: пятна, глаза припухли, волосы всклочены… Но ничего не оставалось как повернуть ручку замка.
На пороге стоял почтальон. Он протянул мне телеграмму и, даже не попросив расписаться, тут же быстренько удалился. Исчез. Я слегка удивился такому «отвороту», но зная повадки наших почтарей, не придал тому особого значения. Но откуда телеграмма? Посмотрим, посмотрим… Что это? Читаю: «Приходите немедленно Шавкунова забирать добро тчк ваша бывшая родственница Старостина». Какое добро? Какая – такая Старостина, да еще «бывшая родственница»?
Я долго не мог врубиться, понять толком… И меня ли это касается вообще? Но адрес, имя и фамилия на телеграмме были точно мои – все совпадало. Странная, однако, штучка получается… Да-а.
Потом на кухне, опохмеляясь рюмкой «Агдама», я вдруг вспомнил: Шавкунова, 86, где живет… А-а! Так это же Агриппина Тарасовна! Это бабушка моей первой жены, которую я не видел уже лет десять, а то и более. И, кажется, она действительно была Старостина… Да, Старостина! И еще припомнил: «дочь пеледуйского ямщика». Понятно. «Что это она, старая, совсем что ли рехнулась?» – подумал я и бросил телеграмму в помойное ведро. На ф… мне все это?
Так вот сижу на кухне, курю, смотрю с тоской в окно на город: густой январский туман проглотил все ближние дома. Холодно, градусов эдак минус пятьдесят будет, однако. Муть кругом голубая! Спать больше не хочется. Что же мне делать сегодня? Опять к Петрову пойти? Опять лакать до уср… этот вонючий «вермуть»? Ну его к черту!
Пожевал на кухне, выпил чайку и завалился на диван. Нашел в тумбе старый номер «Огонька», где Никита с Фиделем в обнимку стоят – два друга до гроба. Потом надоела вся эта политика, и я стал листать – читать рассказы Горького, дошел до «Старухи Изергиль» и… вспомнил тут Агриппину Тарасовну. Старуха все – таки не отступала со своим загадочным «добром». Что же это, елки, такое?.. Интересно.
Я пошел снова на кухню, прикончил там остаток вчерашнего «Агдама», закусил капустой. А может, мне все – таки… Чувствую, вино несколько разогрело, подбодрило меня, и перед глазами всплыли картины прошлых лет. Я вспомнил сухое, морщинистое лицо Ольгиной бабушки, ее водянистые глаза с прищуром, седые пряди волос… Вспомнил ее странные выходки. Больше всего Агриппина Тарасовна боялась в собственном доме воров. У нее жили квартиранты, тихие, вполне интеллигентные люди (кажется, учителя), но ей, старой, все мерещилось, что кто – то войдет в ее комнату и утащит все добро. По этой причине она тщательно заклеивала полосками толстой бумаги крышки ящиков, чемоданов, задвижки комода и даже дверцу… холодильника, куда лазила на дню по десять раз. И каждый раз заново клеила!
Всякой старой рухляди у бабушки было много. Все углы, полки и свободные места были забиты какими – то свертками, коробками, банками… И все было тщательно завернуто, перевязано веревками и бинтами. Даже старые газеты 40-х годов она хранила огромными кипами на шифоньере.
Был случай, когда мы с Ольгой пришли 1-го Мая к ней в гости. Так она угостила нас коркой засохшего, пахнувшего плесенью черного хлеба и вином, которое от времени давно превратилось в кислую воду! Такая вот «щедрая» была Агриппина Тарасовна у нас.
В ее тесной от вещей комнате, помню, были гнутые венские стулья, картины в красивых рамах, подсвечники с подвесками и прочая тусклая старина. Но самое чудное – это были кованые железом громоздкие сундуки, в которых что хранилось – скрывалось никто не знал, даже ближайшие ее родственники. А мне всегда казалось, что там, в ее сундуках, попусту гниют кипы всяких лисьих шкурок, превратившиеся давно в кишашую червяками моли вонючую труху. А может, все – таки, там были иконы или старые книги? Или золото? И это добро… «Добро»?
«Агдам» положительно размягчил мои мозги, и я тут же «не отходя от кассы», решил все – таки сходить к этой сумасшедшей старухе, узнать в чем тут, собственно, дело. Почему «добро» именно мне, а не внучке Ольге? А вдруг?..
Я, не спеша, помылся, надел даже свой новый вельветовый пиджак, аккуратно причесал спутавшиеся волосья, чисто побрился. Посмотрел внимательно в зеркало: рожа слегка красноватая, конечно, веки припухшие, но ничего – сойдет для старухи. Красавцем никогда я не был, и не надо. Да!
Вышел, одевшись потеплее, на улицу. Туман, мороз, жуть несусветная. Хорошо, что Шавкунова недалеко, сравнительно близко от моего дома. Иду, бодрюсь. Вот и знакомый деревянный дом с резными наличниками, калитка с кованой железной ручкой. Захожу смело во двор, и, немного потоптавшись перед дверью, стучусь.
Дверь мне открыла Ольга и, как ни в чем не бывало, радостно сказала: «Проходи, Борис, бабушка давно ждет тебя. Исстрадалась совсем».
Я снял пальто в коридоре, стащил с ног тяжелые пилотские унты, надел мягкие тапочки. В доме было очень жарко натоплено. Хорошо.
Арнольд, муж Ольги, сидел в гостиной задрав ноги на стул, что – то читал. Я знал его давно, с пионерских пламенных лет, когда он был у нас в школе председателем Совета дружины, и мы, рядовые члены, отдавали ему салют при встрече. Но сейчас я, конечно, ему руку не вскинул, но вежливо, по – джентльменски поздоровался, ибо он был все – таки человек культурный и весьма начитанный, – не то что я, сорванец бывший «заложный». Помню, он любил всегда всякие заграничные штучки, неплохо играл в настольный теннис. Однажды в городской библиотеке, куда я забрел случайно, он колоссально читал лекцию о французских художниках, об искусстве тамошнем вообще, в котором, видать, Арнольд разбирался, как повар в бифштексах. Ну, это было раньше. А теперь?
А теперь, как ребята рассказывали, он нигде не работал, и жили они с Ольгой, за неимением собственной квартиры, в бабушкином доме. Тесновато им, однако, тут. В коридоре громоздились какие – то мешки, ящики… В гостиной было полно всяких книг, рулонов бумаги и холста. У стола стоял большой мольберт.
– Ты, Арнольд, теперь что, рисуешь? – спросил я не из любопытства, а так, чтобы прервать как – то наше долгое молчание.
Но вместо ответа на мой вопрос он задумчиво, несколько суховато спросил:
– Ты, разумеется, был весьма удивлен, получив эту телеграмму? – перевернул страницу «Юманите». Разумеется, Арнольд знал хорошо французский и даже, как говорили, эсперанто. – Дело в том, Борис, – продолжал он, – что Агриппина Тарасовна сейчас лежит в тяжелом состоянии, можно даже сказать – при смерти находится. Весьма ридлитично, что она чрезвычайно жаждет поговорить с тобой, желает оставить тебе какой – то ящик. Ведь ты, дружок, интересуешься антиквариатом, не так ли?
– Анти…ква…квариатом? – удивился я. – Да никогда. Зачем мне это? По – правде, я тут человек чужой и даже, можно так сказать, неприятный для вашей семьи… и вдруг такое.
– Но ты ведь знаешь ее странный, спонтаннический характер, – поднялся с кресла Арнольд. – Здесь, дружок, какая – то эго – метафизика проявляется с ее стороны. Несовместимость видимых реальностей! И все эти годы… – он приблизил ко мне лицо и почти перешел на шепот: – …она так и не приняла меня как конкретного человека, как определенную личность. Она… она все время называла меня твоим именем и видела во мне только Бориса Антипина, то есть тебя! И, главное, при этом отлично знала, что ты живешь не здесь, а отдельно, в собственной квартире, на Октябрьской.
– Лажа какая – то, – удивился я. – Выходит, она допускала, что ты это не я, понимала это?
– Вот именно! – Арнольд в волнении заходил по комнате, закурил. – Она прекрасно все видит и понимает, хотя… – он выпустил изо рта густую струю дыма, – …патология, вроде, налицо. – Арнольд натянуто засмеялся. – Мы с женой сначала страшно обижались на подобные кунштюки с ее стороны, но потом привыкли: как ни как, это старый, больной человек… Пусть себе дурит! Долго ли?..
Тут в комнату вошла Ольга, сказала, что бабушка ждет меня. Потом добавила:
– Только будь с ней, Борис, поласковей. Хорошо?
Я вошел, подавляя неловкость, в комнату Агриппины Тарасовны, которая была слабо освещена лишь лампочкой ночника. Все здесь было по – старому: те же ящики с замками, чемоданы, банки – склянки, и все заклеено аккуратно полосками бумаги. Пахло нафталином и лекарствами.
Старуха лежала в постели похудевшая, совершенно обессилевшая. Слабым движением руки она показала на стул и взглядом приказала внучке оставить нас одних.
– Отхожу я, милок, – слабо «улыбнулась» она. – Жду тебя, не дождусь… А потом и помирать не страшно.
– Да что Вы, Агриппина Тарасовна, какие там разговоры, да вам еще… – начал было я успокаивать ее.
Но старуха только махнула рукой:
– Да полно тебе, полно… Смерть долгожданная, она… она ведь разная бывает, милок. Тяжелая тоже, ох какая тяжелая. – Тут она посмотрела на меня прищурившись, сказала с облегчением: – Вот теперь мне, Боренька, лутше. Лехше стало, когда рядом сидишь. Да-а. Я ведь знаю тебя, милок, давненько и знаю про тебя то, чего сам не знашь. Это мне частью карты показали, а частью я сама узреваю. Человек, ты, Боренька, мяхкий, добрый, любой грех с любого сымешь и любого простишь, и делаешь добро не от блажи какой, а от понимания души человечьего. Зла в сердце не держишь, а это, милок, само главное для нас. И Ольга вот не обижается на тебя. Да-а. – Она вздохнула, замолчала, что – то раздумывая, потом сказала: – Судьба – то у кажного одцельна, и сила в жизни есть, которая ташшыт нас, заставляет дела неприглядные совершать вопреки уму – разуму. Может черт, а может и Бох это… От рожденья и до смерти держит она. Так – то вот, милок.
– Про что это Вы? – не понял я. – Если говорить, к примеру, о Боге…
– Бох? Это раньше так называлось. А теперича люди отказались от него, но не ослободились от силы сей большой. Имена всяки там и все проходит, но главно – то остается во внутрях. Вот я никогда в церкву не ходила апосля – то, при советской власти, и ни в христианского, ни в татарского бога не верю. Так у меня, вроде. Но кажный умереть не может просто так, не высказавшись полно. Так ведь, Боренька?
– Да-а, – согласно покачал я головой, заметив про себя, что старуха совсем ожила. Движения ее стали резче, голос окреп, в глазах появились огоньки. – Так чем же я могу вам помочь, Агриппина Тарасовна?
Она откинула голову на подушку и, подняв вверх острый подбородок, сказала:
– Подай – ка, милок, сюды поближе потрет этот, что висит у меня над головой… Видишь?
Это был искусно намалеванный краской портрет какого – то симпатичного молодого человека в старомодном дореволюционном сюртуке, и я снял это осторожно с гвоздя и поставил на комод, чтобы ей было удобно видеть.
– Вот так – то хорошо, милок.
– А кто это? – осторожно спросил я. – Что – то раньше не видел это у Вас.
– Это муж мой Василий Иннокентьевич. Он был сыном богатого витимского купца Иннокентия Крылова, которого красные расстреляли в двадцать первом годе в тайге.
– Как же так? Вон же Ваш, муж! – удивился я, посмотрев на другой портрет в красивой медной раме.
– А Макар был моим вторым мужем… Он – дедушка Ольгин, ты это знаешь. Оба были хорошие люди, лутшие. Я завсегда их путала обоих до убивства. Макара еще раньше познала, чем Василия, любили оба меня… А в день их погибели я тут закрываюсь на крючок и никово не путаю. Они, сердешные, должно быть благодарны мне, что я их от мучений избавила.
– Я не совсем Вас понимаю, Агриппина Тарасовна, – сказал тут я. – О чем Вы говорите?
– Теперя, милый, мне все равно, и я, как на духу, все должна тебе открыто сейчас рассказать. Я-то знаю, что свершила доброе для них, но в душе все равно тяжко очень и мучительно. – Она повернулась, широко раскрыла глаза. – Это ведь, милок, я убила Василия… и Макара тож… Обоих порешила!
Я настолько обалдел от этой дикой новости, что чуть было не свалился со стула. Убила?! «Видать, старуха совсем уж рехнулась, – подумал я. – И черт меня дернул сюда придти!»
– Я вижу, что ты чуток испужался и не веришь мне. Думаешь, что старуха рехнулась на старости, – хрипло выдавила она, потом, отдышавшись, добавила: – Ведь я… я, милый, мысли – то твои знаю, насквозь вижу. А нашшот покойников моих дорогих не сумлевайся. Трудно было им, ох как трудно! Первого – то, Василия, красные гоняли, хотели как сына купца Крылова расстрелять, да он все скрывался… Полгода у себя в подполье хоронила, и токмо ночью, когды уж темно, тайком его выпускала. А там – то, внизу, темно, сыро да холодно, и Василий опосля от страданий таких весь разом поседел и слова стал путать, кричать зверьмя стал по ночам, а соседи наши, Губины, стали допытыват меня: что да почему? Боязно стало дальше держать его, он стронулся вовсе, ну и я, конешно того… стукнула его топором… по голове – то – кончила так. В подполье его, сердешного, и похоронила. И ни одна душа про то темное дело не знает… Тебе токмо, Боренька, говорю, чтоб лехше стало чуток. Смотри, не говори никому, слышь?
– Слышу, Агриппина Тарасовна, не скажу, – пообещал я, не очень – то веря рассказанному. – Так ли все это?
Она всплакнула, вытерла ладонью слезы, продолжила:
– Я молодая была в те годы, осталась вдовой одна – одинешенька, а тут опять Макар мой заявился… Мужик – то он был больно горячий, лихой, и у белых побывал, и у красных опосля рубился. Орел орлом гляделся! Чуб кудрявай торчит, усы черные, как у Буденного… Ох и любили его бабы – то нашенские, да он все ко мне да ко мне – так и пристал. Да что счас вспоминать – то про все – пропало, сгинуло, милок… Вот сошлись мы с ем, значит, да тут беда: по его вине в колхозе в половодье – весной это все случилось – люди погибли, скот потонул. А тогда, в тридцатые, дюже строго было, сам знаешь, ну и затаскали Макара чекисты по тюрьмам. Вспомнили даже про то, как он в красных отрядах ходил да промышленных и купцов, якобы, сильно потрошил.