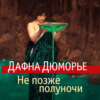Kitabı oku: «Трактир «Ямайка». Моя кузина Рейчел. Козел отпущения»
Перевод с английского Людмилы Мочаловой, Галины Островской, Николая Тихонова

© Л. Г. Мочалова, перевод, 2023
© Г. А. Островская (наследники), перевод, 2023
© Н. Н. Тихонов (наследник), перевод, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023 Издательство Иностранка®
Трактир «Ямайка»
Трактир «Ямайка» и поныне стоит на двадцатимильной дороге между Бодмином и Лонстоном, это гостеприимное и приветливое место, где не продают спиртного. В этой истории я описала его таким, каким он мог быть сто двадцать лет назад; и хотя трактир действительно существует, все без исключения персонажи и события, описанные на этих страницах, являются плодом моего воображения.
Дафна Дюморье,Бодинник-бай-Фоуи
Глава 1
Был конец ноября, день стоял пасмурный и холодный. Погода за ночь испортилась: переменившийся ветер принес с собой серые, гранитные тучи и моросящий дождь, и, хотя было чуть больше двух часов пополудни, бледный зимний вечер уже опустился на холмы, окутав их туманом. К четырем, наверное, совсем стемнеет. Сырость и холод пробирались внутрь дилижанса, несмотря на плотно закрытые окна. Кожаные сиденья стали влажными на ощупь, а в крыше, наверное, была щель, потому что время от времени тонкие струйки дождя просачивались внутрь, оставляя на обивке темно-синие пятна, похожие на чернильные кляксы. Ветер налетал порывами, сотрясая дилижанс на поворотах дороги, а на открытых местах дул с такой силой, что тот весь дрожал и раскачивался, шатаясь между высокими колесами, словно пьяница.
Кучер, по уши закутанный в пальто, чуть не пополам согнулся на козлах, тщетно пытаясь укрыться от непогоды, подставляя ветру плечи, а понурые лошади угрюмо тащились по дороге; исхлестанные ветром и дождем, они уже не реагировали на удары кнута, который время от времени щелкал у них над головами, едва поворачиваясь в онемевших пальцах возницы.
Колеса скрипели и стонали, утопая в дорожных колеях, и швыряли в окна жидкую грязь; она смешивалась со струйками дождя и безнадежно скрывала от взгляда окружающую местность.
Немногочисленные пассажиры, сбившиеся в кучку, чтобы согреться, дружно вскрикнули, когда одна колдобина оказалась особенно глубокой, а старик, не прекращавший брюзжать с тех самых пор, как подсел в Труро, в ярости поднялся с места. Повозившись с оконной рамой, он с грохотом опустил ее, и на него и на остальных пассажиров тут же обрушился поток дождя. Старик высунул голову наружу и заорал на кучера высоким срывающимся голосом, обзывая того мошенником и убийцей: он, дескать, всех их уморит прежде, чем они доберутся до Бодмина, если будет гнать очертя голову; все пассажиры и так чуть живы, и уж сам-то он, конечно, никогда больше не сядет в дилижанс.
Неизвестно, услышал его кучер или нет. Скорее всего, поток ругательств унесло ветром, потому что старик, подождав с минуту и достаточно выстудив внутренность дилижанса, поднял окно, уселся обратно в свой угол, обернул колени пледом и заворчал себе в бороду.
Его соседка, общительная краснощекая женщина в синем плаще, тяжело и сочувственно вздохнула и, подмигнув неизвестно кому и кивнув в сторону старика, наверное, в двадцатый уже раз сказала, что такой ненастной ночи и не припомнит, а она видывала всякое; хотя стоит ли удивляться, это вам не лето. Потом, порывшись в глубинах большой корзины, женщина вытащила огромный кусок пирога и вонзила в него крепкие белые зубы.
Мэри Йеллан сидела в противоположном углу, как раз там, где струйка дождя просачивалась сквозь щель в крыше. Холодные капли падали ей на плечо, и она стряхивала их нервным движением пальцев.
Девушка сидела, подперев подбородок ладонями и уставившись в заляпанное грязью и дождем окно в отчаянной надежде, что луч света все же пробьется сквозь тяжелое серое одеяло и ясное небо, еще вчера синевшее над Хелфордом, покажется хоть на миг, предвещая удачу.
Всего лишь сорок миль отделяли Мэри от места, где она прожила целых двадцать три года, а надежда в сердце девушки уже угасала, и присущая ей отважная стойкость, которая так поддерживала ее во время долгой болезни и смерти матери, поколебалась под первым натиском дождя и пронизывающего ветра.
Места кругом были чужие, что уже само по себе повергало в уныние. Глядя сквозь мутное окно кареты, Мэри видела мир, совсем не похожий на тот, от которого ее отделял всего один день пути. Как теперь далеки от нее светлые воды Хелфорда, его зеленые холмы и веселые долины, белые домики на берегу! Может быть, ей не суждено увидеть их снова! В Хелфорде дожди были ласковые, они шумели в листве многочисленных деревьев и терялись в сочной траве, соединяясь в ручьи и мелкие речушки, которые вливались в широкую реку, питали землю, а та в благодарность дарила цветы.
Хлещущий, безжалостный дождь заливал окна кареты и уходил в каменистую, бесплодную почву. Здесь почти не было деревьев, за исключением одного или двух, тянущих голые ветви навстречу всем четырем ветрам, согнутых и скрученных веками непогоды; и так черны были они от времени и бури, что даже если бы весна дохнула на них, то ни одна почка не осмелилась бы развернуться в лист из страха, что ее убьет запоздалый мороз. Убогая земля, без живых изгородей и лугов, страна камней, черного вереска и чахлого ракитника.
Здесь, верно, не бывает ни весны, ни осени, подумала Мэри; только суровая зима, как сегодня, или сухой палящий жар середины лета, и ни одной тенистой долины, и трава жухнет и рыжеет уже в мае. Окрестности сделались серыми от непогоды. И даже люди на дороге и в деревнях изменились. В Хелстоне, где Мэри села в первый дилижанс, она ступала по знакомой земле. Так много детских воспоминаний было связано с Хелстоном. Девушка вспоминала еженедельные поездки на рынок с отцом в былые времена и ту стойкость, с которой мать потом, когда его не стало, заняла место мужа, разъезжая в повозке зимой и летом, как это делал он, с курами, яйцами и маслом; как сама она сидела рядом, крепко держа корзину с нее саму величиной, положив подбородок на ручку. Народ в Хелстоне был дружелюбный, к Йелланам в городке относились с почтением; после смерти мужа вдове пришлось несладко, а ведь мало кто из женщин смог бы жить, как она, – с маленьким ребенком на руках управляться с фермой, даже не помышляя о новом замужестве. Был один фермер в Манаккане, который посватался бы к ней, если бы осмелился, и еще один, в Гвике, выше по реке, но по глазам вдовы было понятно, что никто ей не нужен, ибо она душой и телом принадлежит мужчине, который умер. Непосильный труд в конце концов взял свое, ведь мать Мэри не берегла себя. И хотя все семнадцать лет вдовства она нещадно понукала и погоняла себя, на последнее испытание сил уже не хватило, и воля к жизни покинула ее.
Мало-помалу живность на ферме убывала, а времена настали плохие – так ей говорили в Хелстоне, – и цены упали ниже некуда, и денег совсем не осталось. В верховьях реки было не лучше. На фермах вот-вот мог начаться голод. Потом странная болезнь поразила землю и погубила скот и птицу в окрестностях Хелстона. У нее не было названия, и от нее не было лекарства. Эта болезнь поражала и уничтожала все вокруг, совсем как неожиданно нагрянувшие поздние заморозки; она приходила в новолуние и затем отступала, оставляя после себя лишь след из мертвых существ. Для Мэри Йеллан и ее матери это было тревожное, тягостное время. Они видели, как один за другим заболевают и умирают цыплята и утята, которых они растили, как однажды теленок упал прямо на лугу. Больше всего было жалко старую кобылу, которая прослужила им двадцать лет; это ее широкую, крепкую спину Мэри впервые оседлала когда-то в детстве. Однажды утром лошадь умерла в стойле, положив голову на колени Мэри. Когда они похоронили ее в саду под яблоней и поняли, что их любимица больше никогда не повезет их в Хелстон в базарный день, мать повернулась к Мэри и сказала:
– Какая-то часть меня легла в могилу вместе с бедняжкой Нелл, Мэри. Уж не знаю, может, веры мне недостает, но только сердце истомилось, сил моих нет.
Она пошла в дом и села в кухне, бледная как полотно и постаревшая сразу на десять лет. Ко всему безразличная, мать только пожала плечами, когда Мэри сказала, что позовет доктора.
– Слишком поздно, доченька, – сказала она, – уж семнадцать лет, как поздно.
И мама, которая никогда не плакала, стала тихо всхлипывать.
Мэри позвала старого доктора, который жил в Могане, того самого, что когда-то помог ей появиться на свет. Они ехали обратно в его двуколке, и доктор сказал, покачав головой:
– Я догадываюсь, что это такое, Мэри. Твоя мать не щадила ни души, ни тела с тех пор, как умер твой отец, и вот теперь сломалась. Не нравится мне это. Время-то нехорошее, девочка.
У ворот их встретила соседка, горя желанием сообщить дурную весть.
– Мэри, твоей матери хуже! – закричала она. – Она только что вышла из дверей, глаза как у призрака, вся дрожит и вдруг упала. Миссис Хоблин помогла ей, и Уилл Сирл тоже. Они обе занесли бедняжку внутрь. Они говорят, глаза у нее закрыты.
Доктор решительно растолкал столпившихся у двери зевак. Они с Сирл подняли с пола неподвижное тело и перенесли наверх, в спальню.
– Это удар, – сказал доктор, – но она дышит; пульс ровный. Я давно опасался, что она вот так внезапно однажды сломается. Одному Богу известно, да, может, ей самой, почему это случилось именно сейчас, по прошествии стольких лет. Теперь, Мэри, ты должна доказать, что ты достойная дочь своих родителей, и помочь матери. Только ты можешь это сделать.
Шесть долгих месяцев, если не больше, Мэри ухаживала за матерью, заболевшей в первый и последний раз в жизни, но, несмотря на все заботы дочери и врача, вдова не стремилась выздороветь. У нее не осталось желания бороться за жизнь.
Бедняжка, казалось, жаждала избавления и молча молилась, чтобы оно поскорее пришло. Она сказала Мэри:
– Я не хочу, чтобы ты жила так же трудно, как я. Это губительно для тела и души. После моей смерти тебе незачем оставаться в Хелфорде. Отправляйся к тете Пейшенс в Бодмин, это будет самое лучшее для тебя.
Бесполезно было уверять мать, что она не умрет. Она уже все решила.
– Я не хочу бросать ферму, мама, – возразила Мэри. – Я здесь родилась, и мой отец, и ты тоже из Хелфорда. Йелланы должны жить здесь. Я не боюсь бедности и того, что ферма захиреет. Ты семнадцать лет трудилась здесь одна; почему я не могу делать то же самое? Я сильная, я справляюсь с мужской работой, ты это знаешь.
– Такая жизнь не для девушки, – заявила мать. – Я жила так все эти годы ради твоего отца и тебя. Если женщина трудится для кого-то, это приносит ей покой и удовлетворение; но работать для себя – совсем другое дело. Тогда в этом нет души.
– В городе от меня не будет толку, – сопротивлялась Мэри. – Я ничего не знаю, кроме этой жизни на реке, да и знать не хочу. С меня хватает поездок в Хелстон. Мне лучше будет здесь, с теми курами, которые у нас еще остались, с зеленым садом, и со старой свиньей, и с лодкой на реке. Что я стану делать там, в Бодмине, с тетей Пейшенс?
– Девушка не может жить одна, Мэри. Она обязательно или повредится в уме, или впадет в грех. Одно из двух. Помнишь бедняжку Сью, которая каждое полнолуние в полночь бродила по кладбищу и звала любимого, которого у нее никогда не было? А еще тут была одна девушка, это случилось до твоего рождения, которая осиротела в шестнадцать лет. Так она сбежала в Фолмут и связалась там с матросами. Не видать нам покоя на том свете – ни мне, ни твоему отцу, – если ты не будешь в безопасности. Тетя Пейшенс тебе понравится: она всегда знала толк в веселье и забавах и сердце у нее большое. Помнишь, она приезжала сюда двенадцать лет назад? У нее были ленты на шляпке и шелковая нижняя юбка. Пейшенс тогда приглянулась одному парню, который работал в Трилуоррене, но решила, что слишком хороша для него.
Да, Мэри помнила тетю Пейшенс, ее кудряшки и большие голубые глаза, и как та смеялась и болтала, и как она приподнимала юбки, на цыпочках переходя через грязный двор. Тетушка была прелестна, как фея.
– Я не знаю, что за человек дядя Джосс, – сказала мать, – потому что я в глаза его не видела, да и никто не видел. Но когда десять лет назад, в День святого Михаила, твоя тетя вышла за него, она написала всякую восторженную чепуху, словно была девчонкой, а не женщиной тридцати с лишним лет.
– Они подумают, что я неотесанная, – медленно произнесла Мэри. – Наверняка тетя и ее муж – люди, хорошо воспитанные. Нам и говорить-то будет почти не о чем.
– Они полюбят тебя такой, какая ты есть, без всякого жеманства. Я хочу, чтобы ты мне пообещала, доченька: когда меня не станет, ты напишешь тете Пейшенс и передашь, что моим последним и самым большим желанием было, чтобы ты отправилась к ней.
– Я обещаю, – сказала Мэри, но на душе у нее стало тяжело и смутно.
Будущее казалось таким шатким и неопределенным, совсем скоро она лишится всего, что знала и любила, и даже знакомая исхоженная земля не поможет девушке пережить трудные времена, когда те настанут.
С каждым днем мать слабела; с каждым днем жизнь уходила из нее. Она протянула жатву и сбор урожая, дожила до первого листопада. Но когда по утрам стали сгущаться туманы и на землю опустились заморозки, когда вздувшаяся река потоком устремилась к бурному морю, а волны с грохотом стали разбиваться на отмелях Хелфорда, вдова беспокойно заворочалась в постели, хватаясь за простыни. Она называла дочь именем своего мертвого мужа и говорила о том, что давно прошло, и о людях, которых Мэри никогда не видала. Три дня больная прожила в собственном мире, а на четвертый день умерла.
На глазах у Мэри все, что она любила и знала, постепенно переходило в чужие руки. Живность продали на Хелстонском рынке. Мебель раскупили соседи. Одному человеку из Каверака приглянулся их дом, и он купил его. С трубкой в зубах новый хозяин расхаживал по двору и указывал, где и что он будет менять, какие деревья срубит, чтобы открылся вид. Мэри с молчаливым отвращением наблюдала за ним из окна, складывая скудные пожитки в отцовский сундук.
Она сделалась нежеланной гостьей в собственном доме: по глазам незнакомца из Каверака Мэри видела, как он хочет, чтобы она поскорее убралась, да и сама она теперь думала только о том, чтобы поскорее уехать. Мэри снова перечитала письмо от тети, написанное неразборчивым почерком на простой бумаге. Тетя писала, что несчастье, обрушившееся на ее племянницу, стало для нее потрясением, что она понятия не имела о болезни сестры и вообще так много лет прошло с тех пор, как она гостила в Хелфорде. «У нас тоже произошли перемены, о которых ты не знаешь, – продолжала тетушка. – Я теперь живу не в Бодмине, а почти в двенадцати милях от города, по направлению к Лонстону. Это дикое и уединенное место, и, если ты к нам приедешь, я буду рада твоей компании, особенно зимой. Я спросила твоего дядю; он не возражает, если только ты не болтлива, покладиста и согласна нам помогать, когда понадобится. Как ты понимаешь, он не может давать деньги или кормить тебя просто так. За жилье и стол ты будешь помогать в баре. Видишь ли, твой дядя – хозяин трактира „Ямайка“».
Мэри сложила письмо и убрала в сундук. Странное приглашение от той улыбчивой тети Пейшенс, которую она помнила.
Холодное, пустое письмо; ни единого слова утешения, никаких подробностей, лишь упоминание о том, что племянница не должна просить денег. Тетя Пейшенс, красавица в шелковой юбке, такая деликатная, – и вдруг жена трактирщика! Мама, должно быть, ничего об этом не знала. Это письмо совсем не походило на то, которое десять лет назад написала счастливая невеста.
Как бы то ни было, Мэри дала слово, и его нужно сдержать. Родной дом продан; здесь ей нет места. Как бы ни приняла ее тетя – она мамина родная сестра; только об этом и следовало помнить. Прошлая жизнь осталась позади – милая родная ферма и светлые воды Хелфорда. Впереди лежало будущее – и трактир «Ямайка».
Вот так Мэри Йеллан и оказалась в скрипучем тряском дилижансе, который направлялся на север через Труро, стоящий у истоков реки Фал, с его крышами и шпилями, широкими мощеными улицами. Голубое небо над головой все еще напоминало о юге, люди у дверей улыбались и махали рукой вслед громыхавшему экипажу. Но когда Труро остался позади, небо заволокло тучами, а по обе стороны большой дороги потянулась дикая пустынная местность. Все реже в долине встречались деревни, разбросанные там и сям, и в дверях домов почти не было видно улыбающихся лиц. Деревья попадались лишь изредка; живые изгороди и вовсе пропали. Потом задул ветер и принес с собой дождь. И наконец дилижанс вкатился в Бодмин, такой же серый и неприветливый, как окружающие его холмы, и пассажиры один за другим стали собирать вещи и готовиться к выходу – все, кроме Мэри, которая неподвижно сидела в своем углу. Кучер – лицо его было мокрым от дождя – заглянул внутрь через окно.
– Вы собираетесь дальше, в Лонстон? – спросил он. – Сегодня ночью не стоит ехать через пустоши. Знаете, вам лучше переночевать в Бодмине и отправиться утренним дилижансом. В карете-то больше никого не осталось.
– Но меня ждут сегодня, – возразила Мэри. – Дорога меня не пугает. Да мне и не нужно до самого Лонстона; вы ведь сможете высадить меня у трактира «Ямайка»?
Кучер взглянул на нее с удивлением.
– У трактира «Ямайка»? – переспросил он. – Зачем вам трактир «Ямайка»? Это неподходящее место для девушки. Ей-богу, вы, должно быть, ошиблись. – Он уставился на нее в упор, явно не веря.
– Да, я слышала, что это довольно уединенное место, – ответила Мэри. – Но я и сама не городская. На реке Хелфорд, откуда я родом, всегда тихо, зимой и летом, но мне никогда не было там скучно.
– Дело тут вовсе не в скуке, – ответил кучер. – Может, вы не понимаете, раз вы не местная. Хотя многих женщин испугали бы раскинувшиеся на много миль пустоши, но речь не об этом. Подождите-ка. – Он окликнул через плечо женщину, которая стояла в дверях гостиницы «Ройял», зажигая лампу над крыльцом, потому что уже стемнело. – Будьте добры, миссис, – сказал кучер, – подойдите сюда и урезоньте эту девушку. Мне сказали, что она едет в Лонстон, но она попросила высадить ее у «Ямайки».
Женщина спустилась по ступенькам и заглянула в карету.
– Места там дикие и страшные, – сказала она, – и если вы ищете работу, то на фермах вы ее не найдете. Там, на пустошах, чужаков не любят. Лучше вам остаться в Бодмине.
Мэри улыбнулась.
– Все будет хорошо, – заверила она. – Я еду к родственникам. Мой дядя – хозяин трактира «Ямайка».
Воцарилось долгое молчание. В полутьме кареты Мэри заметила, что мужчина и женщина уставились на нее. Ей вдруг стало зябко и тревожно; она надеялась услышать хоть слово ободрения, но так и не дождалась. Женщина отступила от окна.
– Извините, – медленно проговорила она. – Это, конечно, не мое дело. Спокойной ночи.
Кучер, покраснев, принялся насвистывать, как будто хотел загладить неловкость. Мэри порывисто потянулась и тронула его за руку:
– Скажите мне… Я не обижусь. Моего дядю здесь не любят? Что-нибудь не так?
Кучеру было явно не по себе. Он говорил сердито и избегал ее взгляда:
– У «Ямайки» дурная слава, странные толки ходят. Знаете, как это бывает. Но я не хочу зря вас пугать. Может, это все и неправда.
– Какие толки? – спросила Мэри. – Там что, много пьют? Или мой дядя привечает дурных людей?
Кучер не поддавался.
– Не хочу зря вас пугать, – повторил он, – к тому же я ничего толком не знаю. Только то, что другие говорят. Порядочные люди в «Ямайку» больше не ходят. Вот и все, что мне известно. В прежние времена мы там поили и кормили лошадей и сами заходили промочить горло и перекусить. Но больше мы там не останавливаемся. Мы нахлестываем лошадей, пока не доберемся до перекрестка Пяти Дорог, да и там не задерживаемся.
– Почему люди туда не ходят? В чем причина? – не отставала Мэри.
Кучер медлил с ответом, как будто подыскивая слова.
– Боятся, – произнес он наконец и покачал головой. Больше ничего добиться от него было нельзя. Возможно, он чувствовал, что был слишком резок, или ему стало жаль девушку, но минуту спустя он снова заглянул в окно и заговорил: – Не хотите выпить чашку чая перед отъездом? Дорога длинная, а на пустоши холодно.
Мэри покачала головой. Аппетит у нее пропал. И хотя чай согрел бы ее, девушке не хотелось выходить из кареты и идти в «Ройял», наверняка та женщина станет ее разглядывать, а люди вокруг – перешептываться. Кроме того, внутри Мэри вдруг кто-то трусливо заныл: «Останься в Бодмине, лучше останься в Бодмине». Девушка боялась, что в тепле и уюте гостиницы может уступить. Но она ведь пообещала матери поехать к тете Пейшенс и не должна нарушать данное слово.
– Тогда трогаемся, – сказал кучер. – Сегодня ночью мы будем единственными путниками на всей дороге. Вот вам еще один плед на колени. Когда мы перевалим через гору и выберемся из Бодмина, я погоню лошадей: эта ночь – не для путешествий. Я не успокоюсь, пока не доберусь до Лонстона и не лягу в свою постель. Не много найдется любителей ездить через пустоши зимой, да еще по такой грязи.
Он захлопнул дверь и залез на козлы.
Дилижанс загрохотал вниз по улице, мимо надежных и прочных домов, мимо мерцающих огней, мимо случайных прохожих, которые торопились к ужину домой, сгибаясь под напором ветра и дождя. Сквозь ставни на окнах пробивались узкие полоски теплого света свечей: там, должно быть, в очаге горит огонь, на столе постелена скатерть, женщина с детьми садится за ужин, а мужчина греет руки у веселого пламени. Мэри подумала об улыбчивой крестьянке, своей попутчице; та, наверное, тоже сидит сейчас у себя дома, за столом, рядом с детьми. Какая она была уютная, с румянцем во всю щеку, с грубыми натруженными руками! Какую уверенность и спокойствие излучал ее глубокий голос! И Мэри сочинила для себя маленькую историю о том, как она вышла бы из кареты вслед за попутчицей и попросила бы приютить ее. Конечно, ей бы не отказали – девушка была в этом уверена. Для нее нашлись бы и улыбка, и дружеская рука, и постель. Она стала бы помогать этой женщине, полюбила бы ее, вошла бы в ее жизнь и познакомилась бы с ее близкими.
Но лошади тащились в гору, прочь из города, и в задние окна кареты Мэри видела, как огни Бодмина быстро исчезают один за другим, и вот уже последний отблеск мигнул, задрожал и скрылся. Теперь она осталась один на один с ветром и дождем, с долгими милями бесплодной пустоши, отделявшими ее от конечной цели путешествия.
Мэри подумала, что так, должно быть, чувствует себя корабль, покинув безопасную гавань. Ни одно судно не могло бы казаться себе более одиноким, чем она сейчас, даже когда ветер свистит в снастях и море лижет палубу.
Теперь в экипаже было темно, факел горел тусклым желтым огнем, а от ветра, задувавшего из щели в крыше, пламя колебалось, угрожая поджечь кожаную обивку, поэтому Мэри решила его потушить. Девушка забилась в угол, раскачиваясь из стороны в сторону в такт движению экипажа и думая о том, что раньше и не знала, каким пугающим бывает одиночество. Даже дилижанс, который весь день укачивал ее, как колыбель, теперь, казалось, скрипел и стонал угрожающе. Ветер готов был сорвать крышу, а дождевые струи, ярость которых больше не сдерживали холмы, с новой силой забарабанили в окна. По обе стороны дороги раскинулась бескрайняя равнина. Ни деревьев, ни тропинок, ни одиноких домиков, ни деревушки; только мили и мили холодной пустоши, темной, нехоженой, тянущейся вплоть до невидимого горизонта. Невозможно здесь жить, подумала Мэри, оставаясь при этом как все люди. Даже дети, должно быть, рождаются искореженные, как почерневшие кусты ракитника, согнутые ветром, который не прекращает дуть с востока и запада, с севера и юга. Их души тоже должны быть искореженными, а мысли – злобными, потому что этим людям приходится жить среди болот и гранита, жесткого вереска и осыпающегося камня.
Здешние жители – наверняка потомки странного племени, которое спало под этим черным небом, приникая к голой земле вместо подушки. В них должно остаться что-то от дьявола. Дорога все вилась и вилась по темной и молчаливой равнине, и ни один огонек ни на мгновение не вспыхнул лучом надежды для одинокой путешественницы в дилижансе. Возможно, на протяжении всех долгих двадцати с лишним миль, составляющих расстояние между Бодмином и Лонстоном, не было никакого жилья; возможно, здесь не было даже пастушьего шалаша на пустынной большой дороге; ничего, кроме одной-единственной мрачной вехи – трактира «Ямайка».
Мэри перестала ориентироваться во времени и пространстве, – возможно, они проехали уже сотню миль, а время, наверное, приближалось к полуночи. Теперь она цеплялась за безопасность экипажа, – по крайней мере, здесь ей было хоть что-то знакомо. Мэри села сюда еще утром, а это было так давно. Каким бы чудовищным кошмаром ни казалась эта бесконечная поездка, все-таки Мэри защищали четыре стены и жалкая протекающая крыша, и сидел кучер, которого можно окликнуть. Все это успокаивало девушку. Наконец ей показалось, что возница погнал лошадей еще быстрее; Мэри слышала, как он кричит на них, ветер донес до окна его голос.
Путешественница подняла раму и выглянула наружу. Ее встретил порыв ветра и дождя; он ослепил ее на миг, а потом, отряхнув волосы и откинув их с глаз, Мэри увидела, что дилижанс бешеным галопом мчится по гребню холма, а по обе стороны дороги лежит невозделанная пустошь, чернея сквозь дождь и туман.
Перед ней на вершине холма, слева, в стороне от дороги, возвышалось какое-то строение. На фоне темного неба мрачно чернели высокие трубы. Рядом не было ни одного другого дома или хижины. «Ямайка» стояла в гордом одиночестве, открытая всем ветрам. Мэри закуталась в плащ и застегнула пряжку на поясе. Кучер натянул поводья, и лошади остановились; они взмокли от пота, несмотря на дождь, и над их спинами облаком поднимался пар.
Кучер спустился, прихватив с собой сундук пассажирки. Он торопился и постоянно оглядывался через плечо на дом.
– Приехали, – сказал он. – Идите через двор. Постучите в дверь, и вас впустят. Мне надо торопиться, а то я сегодня не попаду в Лонстон.
Через секунду кучер уже был на козлах, с поводьями в руках. Он гикнул на лошадей, лихорадочно их нахлестывая. Трясясь и раскачиваясь, дилижанс в мгновение ока помчал по дороге и исчез, поглощенный тьмой, будто его никогда и не было.
Мэри стояла одна со своим сундуком. Она услышала, как в темном доме позади нее отодвигают засовы, и дверь распахнулась. Огромная фигура вышла во двор, размахивая фонарем.
– Кто там? – донесся громкий голос. – Что вам здесь нужно?
Мэри шагнула вперед и взглянула в лицо мужчины.
Свет слепил ей глаза, и девушка ничего не могла разглядеть. Человек размахивал перед ней фонарем и вдруг рассмеялся, схватил ее за руку и грубо втащил на крыльцо.
– Ах, так это ты? – сказал он. – Значит, все-таки приехала! Я твой дядя Джосс Мерлин. Добро пожаловать в трактир «Ямайка»!
Он снова засмеялся и, смеясь, затащил девушку в дом, захлопнул дверь и поставил фонарь на стол в прихожей. Хозяин и гостья оказались друг с другом лицом к лицу.