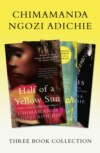Kitabı oku: «Будь ножом моим», sayfa 2
Но от чего тебя бросило в дрожь? «Довольно высокая, длинные волосы, курчавые и непокорные, очки…». Когда бы не эти дурацкие скобки, я бы рассмеялся: такой ты себя видишь, только такой? Почему же ты ничего не написала о своей благородной осанке, твердой и мягкой одновременно, и о твоих горящих щеках, как не упомянула про светлую, веснушчатую наивность твоего лица – не обижайся, немного старомодную, как у людей из пятидесятых.
И почему я сразу не написал что-то вроде «золотистый колос, амбар, сливочное масло», и что твое лицо – тому, кто взглянет на него впервые, взглянет сонно и безучастно – может показаться почти невзрачным по сравнению с твоим великолепным, столь выразительным телом. Надеюсь, я тебя не оскорбил. На первый взгляд у тебя личико воспитанной девочки, такой милый и одновременно ответственный вид, как у классной старосты; но вдруг что-то неожиданное приковывает взгляд: не то темная родинка под нижней губой, не то сам рот, широкий и трепещущий, беспокойный, живущий своей жизнью. У тебя голодный рот, Мириам; если тебе уже об этом говорили, скажи мне, и я подберу другое слово, совершенно не хочу лязгать чужими словами.
В тот вечер я жадно разглядывал твое лицо. Может, я и видел тебя каких-то пять минут, но эти пять минут выжигали во мне твой образ, и твоими же устами я выучил тебя наизусть. А теперь, услышав все это, тебе придется решить, действительно ли тот странный вздох вырвался у тебя при мысли, что я спутал тебя с другой женщиной, или наоборот – потому что ею оказалась ты, потому что тебе выпал этот жребий. Я тебе не помощник в этом выборе, с тех пор прошло уже три недели, и когда я встречаю какую-нибудь незнакомую женщину, – мой взгляд лишь легонько дотрагивается до нее, тут же устремляясь к твоему образу, который хранит моя память. Как растрогало меня твое лицо! А ведь я всегда начинаю с тела. Но и телом я не пренебрег. Мне кажется, ты попыталась размыть его контуры в письме («довольно высокая…»). Ручка дрожит у меня в ладони при мысли, что скоро я напишу твое тело, красоту твоего тела и его великодушие, скрытое под одеждой. И про немного упрямую округлость плеч – и про нее я не забыл, – как будто кто-то укрылся в тебе, и ты пытаешься защитить его.
Как ты склонила голову, как твое тело немного вздрогнуло под платьем, и ты обняла его руками медленно, словно во сне, будто оплакивая. Звучит странно, но именно это я почувствовал, – оплакивая и жалея его. И с первого взгляда я уже так много о тебе знал. Наверное, ты снова разозлишься, что я так нахально, и глазом не моргнув, рассказываю тебе о тебе – но я просто знал. Лицо твое было открытым и безоружным в ту минуту. Никогда еще я не видел взрослого человека, до такой степени лишенного защитного покрова. Каждая эмоция, мелькающая у тебя внутри, тут же явственно отражалась на лице. Мне стало ясно, что ты не способна скрыть ровным счетом ничего. Неужели ты не знаешь, насколько это опасно? Где ты была, когда жизнь преподавала этот урок?
Довольно, я не в силах больше сдерживаться! Приди, угрюмый вестник, неси свой краткий и суровый приказ об увольнении – посмотрим, что в нем.
22.4
Мириам.
Прежде всего:
Сегодня под вечер в супермаркете незнакомый мальчик попросил меня достать для него три плитки шоколада с верхней полки. Я потянулся было, но тотчас мелькнуло передо мной видение: в этом мальчике на самом деле угнездилась загадочная болезнь, и его лечат уже несколько месяцев, холят и лелеют, и, кажется, состояние его улучшается, он идет на поправку – но тут начинает объедаться шоколадом. Он помешался на шоколаде, просыпается по ночам и пожирает его, остановить его невозможно, но и отнимать у него эту скромную радость тоже как-то неловко, ведь он проходит такое трудное лечение. Но дело в том, что этот мальчик знает больше других, больше родителей, врачей и даже больше себя самого: он наделен каким-то тайным внутренним знанием и запасается шоколадом в преддверии долгой, холодной дороги, которая уготована ему, – я снял ему с полки шоколадки, и он радостно побежал своей дорогой.
Такой эфемерный всполох промелькнул у меня перед глазами, пока я тянулся за шоколадом. Я поклялся себе запомнить его, чтобы рассказать тебе, и даже записал на клочке бумаги. Но что с того? В день у меня случается с десяток таких видений, которые я тут же забываю навсегда, и это вовсе не какое-то особенно важное из них. Но если бы я не писал тебе, то позабыл бы и его – а жаль, жаль, что даже такая крохотная греза погибнет, не успев появиться на свет, ведь это живая искорка души. Понятно, что у каждого из нас есть сотни таких, но ни одному другому человеку и в голову бы не пришла настолько дурацкая фантазия, а если бы и пришла – кто стал бы пересказывать ее другому человеку? Ты когда-нибудь слышала, чтобы кто-то пересказывал подобные всполохи?
И как я осмелился рассказать тебе такую ерунду, которая, без сомнения, всего лишь разряд статического электричества в моем мозгу?
Может, из-за твоего внезапного осознания, что если перестанешь мне сейчас писать – только из-за того, что я временами свожу тебя с ума, – никогда до конца жизни не простишь себя?
Слышишь, Мириам, я раз за разом перечитываю твое коротенькое письмо. Быть может, я не осмеливаюсь до конца его понять, но, как мне кажется, тут написано твоим мелким почерком, что если ты отвернешься от меня сейчас, прежде чем мы по-настоящему встретимся, то предашь самое главное, что есть в тебе.
Да я и так знаю – ни к чему было так подробно объяснять, – что это «главное» вообще не связано со мной, что это целиком и полностью твое личное дело, возможно, это и есть твое Самое Сокровенное. Но я читаю и то, что ты дописала внизу немного странным почерком: что порой тебя бросает в дрожь при мысли, что какой-то незнакомец, едва бросив на тебя взгляд, заметил это твое Сокровенное и, не будучи с тобой знаком, произнес его истинное имя.
Яир
(Уже завтра.)
Я имею в виду – если бы только я сумел собрать несколько из них, из этих искорок души, вместе, я бы разглядел в них одну большую мозаику и, наконец, осознал бы что-то, некий принцип, который спаивает меня в единое целое, тебе так не кажется?
Я говорю о безымянных материях, которые в течение жизни наслаиваются моросью и пеплом на дне наших душ. Если ты попросишь меня описать их тебе – у меня не найдется слов, только кольнет под сердцем, тень пробежит по лицу, вздох. Кто-то обнимает себя в толпе людей, и тебя вдруг переполняет тоска. Кто-то пишет: «Ты представился «посторонним». Но совершенно посторонний не мог бы мне так написать». И тут же что-то сдавливает мне горло, всего лишь одна капелька вытекает из железы одиночества, не более того – но что может быть подлинней и важнее? Во время какого-то армейского дежурства на Синае Рильке объяснил мне, что в глубине вещей уже нет случая, а есть только закон. Отлично, ответил я ему – мысль о том, что где-то там все сводится к некоему смыслу, безусловно обнадеживает; но меня этими сведениями уже не удовлетворишь, время мое тает стремительно, и даже если я проживу еще лет тридцать, то увижу всего лишь тридцать первых крокусов – в целом довольно маленький букетик, – и я хочу хоть раз своими глазами увидеть текст этого закона, понимаешь? Эту конституцию. И еще я хочу, чтобы мне устроили организованную экскурсию по этим загадочным «глубинам вещей», и требую имен всех вышеупомянутых «скоплений», чтобы я мог хоть один-единственный раз назвать их по именам, и пусть они ответят мне, пусть хоть раз в жизни станут моими – только бы не это неизбывное, вечное безмолвие (которое, кстати, в эту самую минуту, без всякой видимой причины, в гуще будничной толпы разрывает мне сердце).
Я.
Кстати, не пытайся припомнить, кем из тех, кто окружал тебя в тот вечер, был я. Это совершенно неважно, ты не обратила на меня ровным счетом никакого внимания. Если ты настаиваешь – я невысокий (может, даже ниже тебя. Надеюсь, ты не возражаешь, в переписке это не помеха) и очень худой. В момент творения в меня вложили не слишком много материала и, возможно, не слишком много мысли. Я не совсем Адонис, если хочешь знать мое мнение. Так сказать: не без изъяна. Теперь припоминаешь? Немного унылая физиономия и белесая косматая борода. Бесцельно и безостановочно расхаживает между кучками людей, не присоединяясь ни к одной из них. Помнишь кого-то такого? Этакая помесь угрюмого марабу с евреем? Короче: не трать усилий, все равно не вспомнишь, потому что нет во мне ничего незабываемого.
28.4
Тебе меня совсем не жаль, да?
Никакого снисхождения.
Но что плохого в том, что я превращаюсь в незрелого юнца, когда пишу тебе? Я и юноша, и совсем младенец, и старик, и новорожденный. Я проживаю так много разных жизней, когда пишу тебе. Вот бы и ты подарила мне немного того жара, который иногда допускала (только иногда, правда?) в мучительные годы отрочества. Да и возможно ли было пройти сквозь туннель тех мрачных лет, не загоревшись; почему же и теперь ты сдерживаешь свое пламя? Яир скупит все, весь твой ассортимент горючего, ведь пойми: в том месте, куда я хочу нас привести, жизнь пока еле теплится. И когда я, отдаляясь, гляжу на него со стороны, от него веет холодком даже в мою сторону. Когда же ты позволяешь себе усомниться в нем, пусть только одной репликой, оно тут же леденеет – а ты думала, что создать одно из двоих легко?
Со вчерашнего дня я пытаюсь понять, что переменилось в тебе между последним письмом и этим, которое лежит передо мной. Какой посторонний голос ты услышала? (Это Анна, я прав? Ты ей рассказала. Я уверен, что у тебя нет никого ближе ее. Она уже выставила меня клоуном, да? Иначе как объяснить, что ты вдруг отстранилась и, раздраженно поджав губы, с несвойственной тебе холодностью стала требовать, чтобы я рассказал о себе – о том, что видно невооруженным глазом.)
Я-то надеялся, что мы уже это прошли и ты поняла, что моя повседневная ипостась не имеет к нам никакого отношения. Какая разница, что в телефонном справочнике нет никакого Яира Винда? Ну нет его в этом справочнике! «Видно невооруженным взглядом»? Я же говорил тебе, что ты не видела меня в тот вечер, я был недосягаем для твоего взора. Обратись же к ней, к твоей слепой зоне, загляни в нее глубоко, и увидишь, как я машу тебе оттуда обеими руками, из самой зеницы твоей слепоты, Мириам, пожалуйста.
Ты заметила, что я даже не пытаюсь спорить с твоими чувствами: пока я не начал тебе писать, все именно так и было. Это мое точное описание, все симптомы болезни. Даже «красноречие», которое тебе всегда кажется чем-то скользким, подозрительным. Кажется, я знаю, о чем ты. И вовсе не чужды мне твои предчувствия и подозрения насчет того, что я могу вот так запросто, и глазом не моргнув, доверить посторонним людям свои трогательные слабости. «Странная и неловкая тактика обольщения», – говоришь ты, будто речь не о жизни и смерти.
Я читаю эти резкие определения и думаю: она анализирует меня, как будто я никогда не волновал ее, и в то же время я волную ее, как будто она совершенно не способна к анализу. Так кто же она?
И я вовсе не намерен звонить тебе домой, спасибо. И меня весьма изумило, что невинная идея, которую я предложил на прошлой неделе – придумать вымышленные имена твоим близким, – привела тебя в такую ярость. «У них есть настоящие имена…» (я знаю), и ты не собираешься «заново выдумывать их ради меня» (само собой). И почему я «не могу поверить в простые, естественные и открытые отношения между двумя людьми». Я был практически уверен, что в конце бури ты отвесишь мне пощечину этим самым письмом, навсегда, на веки вечные – а ты, наоборот, даешь мне свой домашний номер?!
Я не стану звонить: во-первых, чтобы сохранить конфиденциальность нашей связи (кто-то может оказаться дома и подслушать), но главным образом из-за того, что даже голос будет слишком материален в том мираже, который я хочу создать для нас. Он должен состоять лишь из написанных слов, а голос может пробить в нем брешь, и сквозь нее в наш мираж потечет реальность: детали и цифры, маленькие потные молекулы жизни, расспросы, смахивающие на допросы. В один миг этот сброд хлынет внутрь, загасив все всполохи огня, – как ты не хочешь этого понять?
В любом случае ты и пяти строк не можешь продержаться с притворной миной: забаррикадировалась в башне из отговорок и очень логичных доводов – мол, пока я продолжаю играть в эти детские игры про шпионов и придерживаться глупой идеи «гильотины», которая внезапно опустится на нас через несколько месяцев, ты не способна всем сердцем поверить даже моим «искренним и душещипательным» рассказам. С другой стороны, тебе невыносимо оттого, что мои иллюзии медленно загоняют тебя в угол, где ты становишься человеком замкнутым, критичным и холодным. Голосом учительницы с пучком в форме банана ты швыряешь в меня еще как минимум три своих вышколенных «я не». Но вдруг губы твои дрожат, и с них срывается совсем другое «я не…», маленькое, бунтарское: «Как мне кажется, ты мог уже заметить, что я не страшусь настоящего пыла в отношениях и чувствах, наоборот, наоборот…»
Ты бы видела, как я, раз за разом доходя до этого хулиганского «я не», млею от наслаждения (будто ты при мне закатала шелковый чулок).
Нет, скажи, только прямо сейчас, напрямик: я ошибся? Ошибся в тебе? Вот сейчас, например, опять поднимается серая волна, заполняя все мое нутро: а вдруг я и впрямь ошибся и, по сути, издеваюсь над тобой, ведь тот, кто не настроен на звук тонкой струны, который я извлекаю для тебя, услышит лишь какофонию, лишь стальной лязг моего почтового ящика или мелкую бюрократию похоти, которую я обнажил перед тобой выше по тексту – эту «конфиденциальность связи», несомненно вызвавшую у тебя тошноту.
Конечно же, я думал вычеркнуть ее, или хотя бы написать о ней поделикатней, но потом оставил, как ты уже знаешь – ведь я хочу, чтобы ты узнала обо мне, узнала меня во всей наготе, в мелочных расчетах и в ничтожных страхах, в глупости, во всем, что стыдно и низко. Почему бы и нет, «мой позор» – это тоже я. Он хочет отдаться тебе точно так же, как и моя гордость, – он желает этого столь же страстно, позарез нуждается в этом.
Знаешь, временами, когда я пишу тебе, меня посещает странное ощущение, абсолютно физическое: будто перед тем, как я смогу к тебе обратиться, я должен созерцать, как мои слова покидают меня длинной вереницей и, добравшись до тебя, сдаются тебе на милость.
«Мой позор» – я никогда раньше не писал этих слов. А теперь они здесь и пахнут, как старые, повидавшие виды домашние тапки (впрочем, они пахнут домом).
Вот именно из-за таких моментов.
Меня удручает, что ты вновь хватаешься за алтарь рафинированной логики, которая, безусловно, в жизни штука весьма полезная – но мы-то не в жизни, Мириам! Это секрет, который я уже месяц шепчу тебе на ухо: ни одного из нас двоих нет в живых! То есть мы не находимся в измерении, подвластном обычным законам человеческих отношений, и уж точно на нас не распространяется стандартный кодекс отношений между мужчиной и женщиной. Так где же мы все-таки? Какая мне разница где, зачем давать этому месту какое-то название, все равно это будут их названия, калька. А нам с тобой я желаю другой конституции: мы установим наши собственные законы, будем говорить на нашем языке, рассказывать наши истории и уверуем в них изо всех сил. Потому что, если у нас не будет ни одного укромного места, где все, во что мы верим, обретет плоть, – значит, наши жизни нам не принадлежат, или еще хуже: наши жизни – всего лишь жизни. Согласна?
Я.В.
7.5
Наконец-то.
А я-то уже было совсем отчаялся и капитулировал.
Жаль только, что мы зря потратили больше месяца, но ты права, мы не просто «потратили» его, мы ни от чего не отступимся и ни о чем не пожалеем. И прямо сейчас (поздновато, конечно) я ужасаюсь своему эгоцентризму: я даже не удосужился представить, чем ты должна поступиться, чтобы сблизиться со мной и поверить в меня на моих условиях. Я загорелся тобой и уверился, что расплавлю все на своем пути: логику, жизненные обстоятельства, даже личности нас обоих… И это действительно чудо, Мириам, только теперь до меня дошло, какое это чудо, что ты вдруг решила (решение твердое, с губами и подбородком!) выбросить все безусловно-логичные доводы в самую глубокую яму в полях Бейт-Зайта4 и вопреки всему прийти, вопреки всему вложить свою душу в мои ладони.
В мои незнакомые руки. Которые сейчас дрожат от груза ответственности.
И как мне отблагодарить этого загадочного друга, который несколькими словами обратил ко мне твое сердце? Но что именно он сказал обо мне и кто он? «Человек без век» – и более ни слова, никаких объяснений. Ничего страшного, шаг за шагом. Я привыкаю слушать твою сумеречную речь в те минуты, когда ты, очевидно, уверена, что я все понимаю, или когда тебе это вовсе не важно и ты непринужденно лепечешь все, что вздумается. И так я понимаю, что душе твоей спокойно в моем присутствии и ты говоришь сама с собой в полубреду, в полудреме…
В любом случае не забудь поблагодарить от меня того парня. Хотя меня немного озадачивает тот факт, что у тебя есть такой близкий друг и что ты ведешь с ним такие подробные и откровенные беседы. И я едва сдерживаюсь, чтобы не спросить, зачем тогда нужен тебе я, если у тебя есть такой человек – способный разговорить тебя в любом настроении, когда ты падаешь в свою забытую миром яму Иосифа5.
Как думаешь, захочешь ли, сможешь ли рассказать мне когда-нибудь, каково там?
И кто с такой легкостью бросает тебя туда (вновь, и вновь, и вновь), и кто не приходит вытащить тебя оттуда?
И что происходит с тобой в те окаянные дни (ты не оговорилась?), когда ты сама – эта яма, после того, как даже Иосиф ее покинул?
Странно, правда? Кажется, у меня нет никаких догадок насчет того, что ты имела в виду, и предполагаю, что мы с тобой называем «Иосифом» и «ямой» совершенно разные вещи – и все же иногда я произношу вслух какую-нибудь твою фразу или просто несколько твоих слов и чувствую, как внутри у меня по всей длине души расходится шов.
Пиши, рассказывай. Жаль упускать хоть день.
Яир
8.5
Вчера отправил тебе одно письмо (уже получила его?). Но то, о чем я писал, каким-то образом получило продолжение сегодня: кое-кто позвонил и назначил мне деловую встречу. Он не хотел приходить ко мне на работу и настоял, чтобы мы встретились на площади перед универмагом (я нередко сталкиваюсь с подобными сумасшедшими, но иногда у них есть интересный материал). Я спросил, как мне его опознать, и он ответил, что будет в черных вельветовых брюках и в клетчатой рубашке, и даже добавил – и в замшевых ботинках… Почти час я простоял на солнцепеке, не видя никого, кто подошел бы под описание. И, уже совсем выйдя из себя и собираясь уходить, увидел, что на краю площади, возле телефонных будок стоит карлик. Самый маленький карлик из всех, кого я видел в жизни. Весь из себя скрюченный, скособоченный, страшный. Он опирался на два крошечных костыля, а одет был в точности, как обещал (и я не смог подойти к нему).
Потом я подумал: в кармане у меня было твое письмо с той фразой, которая при первом прочтении показалась мне немного загадочной и отвлеченной – о горе, которое ни с кем невозможно разделить, которого достаточно ровно для одного.
11.5
Да, конечно, моя дорогая, несравненная, все сердцем, а ты как думала…
Вдруг между нами стало просторней, правда? Я будто почувствовал твое дыхание по ту сторону страницы. Твои плечи немного расслабились.
Да еще и все эти краски, и цветы, и запахи, могучей струей хлынувшие на бумагу, – вплоть до этого момента ты почти всегда писала в черно-белых тонах. И тот факт, что в конверте, наконец, оказалось две страницы (ты права: на двух крыльях можно уже и оторваться от земли). Как чудесно, что ты решила привести меня к себе домой не по главной дороге, по которой ходят все, а со стороны дальней дамбы в Эйн-Кереме6, сквозь долину, и, как я понимаю, проведя меня мимо каждого цветочка, каждого дерева и чертополоха, чтобы мы поздоровались с ящерицами, кузнечиками и ходулочниками. Много лет никто не водил меня так – словно ягненка на пастбище, – но как устоять перед твоим очарованием, когда ты вдруг оживленно хохочешь, бежишь впереди меня, гладя каждый аронник и алцею и каждый ствол оливкового дерева. А посмотри на шалфей, как он цветет, как пышно он разросся, как щедро благоухает. Не говоря уже обо всяких зверобоях и трясунках – скажи мне, от кого ты узнала все эти названия и запахи, откуда тебе известно, как мять листья в руках и какие они на ощупь, и про чернильные орешки, и про рябчиков7?
Хорошо, что я быстро читаю. И все же я с трудом поспевал за тобой, пока ты карабкалась, хватаясь за камни. Куда ты несешься? Я и не воображал, что твое большое мягкое тело может так двигаться. Ты пишешь, словно мускулистая, непредсказуемая львица… Твои слова источают острый и живой запах, запах пота, земли и пыльцы. Ты прекрасна в своем ликовании, катаясь по маковому полю, бросая в меня пригоршню овсяных колосьев (я тут же бросаю такую же в тебя! Вы тоже в детстве играли в игру «сколько детей у тебя будет»?).
Белая маргаритка с желтым рыльцем запуталась у тебя в волосах, и на мгновение во мне скорчилась безрукая беспомощность: я не мог вытащить ее из твоих локонов, как не мог подсадить тебя, когда ты карабкалась на террасы, и вообще – не получив ни единой царапины, ни единого укуса, не слизав твоего пота, – а только написав обо всем этом, – я уже тоскую.
Хорошо, что ты остановилась в мошаве8 поболтать с выводком детворы на прогулке и я смог отдышаться. Я обратил внимание, что ты нарочно умолчала, был ли среди них твой малыш (судя по твоему описанию, можно подумать, что они все твои). И вообще, в двух последних письмах ты, мне кажется, загадываешь мне ребусы, исчезая и появляясь, одаривая меня загадочной, задумчивой улыбкой. Прекрасная, я с тобой, едва живой, я следую за тобой твоими тайными проходами между домами и заборами до самых ворот твоего дома – синих с веснушками ржавчины. Откуда ржавчина, может, у вас в доме нерадивый хозяин? Все, я молчу… Да и как думать о таком, когда ты являешься мне из водоворота воображаемого платья, и на одно мгновение в этом вращении – не знаю, почувствовала ли ты – вновь распахиваешься передо мной во всех твоих возрастах, и твои карие глаза блестят, как два слова, которые ты шепчешь мне, и как (сравнение напрашивается само собой) две косточки в раскрытой мушмуле: «Хочешь войти?»
Да, конечно, дорогая моя, несравненная, всем сердцем, а как же.
(Утро)
Ночью, во сне, меня осенило: может, это тот самый друг, чьи дневники ты читаешь раз в несколько дней, желая узнать, что происходило с ним в этот же день, но только десятки лет назад? Тот, кого уже во втором письме ты назвала своей утренней молитвой?
Не злись, что я попытался угадать, в какую из твоих сокровенных бесед влезаю. Я всего лишь решил немного поиграть в детектива. Вскочив с постели посреди ночи, я что-то полистал, и точно! Нашел его запись в дневнике за 1915 год, ровно в тот день, когда ты вдруг ответила мне – четвертого мая:
«Раздумываю над отношением людей ко мне. Как бы мал я ни был, нет никого, кто понимал бы меня полностью. Иметь человека, который понимал бы, жену, например, – это значило бы иметь опору во всем, иметь Бога»9.
И даже если моя дикая догадка ошибочна, даже если я зашел слишком далеко, хочу подарить тебе кое-что взамен, из того же дня, от того же человека:
«…Порой мне казалось, что она понимает меня, сама о том не ведая, – например, когда она ожидала меня, невыносимо тосковавшего по ней, на станции подземки. Стремясь как можно скорее увидеть ее и думая, что она ждет меня наверху, я чуть не пробежал мимо нее, но она молча схватила меня за руку»10.
Я.
16.5
Ты – настоящая загадка.
«Необязательно разгадывать, – говоришь, – только побудь со мной». Хорошо, я с тобой, иду мимо вашего сада, мимо маленького рая, который вы сотворили для себя (поднявшись на балкон под сенью бугенвиллеи, я наконец увидел тот самый сиреневый лепесток, растекшийся по «интимно-анонимному»), а ты уже впорхнула внутрь. Я все еще не мог прийти в себя после всей этой дороги – а потом меня залило, просто затопило светом, и теплом, и богатством красок, джунглями огромных цветочных горшков, шерстяными коврами, гобеленами, пианино и стенами, от пола до потолка заставленными книжными стеллажами. Я тут же почувствовал себя в безопасности, даже беспорядок был мне знаком.
Значит, вот и все? Я внутри, в твоем доме. У тебя великодушный дом, и не просто великодушный – кипучий, настоящая река, вышедшая из берегов, верно? И в некотором смысле, как ты сама заметила, у тебя тут «антикварная лавка». Я выучил этот дом наизусть, даже сделал набросок на листе бумаги, поэтому я знаю, где стена с фотографиями, на каком окне стоит оранжево-красный витраж, а где кувшины из синего хевронского стекла, как по утрам в них преломляются солнечные лучи и как они рассеиваются по полотну с филигранью (что это такое на самом деле?). Но в первую очередь я видел тебя, твои слова, вдруг ты начала писать, словно… обратила внимание?
Понимаешь, о чем я?
Я ни в коем случае не упрекаю тебя, не дай бог. Это всего лишь вопрос или даже, скорее, невольно вздернутая бровь: потому что по дороге от плотины ты была безудержно счастлива. Ты ликовала, и я воспрянул духом вместе с тобой. А в доме, как бы это объяснить, мне показалось на мгновение, что ты как будто немного вспыхнула…
Бегом-бегом, из комнаты в комнату, почти задыхаясь, обезумев, совсем не в твоем темпе, и когда я думаю об этом сейчас, – уже не в тонусе, без напряжения словесных мышц, как будто ты ужаснулась от самой себя, что так поспешно ввела меня в ваше личное пространство. Или, может, просто хотела показать мне, что и ты так можешь, прямо как я?
Какой я дурак, видишь, на что я жалуюсь? Вот бы и я так смог – радоваться словно впервые, как ребенок перед картиной, уже несколько лет висящей в гостиной, или из-за банки соленых огурцов, изумиться большому и толстопузому глиняному кувшину…
Какое счастье, что сейчас я могу откинуться на спинку стула и рассказать тебе, что почти с самого начала я чувствовал себя немного пристыженно, а главное – чувствовал, что меня слишком много (что я пенюсь, переливаюсь через край, и так далее). Может, потому, что в тот вечер ты показалась мне такой сдержанной, такой самодостаточной. Было в тебе что-то безупречное, кристально прозрачное, была в тебе строгость, граничащая с упреком, – упреком мне, незнакомцу, – и вдруг этот шумный дом.
Впрочем, ничего не подумай – это меня успокаивает и еще раз немного подтверждает мою догадку насчет тебя и меня. Может, это и не весть какое прекрасное подтверждение, может, ты не слишком ему обрадуешься. Я и сам не то чтобы горжусь этой своей чертой, но вдруг, ибо я обнаружил ее и в тебе —
Надеюсь, ты не обиделась. Я и правда не порицаю твой вкус. Надеюсь, ты поймешь, что сейчас мне важен не «вкус» и не «безвкусие», а лишь признаки того, что мы схожи во всем, в больших и маленьких вещах, а также в отношении к тому щекотливому и таинственному вопросу, которое именуется «чувством меры».
Под сходством я подразумеваю, скажем, то общее, что присуще двум чашкам, сколотым в одном и том же месте.
Яир
20.5
Записать все, что произошло в тот день, будет, конечно же, невозможно, но мне понравилось, что ты использовала слово «свидание», чтобы описать его. Наше с тобой свидание…
Например, с утра. В этой извечной пробке у перекрестка Ганот передо мной ползла большая «Вольво», на ее заднем сиденье ехал малыш. Он махал всем водителям вокруг. И ни у одного из нас – пятерых водителей окружавших его машин – не дрогнул мускул на лице, никто и виду не подал, что замечает малыша. Еще некоторое время он с надеждой продолжал улыбаться. Что-то робкое и уязвимое было в его улыбке.
И вот я перед дилеммой: если помашу ему в ответ, он тут же догадается, что я только притворяюсь взрослым. Что я – слабое звено в опоясывающей его цепи. С этого момента он может начать строить мне обидные гримасы и очень быстро сделает меня посмешищем для всей пробки. Хрупкая линия его рта подсказывала мне, что он не упустит такой возможности самоутвердиться.
Я посовещался с тобой (мы же были на «свидании»). Прислушался к твоему мнению. Улыбнулся ему. Помахал. Увидел, как он расплывается в счастливой улыбке, почти не веря, что такое и вправду могло с ним произойти… Он тут же сообщил о случившемся сидевшему за рулем отцу, который просверлил меня долгим взглядом через зеркало заднего вида. Я огляделся по сторонам и прочитал на лицах других водителей, что они думают обо мне.
И еще я подумал, что, будь среди них женщина, она улыбнулась бы ему, избавив меня от этой повинности.
Итак, снова, во второй раз за сегодня: доброе утро!
Любопытно, что ты не можешь сразу ответить на простые вопросы (например, насчет того, что я написал о твоем доме). И я уже знаю, что через два-три письма получу косвенный ответ, а иногда не получу. Видимо, таким образом ты задаешь свое направление и ритм, чтобы я не узурпировал власть… Но ты задала вопрос, и, несмотря на все предваряющие его опасения, я могу ответить просто: конечно же, я хочу еще одного ребенка. Даже трех, почему бы нет, чтобы идти по улице как утка со своим неугомонным щебечущим выводком – нет большего богатства. Но в нынешних условиях, если уж ты спросила, даже только еще одного мне будет достаточно.
Достаточно для чего? Сложно точно сказать.
Может – для того, чтобы превратить нас в семью. Потому что мы все еще не семья.
Что ж, это и меня самого немного удивило. Но все же отправлю.
Я.
Не то чтобы нам плохо жилось втроем (я уверен, ты поймешь). И все-таки, почему-то, пока мы – всего лишь трое людей, которые живут в полной гармонии друг с другом, даже в любви, в глубокой дружбе, но, как известно, треугольник – фигура весьма неустойчивая.
Почти полночь
Ах, если бы у меня была дочка – ничего другого я так сильно не желал бы, – маленькая и нежная девочка, маленькая медовая сотка. И еще для меня это способ посмотреть, какая девочка получится из меня, как будет выглядеть моя легитимная женская версия, как будут сосуществовать в ней все части тела, локти и груди. Быть может, она каким-то образом, самим фактом своего существования, сумеет уладить ту старую ссору, о которой мы – ты и я – пока еще не говорили.
И, конечно же, есть у меня желание познакомиться таким образом, через дочку, с той частью жизни Майи, которая от меня скрыта.
Майя – это ее настоящее имя. Полюбить ее заново, с самого начала, увидеть, как она растет и взрослеет. Тебе это кажется странным?