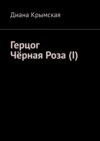Kitabı oku: «Паутина»
© Диана Крымская, 2022
ISBN 978-5-0056-7574-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ПАУТИНА
Часть первая. Выстрел
1.
– Вели, Алиночка, Наташе начинать сборы. Мы едем в Петербург, – сказала как-то за обедом Марья Андреевна. Она любила эффекты – и не ошиблась: Алина поперхнулась супом, но, едва откашлявшись, издала ликующий вопль:
– В Петербург!! Мама!! Наконец-то!!
– Елизавета Борисовна прислала приглашение, – улыбнулась восторгу дочери Марья Андреевна.
– Льветарисна! – воскликнула Алина, называя петербургскую тетушку так, как она и Аня привыкли с детства. – Приглашение!! Ур-ра!!! – Радость ее нарастала, как снежный ком; она подпрыгивала на стуле; ей явно было уже не до обеда: не терпелось броситься в свою комнату и велеть горничной начать укладывать вещи.
– Ну, хватит волчком вертеться, – сказал отец, Илья Иванович Березин, – Алинка, тебе говорю!
– Не Алинка, а Алина! – надула губки та. – И даже не Алина! А Александра Ильинична!
– Ильиничной станешь, как поумнеешь хоть маленько.
– Мама!..
– Друг мой, – вмешалась Марья Андреевна, переходя на французский, – зачем вы опять обижаете Алину?
– Да кто ж ее обижает? – отвечал по-русски ее муж. – И ничего такого я не сказал. Просто я бы на ее месте немного у старшей сестры уму-разуму поучился, а не о столицах бы мечтал.
– Может, Аня, по-вашему, папенька, и умная, а вот мне от нее этого добра не надобно! – сказала Алина. – Не хочу, как она, с этим умом старой девой остаться!
– Ты-то уж точно не останешься, – засмеялся Илья Иванович, кидая, однако, быстрый взгляд на молчаливую старшую дочь. – Такая егоза враз замуж выскочит! И Льветарисна никакая не понадобится. Так что – отправляйся с богом с маменькой, и чтоб без жениха не возвращалась! А мы уж с Нюшей тут останемся.
– Анна поедет с нами, – заявила вдруг Марья Андреевна, заставив Аню отложить в сторону нож и вилку. – И не спорь, мон ами.
Мон ами и так никогда с нею не спорил; если уж Марья Андреевна хотела чего-то, всегда было по ее. Однако на этот раз он решился, снова посмотрев на старшую дочь, что-то промямлить; и тут же получил несколько самых веских доводов в пользу поездки Анны в столицу.
– Во-первых, дорогой, девочкам будет веселее вдвоем; во-вторых, я все еще питаю надежды, кои вы уже утратили, мон шер, пристроить Анну замуж (от этого «пристроить» Аня внутренне вздрогнула и почувствовала, как краска заливает щеки); наконец, в-третьих – сама Елизавета Борисовна в письме настоятельно просит привезти Анну Ильиничну в Петербург.
Безусловно, подумала Аня, то, что было «в-третьих», было самым главным аргументом. Льветарисна очень любила ее и искренно желала ее счастья. Но забыла маменька упомянуть и еще один довод – пересуды соседей: как же, отправилась в столицу с младшей дочкой-красавицей, а старшую, бедняжку, уж начавшую засыхать в девушках, не взяла!
Что касается того, что было выдвинуто маменькой «во-первых» и «во-вторых», то это было смешно. Никогда Марья Андреевна не желала замужества Ани; а, что касается Алининой веселости, то для нее старшая сестра совсем не была нужна.
Хотя, посмотрев на сияющую Алину, – так, на французский манер, звали ее в семье, хотя полное имя ее по святцам было Александра, – Аня подумала, что, возможно, без ее желания маменька бы этот аргумент не выдвинула. Младшая сестра поймала ее взгляд и торжествующе высунула язык, и Аня горько усмехнулась про себя. Конечно, Алине нужен свидетель – свидетель того головокружительного триумфа, который она мечтала иметь в Петербурге; и кто мог быть лучшим в таком деле, нежели незамужняя старшая сестра, от всего сердца Алиной нелюбимая?
– Душа моя Нюша, что скажешь? – обратился между тем к Ане отец. – Я, дорогая, готов тебя отпустить, ежели ты сама не против. Хоть и надеялся с тобой всласть наохотиться, как в прошлом году… Ну, что? Поедешь с мамой и сестрой?
– Я… – начала было Аня, но вмешалась Марья Андреевна:
– Какие могут быть у ней возражения, друг мой? Что лучше: киснуть здесь посреди зимы от скуки – или побывать в столице на самых прекрасных балах?
Аня промолчала. Хотя и могла сказать, что она вовсе никогда не скучает зимою в Шмахтинке: здесь и чтение, и рояль, и перо с бумагою, – и охота, любимая ею и батюшкой. И, наконец, здесь – он, Андрей, и как же не хочется покидать его!..
Но спорить с маменькой бесполезно, придется собираться и ехать.
– Я поеду, папа, – промолвила она тихо.
– Вот и хорошо, Нюшенька, – ласково глядя на нее, сказал Илья Иванович, – с богом, дорогая. Глядишь – не одной Алинке жених выпадет.
– Не Алинке, а Алине, papа́!..
«Любимый мой Андрей! – писала в своей комнате вечером Аня. – У меня плохая новость: мы уезжаем в Петербург: я, маменька и Алина. Как тяжко мне расставаться с тобою, единственное счастье мое! Как не хочется ехать в столицу! Но придется. Алине пора искать жениха, возможно, у Елизаветы Борисовны есть уже кто-то на примете. Маменька и меня хочет пристроить (что за отвратительное слово!), но я ни за что не пойду замуж. Мне нужен только ты, мой любимый!
Мы выезжаем завтра утром, если ночью не заметет. Не знаю, успею ли я положить письмо в наше место, но надеюсь, что мне это удастся…»
– Все пишешь? – раздался сзади голос Алины, и Аня вздрогнула, быстро прикрыв лист рукой. Алина обладала неприятной манерой входить в комнату без стука, а, поскольку походка у нее была легкая, вполне могла подкрасться незаметно. – Стишки?
– Нет, не стихи, – ответила Аня раздосадовано.
– Ну-ну. – Алина прошлась по комнате. Она была в полупрозрачном белом пеньюаре, не скрывавшем ни высоты роста, ни стройности фигуры, ни округлых бедер, ни длинных ног, ни высокой пышной груди. Русые волосы волнами распущены по плечам; яркий пухлый рот улыбается, и блестят ровные мелкие зубки; большие зелено-голубые глаза сияют на белоснежном лице, – русалка, вдруг обретшая ноги, да и только!
Аня подумала, сколько будет у сестры поклонников, стоит ей только появиться в свете, – подумала без зависти, просто констатируя тот факт, что Алина очень красива. Эта красота всегда бередила Анино сердце, заставляя его сжиматься щемящей тоской: сходство Алины с Андреем было очень велико.
Сама Аня не могла похвастаться ни ростом, ни фигурой, ни лицом. Она была, как говорят в народе, «от горшка два вершка», ну, разве что чуть-чуть повыше; фигура у нее была мальчишеская: узкие бедра, широкие плечи, и это при худобе почти болезненной. Она вся пошла в мать, и в детстве ее часто дразнили «татаркой»: кожа смуглая, волосы черные и совершенно прямые. И, наконец, карие, как-то странно расположенные, глаза: очень широко расставленные, узковатые и приподнятые к вискам.
Андрею они нравились; он говорил, что в них есть что-то восточное, таинственное. «Твои глаза, моя Аnnette, загадывают загадку, и тщетно пытаться разгадать ее…» Но сама Аня считала и свои глаза, и всю свою внешность крайне заурядной и незаметной. А уж рядом с яркой красотой Алины – и говорить нечего.
– Ты уж собралась? – спросила младшая сестра.
– Да.
– Маменька сказала: выедем пораньше, чтоб засветло добраться. Только бы метели не было!
– Даст бог, не будет.
– Даст бог. – Алина села на краешек разобранной постели сестры, поджав под себя одну ногу, как любила; потянулась всем гибким девичьим телом, зевнула. – Льветарисна пишет: в этом году в столице очень много молодых холостяков из хороших семей. Выбирай – не хочу. Так что, может, и тебе повезет, сестрица.
– Ты же знаешь: я замуж не собираюсь.
– Ну, да. Неужели все об Андрее думаешь?
– Тебя не касается, – резче, чем собиралась, сказала Аня.
– Дурочка, хватит уж мечтами-то несбыточными жить. Что было – того не вернешь. Жизнь продолжается, дорогая! Погоревала – и хватит.
– Твоего горя точно на неделю хватило, – сказала Аня, вставая. Губки сестры обиженно искривились:
– Неправда! Я просто умею свои чувства скрывать. Не то, что некоторые.
Аня вздохнула:
– Иди, Алина. Пора ложиться – и тебе, и мне. Завтра в дорогу, вставать рано. – Она подошла, поцеловала горячую Алинину щеку, небрежно подставленную: – Спокойной ночи.
– Спокойной ночи.
И Алина выскользнула из Аниной комнаты, бросив, однако, на стол и лист бумаги на нем полный любопытства взгляд.
«…Прощай, любимый мой Андрей! Я буду думать только о тебе, и о том, что, как бы долго ни длилась разлука, я вернусь обязательно!
Твоя навсегда, Аnnette.
PS. Как ни хочется ехать в Петербург! но есть там у меня дело, которое рано или поздно нужно было бы сделать. Я обещала тебе пять лет назад, и не думай, что забыла об этом…
Ты знаешь, о ком я говорю, любимый: это Р. Тот, из-за которого погублено наше с тобою счастье. Увижу ли я его в столице? Бог весть; но встретиться бы хотелось».
2.
Графиня Ирина Павловна Раднецкая, пылая гневом и сверкая бриллиантами, в полном бальном туалете – и оттого еще более прекрасная, чем всегда – ворвалась, даже не соизволив постучаться, в кабинет мужа.
– Я желаю говорить с вами, Серж! Немедленно! – сказала она задыхающимся голосом по-французски.
Управляющий, Глеб Игнатович, вскочил, глядя на великолепную жену своего патрона со смешанными чувствами изумления и восторга. Но ее муж, граф Сергей Александрович Раднецкий, хоть и поднялся тоже с кресла, стоявшего во главе письменного стола, лишь скучающе поднял бровь и скрестил на груди руки.
– Вы забыли о нашем договоре, мадам.
– Плевать мне на договоры!
Он поморщился.
– Боюсь, мадам, что я сейчас занят. Отложим разговор, – холодно произнес он по-русски.
– Нет, сейчас! Я не могу ждать! – продолжала Ирэн на французском. Сергея коробило ее незнание родного языка; если она и говорила на нем, то путала слова и грассировала, надо-не надо, так, что понять ее было почти невозможно.
– Э-э… Ваше сиятельство, я могу и в другое время зайти, – пролепетал Глеб Игнатович, не понимая, но догадываясь, чего хочет графиня, – обычно деловито-собранный и уверенный в себе, сейчас он был полностью ослеплен ею. – Разрешите откланяться.
– Хорошо. Иди, Глеб Игнатович. Продолжим завтра, – сказал Сергей. Управляющий, низко поклонившись, вышел, и граф показал жене на кресло напротив письменного стола. Когда она села, шелестя бальным платьем, Раднецкий также опустился в свое кресло и произнес:
– Я слушаю вас, мадам.
Ирэн молчала, нервно стягивая с руки длинную перчатку. Сергей невольно следил за движениями жены; но, когда обнажилась эта рука, нежная и необычно тонкая в кисти, с кожей, не менее белоснежной, нежели облегающая ее ткань, он едва подавил гримасу отвращения.
– Я слушаю вас, – повторил он.
Она зло скомкала перчатку в пальцах.
– Я все знаю.
– О чем?
– О вас и об этой… как ее?.. Ольге Шталь.
– И что же вам известно? – холодно осведомился он, – он говорил, как всегда с нею, по-русски, а она – по-французски; выходило смешно и нелепо. Но Сергей не мог пересилить себя и вести беседу на французском; это было бы уступкой Ирэн, – а любая уступка ей означала поражение.
– Вас видели в ее заведении. И не один раз. Это… непристойно! Я пожалуюсь на вас государю!
Он пожал плечами:
– Жалуйтесь сколько вашей душе угодно. Не вижу здесь ничего непристойного.
– Как вы можете?! Вы делаете это нарочно! Вам нравится, когда о вас судачат! Но вы забываете, что это порочит не только вас, но и меня! Честь нашей семьи…
– Вам ли говорить о чести? – презрительно бросил он. Эти разговоры между ними велись уже не единожды и безмерно утомили его. – И, тем более, о семье, – добавил он с горечью.
Она взвилась эринией:
– Вы не смеете упрекать меня в этом! Я сделала все, чтобы быть вам хорошей женой, Серж!..
– И хорошей матерью? – спросил он. Она осеклась и прикусила губу. Затем произнесла:
– Не будем сейчас о Николя. Речь не о нем.
– Почему же нет? Коля наш сын, наследник, – и не это ли главное, что связывает нас, раз уж вам угодно именовать наши отношения семьею?
Пальцы Ирэн мяли, тянули и рвали тонкую ткань перчатки.
– Я не могу покинуть двор, чтобы съездить к нему! – воскликнула она срывающимся голосом. – И вы это прекрасно понимаете!
Граф откинулся на спинку кресла и снова скрестил руки на груди:
– Нет, не понимаю, мадам. Государю вы уже не нужны – и давно. Вы вполне могли бы оставить Петербург и съездить к сыну в Гурзуф.
Ирэн вздрогнула, будто он дал ей пощечину; щеки заалели.
– Это неправда! Все, что говорят о нем… и этой дурочке, которой он якобы увлекся, – неправда! – истерично взвизгнула она.
– Мне это все равно, – презрительно перебил ее муж. – Мне важен Коля. Его здоровье, его счастье. Он скучает по вас. Вы могли бы хотя бы несколько раз в год ездить к нему.
– Я съезжу, – быстро произнесла Ирэн. – Весной. Когда снег сойдет.
– Я запомню, что вы это сказали.
Она вдруг встала, перегнулась через стол и положила узкую ладонь ему на плечо.
– Серж, если я обещаю, что поеду… Вы станете другим? – спросила она грудным голосом, который раньше сводил его с ума и заставлял сердце колотиться как бешеное. – Вы вернете мне свою пылкую любовь? О, Серж… То, что было между мною и его величеством… Я не могла отказать ему, вы должны понять это. Я была так юна, так наивна…
Сергею очень хотелось стряхнуть ее руку, как стряхивают мерзкое насекомое. Он резко встал:
– Если это все, мадам, то прошу меня простить, у меня еще есть дела.
Облако пробежало по ее прекрасному лицу, но она тотчас обольстительно улыбнулась:
– Хорошо. Я вас оставлю, Серж. Но помните: дверь моей спальни всегда открыта для вас.
Она исчезла за дверью, а Сергей прошелся по кабинету. Перчатка Ирэн валялась на ковре; он поднял ее кончиками пальцев, брезгливо – и швырнул в корзинку для ненужных бумаг и мусора.
Но на руках остался аромат ее духов. Когда-то он пьянил графа больше любого вина. Теперь и этот запах вызывал тошноту. Захотелось немедленно вымыть руки, словно они испачкались.
«Двери вашей спальни открыты для меня! Да; но почему бы, дорогая Ирэн, вам не добавить также, что они открыты еще и для государя императора? И для других, молодых и наглых? Вы просите меня о любви! Какая чушь! Когда же вы поймете, мадам, насколько вы омерзительны мне, со всей вашей красотой, бархатным голосом и обворожительной улыбкой?»
Боже, как же она глупа!.. Вернее, не так, – как он был глуп, что не замечал этого, когда влюбился в нее без памяти и попросил ее руки!
И эта сцена при управляющем… Глеб Игнатович, конечно, никому ничего не скажет; но ведь на его месте мог быть кто угодно! А он, Сергей, заключил с Ирэн договор: всегда вести себя на людях и при слугах чинно, – или, как говорят в народе, никогда не выносить сор из избы. Никто не должен знать о том, что творится на самом деле в семье графа Раднецкого!
Граф сел и принялся писать письмо Коле в Гурзуф. Коля уже умел читать, хотя ему совсем недавно исполнилось пять с половиной. Он был умным и сообразительным не по годам. Сергею вдруг страстно захотелось увидеть сына, прижать к себе хилое, тоненькое, как стебелек, тельце, поцеловать темную кудрявую головку, пойти с мальчиком на море…
Но, как флигель-адъютант его величества, он не мог так просто покинуть столицу. Возможно, весной… Он представил, что Ирэн захочет поехать с ним, – хотя в это и мало верилось, – и содрогнулся. Терпеть ее совсем рядом столько дней… Невыносимо. Он уже проходил однажды через это, – и во второй раз, чувствовал, не выдержит этой пытки.
Сергей дописал письмо, вставил перо в чернильницу и посмотрел на часы на стене. Восемь вечера. Ирэн отправилась на бал и вернется не раньше трех ночи.
Интересно, откуда она узнала об Ольге Шталь? У мадам Шталь было весьма респектабельное заведение, а не простой бордель, на Итальянской; но Сергея привлекали не работавшие в нем девицы, а сама Ольга – открытая, добродушная и веселая. Между ними была большая разница в возрасте, – ему тридцать, ей сорок четыре, – но он никогда не думал об этом. Возможно, она нравилась ему так потому, что была полной противоположностью высокой золотоволосой стройной Ирэн: маленькая, пухленькая брюнетка.
Сергей поморщился, представив, как жена нажалуется на него императору, и тот наверняка сделает своему адъютанту выговор.
Придется, как это ни противно, что-то придумать, чтобы при следующем посещении заведения на Итальянской его не узнали.
Он шагал через анфиладу личных покоев, мрачно сдвинув брови. Если бы он мог бросить все здесь – и уехать к Коле в Крым! Увы, об этом можно только мечтать. Так же, как о том, что когда-нибудь он обретет настоящую семью и станет счастлив с нею.
3.
Льветарисна, – как называли ее, с самого детства, Аня и Алина, – она же Елизавета Борисовна Лисицына, – была генеральскою вдовою и персоной, хорошо в Петербурге известной и принятой даже в самых высоких кругах. Мужа ее, скончавшегося лет тридцать тому назад, мало кто помнил; тот дослужился, вернее – дотянул, без всяких подвигов на поле брани, – до генерала; в шестьдесят с лишком лет взял восемнадцатилетнюю сироту, девицу Лизоньку Баскову, замуж; да месяца через три умер, оставив молоденькую жену вдовою, причем несметно богатою.
Елизавета Борисовна замуж больше не вышла; скорбя о почившем супруге, она оделась в черное и велела обить черным крепом портрет мужа в парадном мундире, висящий в большой нижней зале ее петербургского дома. С тех пор и генеральша, и этот портрет траура не снимали. Более того, – Елизавета Борисовна частенько вспоминала «своего Дмитрия Ивановича», к месту и нет, так, будто прожила с ним не три месяца, а, по крайней мере, лет десять.
Ее многие считали чудаковатой, однако, не в глаза; очень высокого роста, статная, с большими глазами навыкате и зычным голосом, она походила на гренадера и невольно вселяла в собеседников уважение и даже боязнь.
Илье Ивановичу Березину генеральша приходилась свояченицей по первой жене. Вторую жену его, Марью Андреевну, она сразу невзлюбила, и нелюбовь эта, к обоюдному согласию, а порою и удовольствию, обеих дам, не стала с годами слабее; но зато она обожала обеих его дочерей.
После того, как, лет семь назад, в результате пожара, сгорел дом Березиных на Малой Садовой, Илья Иванович, по нехватке денег на восстановление своего петербургского жилища, перебрался насовсем в Шмахтинку, загородное поместье верстах в восьмидесяти от столицы. Сам он так приохотился к жизни в деревне, что стал настоящим затворником; но Марью Андреевну и своих дочерей отпускал в Петербург или Москву, ежели их приглашал кто-нибудь из родни. Чаще всего такие приглашения приходили от Льветарисны.
Еще одной причудой её была страсть к сватовству; и тут она самых первых петербургских мастериц этого дела могла заткнуть за пояс. Она переженила всех своих дальних и ближних родственников обоего пола; потом взялась за хороших знакомых. Бесприданницам дарила приданое; если была нужда, помогала деньгами со свадебными торжествами. У нее была легкая рука, и не было неудач, – разве что с обручением Ани четыре года назад.
…И вот теперь настал черед и любимицы Льветарисны – Алины Березиной. Алине недавно исполнилось семнадцать, она была чудо как хороша, и тетушка, конечно, уже подобрала ей прекрасную партию, – уж не меньше, чем графа, а, может, и князя…
Так мечталось всю дорогу до Петербурга Алине и ее маменьке. И Льветарисна не обманула их ожидания: прямо в дверях, едва обняв и расцеловав гостий, объявила им своим зычным голосом, что у нее на примете двое женихов для Алечки – оба красавцы, оба хороших фамилий; один, правда, всего лишь барон и в летах, но очень богатый, а второй – молодой князь, и оба уже страстно желают познакомиться с младшею девицей Березиной.
– Как же ты похорошела, свет мой Алечка! – рокотала Льветарисна, – красавицей и в прошлую зиму была, а сейчас – ну, просто глаз не оторвать! Дай, еще раз тебя поцелую! И выросла! Гляди, с меня ростом не стань, милая; иначе мужчины бояться к тебе подходить будут.
Алина прыгала вкруг тетушки, как мячик; Марья Андреевна сменила обычную холодноватость на сладчайшие улыбки. Аня стояла чуть в стороне, молча стряхивая с капора хлопья снега, – который, слава тебе Господи, повалил валом, когда Березины уже подъезжали к Большой Морской, где находился особняк генеральши Лисицыной.
– Ну, а что ты хмурая да бледная, Анюта? – спросила Льветарисна, оборачиваясь к ней.
– Извините, тетя. Устала чуть-чуть.
– Устала? Ничего, за семь дней отоспишься-отдохнешь. У меня новость, от которой любое девичье личико заалеет. Через неделю бал в Николаевском зале Зимнего; приглашение есть, так что, Алечка, и ты, Анюта, вы обе непременно там будете! А до того времени постараемся вам гардероб справить побыстрее, благо, три француженки-портнихи меня обшивают. Ты что, Марья, вроде как улыбнулась ехидно? Нет, показалось мне? Да ладно, вижу ж тебя насквозь! Усмехаешься, что, мол, я траур ношу, и чего меня иностранкам обшивать? А это моя такая прихоть… Алечка, Анюта, завтра с утра всех мадам позову, будем ткани выбирать и примеркой займемся. А пока – по своим комнатам, переодевайтесь, да через полчаса к ужину вас жду.
«Любимый мой Андрей! Ты получишь это письмо нескоро, но я не могу не написать тебе. Вот и добрались мы благополучно до Петербурга. Через неделю будет бал, на который мы приглашены. Алина вне себя от восторга и предвкушения. Думаю, у нее не будет отбоя от поклонников. Видел бы ты ее сейчас! Она за эти пять лет превратилась в настоящую красавицу. И как же она похожа на тебя, любовь моя!..»
– Можно к тебе, Анюта? – послышался за дверью голос Льветарисны.
– Заходите, тетя, – Аня поспешно промокнула лист и спрятала его под бювар.
Льветарисна вошла в комнату.
– Как устроилась, голубка, на новом месте?
Девушка улыбнулась. Комната эта всегда была ее, Аниной, когда они приезжали гостить к Льветарисне. Здесь Ане была знакома каждая половица; так что вопрос об устройстве был совсем ни к чему.
– Замечательно, тетя. Спасибо вам.
– Ну, и хорошо. А пишешь кому?
Аня почувствовала, как щеки заливает предательский румянец.
– Никому. Я… я собиралась papа́ написать. Что мы добрались, и что все хорошо.
– Отцу – это хорошо. – Льветарисна прошлась по комнате. Затем подошла к Ане и приподняла ее лицо за подбородок:
– Девочка моя, я думала, за этот год ты хоть немного поправишься да румяной станешь. Вон твоя сестра – наливное яблочко! А у тебя… дай-ка пощупаю… вон, косточки на ключицах – как у цыпленка дохленького торчат. Не дело это, Анюта!
– Я просто малоежка, тетя…
– Малоежка она! И малосоня – вон какие под глазам круги. И отчего ж это все?
– Не знаю…
– Зато я знаю. И почему четыре года назад ухаживания Льва Горского отвергла. А ведь такой был жених!.. Это все Андрей. Так ли?
– Н-нет, тетя, – пыталась освободить пылающее лицо от крепкого тетиного захвата Аня. – Вовсе нет.
– Да будет врать-то, девочка! Все он. Сколько ж можно? Пять лет прошло. Погоревала, поплакала – и будет. Тебе двадцать четыре, о будущем думать надобно, а не прошлым жить. Да и не могло меж вами ничего быть, – сама знаешь. Грех большой.
Аня встала и твердо взглянула в выпученные добрые глаза Льветарисны:
– Не могу я его забыть! Любила и люблю. И ничего не могу с собой поделать!
Тетя вдруг привлекла ее к себе, обняла, поцеловала в лоб:
– Анюточка, я разве не понимаю? Материнское это в тебе, не березинское. Она тоже такая была – однолюбка. Да и я вот, как полюбила Дмитрия Ивановича, – так на всю жизнь. Пусть злые языки мелют, что я с ним без году неделю прожила, – зато неделю эту счастлива была и любима, как другая жена за двадцать лет не будет. Что стар он был, а я молода, судачат… Летами он был стар, – а душою молод, может, и моложе меня. Да и что молодые? Волокиты, охальники, бретеры. А человек в летах о таком уж не думает. Ему главное – семья, жена… Так что, Анюта, все страдание я понимаю. Но понимаю и то, что семья каждой женщине нужна, и детишки тоже. Вот гадают: чего я, на старости лет, всех женить удумала? Это во мне то самое, материнское. Что выхода не нашло. Мне ведь каждая пара, что венчается по моему старанию, – словно мои детишки. Смотрю на них, молодых и счастливых, – и душа радуется. Так что, Анюточка, горе горем, а ты переступи, перешагни! И дальше иди. Прошлое не забывай, коли не можешь, но будущим не пренебрегай. Ты еще молодая, красивая. Не верти головой – красивая, я сказала! Выйдешь замуж, детишки пойдут – и все наладится.
Аня молчала, прижавшись щекою к тетиной груди. Разумом она понимала – Льветарисна права. Но сердце обливалось кровью, кричало: «Нет!! Не могу!! Не могу и не хочу!! Другого не будет!! Никогда!!»
Когда тетя вышла, Аня подошла к большому старинному гардеробу, распахнула тяжелые створки. Это висело где-то здесь… Она перебирала одежду на вешалках, пока не нашла нужное. Вытянула из шкафа.
Одежда мальчика, – на одном из костюмированных детских рождественских праздников лет шесть назад она надевала ее. Они разыгрывали тогда сказку, придуманную Андреем. Главным героем был Иван-простак. Ему достались в конце полкоролевства и рука принцессы, – в роли этой последней выступала, конечно, Алина, – его играла она, Аня.
Здесь были тулупчик, шапка-ушанка, валенки, рубашка и нанковые панталоны. Наряд мальчика из простонародья.
Аня нахлобучила ушанку, примерила рубашку, панталоны, надела тулупчик, подвязала его кушаком. Не удивилась, что прекрасно влезла во все это; тогда она была даже полнее, – ведь Андрей еще был с ней… Он тоже играл в том спектакле, – короля. Как красиво сидела корона на его русых волнистых кудрях! А с каким поистине монаршим величием он перебрасывал через руку длинную мантию, произнося свой монолог!.. И как потом они трое – она, Алина и он, – весело смеялись, возвращаясь домой!..
Аня сняла одежду, аккуратно повесила на вешалку и убрала обратно в шкаф. Этот наряд может ей понадобиться. Она решила до большого бала обязательно сходить в одно место. Может быть, удастся даже завтра. Льветарисна предложила маменьке и Алине поехать завтра вечером в гости к Мещерским, а она, Аня, может сказаться больной… И отправиться туда. Может быть, она даже встретит его…
Она почувствовала нарастающее возбуждение. В Петербурге ли он? Наверняка да, раз государь здесь. Она может повстречать его где угодно.
Она села за письменный стол, достала лист из-под бювара и продолжила писать:
«Милый мой Андрей! Ты знаешь, что я согласилась на эту поездку не просто так. Уверена, Р. здесь, в Петербурге. Я еще не знаю, как и где… но я встречусь с ним. Обязательно.
Твой пистолет всегда со мной. Я слежу за ним, чищу и ухаживаю. Любимый, возможно, он мне скоро пригодится.
Твоя навек, Аnnette».
4.
– Что скажешь, Глеб Игнатович? – спросил Сергей, надвигая пониже на глаза потрепанный заячий треух.
– Что сказать, ваше сиятельство; вылитый мой Агафон.
Граф усмехнулся. Похоже, его задумка оказалась вовсе не так плоха. Глеб Игнатович сегодня привел с собой помощника; тому дело нашлось до утра: разобрать и привести в порядок кое-какие документы. Сергей же надел верхнюю одежду приказчика, который был примерно одного с ним роста и сложения.
Глебу Игнатовичу граф сказал, что собирается на маскарад. Поверил ему управляющий или нет, было непонятно, – старик был немногословен и умел скрывать свои чувства не хуже Раднецкого; но в том, что Глеб Игнатович не проболтается, Сергей не сомневался.
Поутру они должны были встретиться неподалеку и вместе вернуться в особняк. Сергей уже предупредил прислугу, что к восьми управляющий придет к нему вновь.
Они благополучно прошли через залы и вышли через заднюю дверь. Было около девяти; вечно заспанный лакей отворил им и выпустил в необычно теплый после вчерашней метели зимний вечер, дохнувший им в лицо петербургской сыростью – резкой, столь характерной для северной столицы, переменой погоды.
– Ишь, теплынь-то какая, – сказал Глеб Игнатович, пока они: управляющий – впереди, Раднецкий – позади, как положено лицу подчиненному, – шли к воротам. – Вот вам и зима! Враз снег развезло. Не поскользнитесь, ваше сия… – Он оборвал; они были уже у ворот. Одна из створок была распахнута, и сторож, Семен, высокий кряжистый мужик, находился не на своем обычном посту, а за воротами. В одной руке у него качался фонарь, а другой он держал за шиворот кого-то, очень маленького роста, и что-то гудел.
– Семен Нилович, чего там у тебя? – спросил Глеб Игнатович, подходя ближе. Сергей все так же шел за ним.
Семен оглянулся:
– Да вот, Глеб Игнатыч, мальчишка больно подозрительный. Наподдать ему, што ли, чтоб не молчал, ровно язык проглотил? – Сторож встряхнул свою добычу так, как встряхивает собака попавшую ей в пасть дичь. – Вертелся он тут, у ворот, долго. Потом, как я вышел, узнать, чего ему надобно, меня начал расспрашивать, Да все про их сиятельство…
– Что же он спрашивал?
– Да вот, Глеб Игнатыч, дворец ли это их сиятельства, да где их сиятельство сейчас…
Раднецкий кашлянул, привлекая внимание управляющего и, когда тот обернулся, сделал рукой незаметно знак, сразу стариком понятый.
– Ты вот что, Семен. Иди дальше карауль, а я мальчишку сам расспрошу, – произнес Глеб Игнатович. – Фонарь только дай.
– Слушаюсь, Глеб Игнатыч. Только крепче его держите, он верткий да шустрый. Как бы не вырвался да не сбежал.
– Сергей, возьми фонарь, – скомандовал Раднецкому, пряча в вислых усах улыбку, управляющий, и взялся за воротник тулупчика пленника. Тот не сопротивлялся. Чуть наклоненная голова его, в ушанке набекрень, едва доставала Сергею до плеч. – Ну, постреленок, – продолжал Глеб Игнатович, делая знак Раднецкому, чтобы тот поднес к лицу пойманного фонарь, – не бойся. Говори: что тебе надобно? Что ты тут высматриваешь да вынюхиваешь?
Мальчишке, видно, не понравилось, что его хотят рассмотреть; он начал вырываться, бормоча что-то, похожее на ругательства. Сергей все же осветил его лицо – и увидел чуть раскосые, не совсем русские глаза, злобно сощуренные, и искривленный рот. Кожа лица поразила его своей чистотой и нежностью, но он не успел задуматься над этим; Глеб Игнатович вдруг ойкнул, как от боли, и выпустил воротник пленника. Тот, не медля ни секунды, ударил Раднецкого каблуком по колену и бросился бежать по улице…
Аня остановилась не скоро. Ей все казалось, что эти двое бегут за нею. Когда же она перешла с бега на шаг и оглянулась, то увидела, что ни одного из воображаемых преследователей сзади не оказалось. Зато она находилась в незнакомом месте, судя по всему, где-то между Невским и набережной Невы. Улочки здесь были узкие, темные и пустынные.
Она пошла наугад налево и вскоре вышла на довольно хорошо освещенную улицу, по которой, несмотря на позднее время, ездили сани и сновали прохожие. Здесь почти в каждом доме были кабаки и питейные заведения; пахло отбросами и нечистотами; мокрый снег был испещрен бурыми, коричневыми и желтыми пятнами в неровном свете фонарей; отовсюду доносились звон посуды, крики и хохот, а кое-откуда – или нестройные песни, или ругань и шум потасовок.