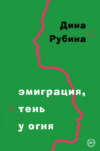Kitabı oku: «Последний кабан из лесов Понтеведра»
Камни их сохранили величие, люди – нет.
Вторая Книга Царств
Часть первая
– Да, вы правы, – повторил он. – Бывают ситуации, из которых самый достойный выход – самоубийство. Только говорить об этом нельзя.
– А… как же?
– А молча, – сказал он. – По молчаливому уговору. Если совсем приперло.
Иисус ХристосВ личной беседе
Глава первая
Сладкогласно поющий хуглар,
Находчивый и беззастенчивый,
Бродит, коротко стриженный,
И отлично знает свое дело.
Кантиги святой Марии (XIII–XIV вв.)
Моя должность, в сущности, называлась «Дина из Матнаса». Я так и представлялась, когда телефонными звонками собирала на концерты-лекции местных пенсионеров: здравствуйте, вас беспокоит Дина из Матнаса. (Вас беспокоит дурочка из переулочка, Саша с «Уралмаша», дунька с водокачки, халда с помойки.) Это была половина ставочки такой – координатор русской культурной жизни.
Например, я обеспечивала стариков легкой классической музыкой. Программы были не из утомительных: что-нибудь «Сентиментальный вальс» Чайковского, «Полонез» Огинского, «Хабанера» Кармен, «Турецкое рондо» Моцарта.
Они слушали так, что сердце радовалось. Хлопали, требовали биса. После концерта обступали меня шумной толпой, благодарно галдели, по плечику гладили. Спасибо товарищу Моцарту за нашу счастливую старость.
Культура культурой, но эти полставочки, доложу я вам, обернулись каторгой почище валки таежного леса; и не только потому, что еврейские старики – народ нелегкий (а культурную-то работу среди них в основном надо было проводить), но и потому, что обнаружились еще кое-какие обязанности, сваленные на меня руководством Матнаса.
Как вам словечко, кстати? Ни один из языков не напоминает так вывернутый для просушки русский, как иврит, древнееврейский наш язык. А возможно, русский – это вывернутый иврит, тем более что возрастную субординацию на кривой козе не объедешь. Словом – Мат-нас. Такой вот «матрас с поносом, носок с атасом, матом нас он послал».
А в переводе на русский – Дворец культуры и спорта.
Я туда случайно попала, и если вдуматься – все в моей жизни происходит абсолютно случайно.
Просто мне позвонила Милочка, которая работала в этой должности.
Она в то время «стояла родить». Есть в иврите такой изумительно образный идиоматический оборот. Когда человек совсем уже собрался, вот-вот подготовился к чему-то важному. Например, говорят «он стоит жениться» – какая точность, какой синтез смысла и образа! Так что Милочка совсем уже «стояла родить», то есть ползала на последних днях, то и дело останавливаясь и отдыхая.
С ее лица никогда не сходила гримаска ленивой истомы. Невозможно было представить, как она с этаким лицом собирается рожать. Ведь эта работа требует от исполнителя, как правило, прямо противоположной гримасы. Словом, позвонила Милочка и спросила, не хочу ли я заместить ее на те три месяца отпуска, что полагаются после родов. Работа плевая, добавила она, полставочки, тысячи две в месяц.
И я согласилась.
Обстоятельства мои на земле предков сложились таким образом, что я веду жизнь шабашника – сезонного рабочего. Иногда выезжаю на заработки в другие земли, где бывшие мои соотечественники и одноязычники еще жаждут слышать русскую речь. Время от времени нанимаюсь на какую-нибудь случайную работенку, что тоже не так просто, ведь я – человек без профессии, языков ихних не разбираю, да и трудиться по-людски не очень-то приспособлена.
Но когда я «стою родить» очередное свое литературное дитя, судьба волевым решением освобождает меня от сезонных работ – меня вдруг выгоняют из газеты или еще откуда-нибудь, где я получала ежемесячно свои неизменные две тысячи шекелей. И я переживаю, конечно, и бессонными ночами думаю – где и чем добыть средства на пропитание семье, а между тем очередное литературное дитя уже прет из меня на свет божий, разрывая утробу, и страшная гримаса тяжелых родовых усилий месяцами не сходит с моего лица.
И вот новорожденный роман вылизан моим шершавым языком и пристроен к хорошим людям в какой-нибудь журнал, где поднимается на слабые ножки и ковыляет прочь уже без моей помощи, и уходит все дальше, дальше, пока не убегает от меня
…навсегда.
И тогда мне обязательно звонят. И предлагают полставочки какой-нибудь пустяковой работенки, например – должность временного координатора русской программы в городском Дворце культуры и спорта…
– А что еще я должна делать?
– Ну, экскурсию организуйте им раз в месяц, к Мертвому морю. Пусть мозоли попарят… – Милочка удобней устроила живот на коленях, лениво и мягко поправила упавшую на лоб прядку.
Мы сидели в лобби Матнаса в ожидании встречи с замдиректора. Милочка привела меня знакомить.
– Еще есть матери-одиночки, их тоже надо пасти, публика требовательная… Есть молодежный клуб, где отдельной группой – десятка три омерзительных подростков из России – пьют, сквернословят, травку покуривают.
– С ними тоже надо что-то делать? – испугалась я.
– Нет, у них есть свой координатор, Люсио. Но иногда полиция требует списки.
Мне захотелось немедленно покинуть этот гостеприимный дом.
– А вот, обратите внимание, как раз и Люсио!
В двери Матнаса вкатился уморительно смешной человечек. Он переваливался с боку на бок, энергично притоптывая ножками, а коротенькими ручками как бы отталкивался от невидимых стен по бокам.
– Забавный… – пробормотала я, провожая взглядом человечка и пытаясь понять, кого он мне напоминает. – И вы хотите сказать, что с этакой-то внешностью он – координатор молодежной группы? Тех самых проблемных подростков?
– Вообразите, дети его очень любят. Он большой шутник, артист, забавник, мастер на все руки… Да не волнуйтесь, все будет хорошо, – проговорила Милочка с гримаской ленивой истомы. – В сущности, все они милые. Только не отлынивайте от заседаний коллектива. Каждый четверг, в девять. Это очень важно. Сидите и не вмешивайтесь. Кто бы с кем ни сцепился – не лезьте разнимать. И главное, ничему не удивляйтесь. В сущности, все они быдло. Пойдемте, я кабинет ваш покажу. Мне его Таисья выделила от щедрот душевных.
– Таисья – это координатор? – с ученической понятливостью уточнила я.
– Нет, это директор консерваторио́на.
Консерваторио́н! – дуновение времен римского владычества на этой земле: не театр, а «театрон», не музей, а «музеон». Цезарион! Иродион! – жажда величия пространства у пленников крошечных земельных наделов. Консерваторионом здесь называется обычная музыкальная школа. Впрочем, забегая вперед, скажу: консерваторион Матнаса насчитывал двести пятьдесят учеников, хозяйство по нашим масштабам немаленькое.
Мы стали подниматься на второй этаж, останавливаясь чуть ли не на каждой ступеньке, переводя дыхание и поддерживая живот.
Где-то наверху кричали истерзанным низким голосом. Внезапно крик обрывался, и кто-то вступал убеждающе ласковым тоном. Похоже, там шла тяжелая разборка между двумя женщинами – абсолютно разными по возрасту, характеру и воспитанию. Когда мы поднялись еще на один лестничный пролет и до нас стали доноситься отдельные слова, я совсем смутилась.
– Ну, скажи, ну, давай! Сука, су-ука дол-ба-ны-я-а!! Не квартира тебе! Не квартира, а хер тебе в глотку-у!!
Затем – секундная тишина, и успокаивающее, даже баюкающее контральто:
– А в legato – третьим и четвертым пальчиком попеременно, и локоток чтобы не опускался, и плечико не задирать. Обязательно, детка, проследи…
И – без паузы на это:
– Заткнись! Заткнись, я сказала! Зат!.. Зат!.. Пи-и-до-ор! Пидор гнойны-ый!
И вновь – тишайшее умиротворенное журчание, так что и слов не разобрать.
– Это кто? – спросила я потрясенно.
– Таисья, – улыбнулась Милочка.
Дверь на второй этаж была открыта настежь, как и дверь кабинета напротив. Там за большим столом сидела женщина с пронзительным лицом молодого орла и вела беседу сразу по двум телефонам. В одну трубку она ревела и клокотала, зажимая другую ладонью, затем меняла трубки, тембр голоса, выражение лица. Ноги ее при этом под столом ходили ходуном – приплясывали, притоптывали, постукивали одна о другую, словно она отпихивалась от назойливого, шкодливого домовенка, щиплющего ее за икры.
Наше появление в дверях не произвело на нее никакого впечатления. Глядя сквозь нас исступленными черными глазами, она продолжала надрывно вопить в трубку желтого телефонного аппарата:
– Пидор гнойный! Забудь свои вонючие мечты! А насчет квартиры – отсосешь у дохлого бедуина! Не бросай трубку, сука, я еще не все сказала! – И, приоткрыв ладонь на трубке серого телефона, нежнейшим тоном: – Нашла чем писать? Пиши, детка: Черни. «Искусство беглости пальцев»… Детонька, при чем тут «искусство беглых китайцев»? Слушай внимательно, золотко, повторяю…
Остаюсь, сказала я себе.
Передо мной сидел мой персонаж в совершенном, очищенном, абсолютно пригодном к употреблению виде. Ни тебе контрасты усиливать, ни тебе ненужное отбрасывать, ни тебе лексику индивидуализировать. Бери его, хватай, лелей и записывай, и благодари судьбу за подарок.
Она швырнула одновременно трубки обоих телефонов, упала головой на стол – так что я испугалась, не разбила ли она лицо, – и громко, горько и вдохновенно зарыдала.
– Таисья, ну… – Милочка обошла ее со спины, налегла своим большим животом, приподняла ей голову. – Ну, хватит!.. Кто станет читать его безграмотную писанину!
– Она гра… грамот-ная! – взвыла Таисья, мотая головой из стороны в сторону. – Он нанял Гришку Са-пожникова на редакту-уру!
Постепенно вырисовывалась следующая ситуация.
У Таисьи есть папа. Папочка, папуля. Ты знаешь, что такое – восточный папа? Она всю жизнь ноги ему мыла. А он колотил ее, как бубен на свадьбе. Но она терпела – ведь это папа, родной любимый папа…
(Остаюсь!!)
И вот, понимаешь, надоело. Во-первых, этот старый пидор бьет мать. Но и это бы еще ничего. Во-вторых, хочет отобрать у матери квартиру – но это он отсосет у дохлого бедуина: у Таисьи есть адвокат, который вставит папе такого, что папа всю оставшуюся жизнь сидеть не сможет. А в-третьих, он написал книгу, где порочит ее, родную преданную дочь, самым гнусным образом. Например, пишет, что свою квартиру Таисья достала из ширинки третьего мужа.
(Остаюсь, остаюсь!!)
– Таисья, – сказала я, – а по-моему, это образно. Твой папа не лишен…
– А Гришка, Гришка – су-ука-а! Он же был мне как брат, ближе брата!
– Так заплати ему за более глубокую редактуру, – посоветовала Милочка. – Пусть перепишет текст до неузнаваемости.
Таисья притихла, обеими ладонями вытирая мокрое лицо. Достала бумажную салфетку, громко и трезво высморкалась.
– Это – мысль, – проговорила она деловым тоном.
Отвлекусь на секунду: больше я о папе не слышала никогда. Ни о папе, ни о книге, которую он написал, ни о квартире, на которую он претендовал. Это может показаться странным, но такова была природа Таисьиного характера, ее творческая манера каждое утро заново строить сюжет своей жизни. Она как бы говорила себе: с этим все, отыграно. Сегодня… сегодня у меня будет вот что: любимая подруга, с которой пройдены огонь, воды и общие мужики, умирает от рака. И я подниму на ноги всех врачей «Хадассы», я достану такое лекарство, которым лечат только президента Америки, я выбью для ее сыновей такую пенсию, о которой они и не мечтали…
И что тут начиналось! С утра звонили телефоны, Таисья рыдала, кричала, диктовала кому-то что-то железным голосом, выпрашивала у кого-то что-то журчащим контральто.
Сидела ночами у постели умирающей, организовывала похороны, пристраивала дряхлую мать покойной в престижный дом для престарелых, остервенело и навзрыд добиваясь последнего: чтобы окна комнаты, куда вселят старушку, выходили на море, именно на море, и только на море… Часами сидела на казенном телефоне, крича директору дома престарелых:
– Чтобы последний взгляд этого дорогого мне человека – ты слышишь? – поклянись мне матерью! – был обращен в морскую даль!
После чего никто и никогда не слышал более ни о покойной подруге, ни о ее матери, ни о последнем взгляде, обращенном в морскую даль.
Наступало новое утро, сочинялся новый сюжет.
– Тая, вот, это – Дина, – сказала Милочка, – она меня замещать будет. Помоги советом, не дай в обиду, защити, если что… Ну, ты сама понимаешь.
Таисья достала пудреницу, открыла ее и принялась сосредоточенно выворачивать верхнее веко, гоняясь за упавшей ресницей. При этом ее красивое лицо приобрело еще большее сходство с молодым орлом.
– Ты вот что, советую, – сказала она, – приклейся к моей заднице и всюду за мной таскайся. Я тебя живо введу в курс дела.
Глава вторая
Вечернее низкое солнце все реже блещет на перевалах. Временами из боковых оврагов и ущелий, из-за скал и известковых бугров дует ветер – порывистый, как дыхание горячечного. И только топот копыт раздается в гробовой тишине окрест, в скатах вдоль извилистого дна Вади-эль-Хот. «Отсюда начинается дебрь самая дикая, – говорит один старинный паломник. – Эта дорога есть древняя, проложенная самою природою. Иосиф Флавий упоминает о дикости ее. Невступно через два часа от Иерусалима мы поднимались на гору, на вершине которой видны остатки хана или гостиницы Благого Самаритянина. Это место называлось издревле Адомим или Кровавое, по причине частых разбоев, здесь происходивших… И глубокая тоска охватывает душу на этой горе, возле пустого хана, при гаснущем солнце…
На этой «середине пути», который считался путем в преисподнюю, плакал сам прародитель, лишенный Эдема…
Бунин И. А. «Пустыня дьявола»
Наши все места, соседняя горка. Который год живу я в «пустыне дьявола», на середине пути в преисподнюю, и, признаться, ничего более отрадного для глаз в жизни не видала.
Наш городок, вознесенный на вершину одного из самых высоких перевалов Иудейской пустыни, напоминает поднебесный мираж, возникающий перед путником в неотразимом обаянии белокаменных стен, черепичных крыш, ярко-травяных откосов, террас, балконов, лесенок, венецианских окон, башенок и арок. С нарочитой декоративностью новеньких пальм и ненарочитой прелестью двадцатилетних сосен, с рядами старых олив на каменных террасах, с развалинами монастыря Мартириус Византийской эпохи, – городок молод и полон очарования, как хорошенькое личико на глянцевой странице журнала мод.
Эта картинка могла бы и приторной показаться, если б не отрешенное величие пустынных гор вокруг, покрытых грубой шкурой убогого кустарника. Кроме того, во всем облике городка есть некая… труднодоступность – возможно, из-за высоты, на которой он расположен, возможно, из-за архитектуры нового района: полукруглый ряд домов с остроконечными крышами оцепляет вершину горы, как высоченная крепостная стена укрывает рыцарский замок.
Здесь каждый дом по-своему напоминает рыцарский замок. Жаркий засушливый климат и режущий свет пустыни диктуют архитектурные решения: жалюзи, навесы, узкие, как бойницы, окна спален.
Здание Матнаса тоже напоминало крепость: приземистый безыскусный замок с четырехугольной цитаделью, с хозяйственными постройками вокруг – не конюшни, но бассейн, не склады, но спортивные площадки.
Существовал и естественный ров – неглубокое ущелье, или, как называют это здесь, «вади», через который до недавнего времени был перекинут мост – не подъемный, конечно, но все же, все же… Правда, после того как в одну из его опор врезался самосвал, груженный бетонными блоками, мост, сообразуясь с причудливыми правилами местной техники безопасности, пришлось снять с опор и отволочь подальше.
Он так и лежит брюхом на земле на въезде в город – как кит, выбросившийся на берег, или как парусник, вынесенный на мель, озадачивая приезжих своей откровенной постмодернистской нефункциональностью.
А если учесть, что здание Матнаса нависало над дорогой и снизу – подпертое высокой каменной стеной – казалось одиноким и отделенным от жилых массивов, сходство его с замком усиливалось. Во всяком случае, мне сходство представлялось фатальным.
Впрочем, моему шелудивому воображению дай легонько коленом под зад – оно и покатится с горы, как брошенный снежок, обрастая по пути бог знает каким сором.
Первый мой рабочий день в Матнасе выпал на четверговое заседание коллектива. Вот написала «заседание коллектива» и чувствую – не то. На иврите эта еженедельная фантасмагория называлась «ешива́т це́вет», и хоть убейте меня, а это – при буквальном точном переводе – все-таки означает совсем иное. Другое звуковое наполнение смысла, а следовательно, и ассоциативных пазух воображения.
Случалось ли вам в детстве до одури играть в «слова»? Когда наперегонки ты пытаешься выжать из какого-нибудь длиннющего кудрявого причастия – как из выкрученной жгутом прополощенной простыни последние капли влаги – еще два-три коротеньких словца, еще одно, еще междометие! (Долгие дождливые вечера на застекленной дачной веранде. Немыслимые интеллектуальные усилия над словом «коллективизация». И были, были гиганты, выуживающие из этого слова фразу «или Ицик взял кота?»!) А после машинально крутишь каждое мамино мимоходом брошенное слово, выкраивая из него бессмысленные лоскуты.
Местное звуковое пространство – ивритская языковая среда – для моего бедного русского слуха навечно озвучено двояко. Первородный смысл слова накладывается на похоже звучащее, но подчас противоположное по смыслу слово другого языка – так два случайно наложенных друг на друга кадра (техническая неисправность фотоаппарата) образуют некую фантастическую картинку. С детства отлитые в золотую форму воображения контуры слова расплываются, образуя дополнительные зрительные, слуховые и ассоциативные обертоны. Рождается странный гибрид другого измерения, влачащий за собою длинный шлейф иносмысловых теней…
Так вот, «ешива́т це́вет» – «выцвел веток вешний цвет, вышил ватой ваш… кисет?.. жилет?.. корсет?..»
Я поднималась по лестнице на второй этаж и вдруг услышала за собой дробный топот. Так бежит по лесу дикий кабан. Оглянувшись, я увидел карлика Люсио. Он и вправду был на удивление похож на кабана: сдвинутые к переносице створки заплывших глазок, широкие ноздри, срезанный подбородок. Он явно догонял меня, молча, сосредоточенно, не окликая.
Я остановилась.
– Эй, привет!
– Привет… – сдержанно ответила я.
И гундосый голос, идущий как бы через ноздри, и кабанья голова, привинченная к нелепому тельцу хромого поросенка, вызывали у меня неопределенное, но настойчивое чувство опасности.
– Ты у нас теперь занимаешься этими… русскими? (Он сказал «олим», как и положено, так на иврите называются новые репатрианты. «Оле» – единственное число обезумевшего от перемены мира вокруг немолодого интеллигента. А также молодого неинтеллигента, а также всякого, кого подхватил этот ураган, проволок черт-те куда и поставил вверх ногами. «Оле. Оле-Лукойе, горе луковое, оля-ля, тру-ляля». «Оле!» – выкрик зрителей, одобрение испанской танцовщице, выгибающей спину в страстном фламенко. А во множественном числе – «олим». «Стада олим гуляли тут, олени милые, пугливые налимы».)
– Да, занимаюсь «русскими», – осторожно подтвердила я, пытаясь понять – откуда катится несомненная и уже неотвратимая опасность.
Он смотрел на меня без выражения тусклыми серыми глазами, снизу вверх. Один рукав свитера почему-то натянул на кисть руки и поддерживал ее.
– Очень приятно. Я – Люсио.
И стал выпрастывать для рукопожатия руку из длинного рукава черного свитера.
Я дико заорала (что для меня не типично: в мгновения испуга я цепенею) и кинулась бежать вверх по лестнице. Меня пронизывали разряды обморочного омерзения и ужаса; продолжая орать, споткнулась о ступеньку, упала, ушибла локоть о перила…
Люсио ласково смеялся, продолжая протягивать мне вслед мертвую, изъеденную могильными червями кисть руки с длинными желтыми когтями, – тускло отсвечивал перламутровый обрубок кости на запястье, как оборванные провода, болтались веревки обглоданного сухожилия, и —
…нет, это уже вотчина кинематографа, я бессильна.
Карлик ласково смеялся, его двойной подбородок нежно подрагивал. Наконец умолк, бережно спрятал свой сюрприз поглубже в рукав и, пританцовывая, стал спускаться.
Я взбежала на второй этаж, в ужасе крича:
– Тая! Та-ая!! Та-а-ая!!
В этот утренний час коридор консерваториона был пуст и темен.
– Чего ты орешь, – раздалось из-за какой-то двери.
– Тая, где ты?!
– Да здесь, в учительской.
В соседней двери провернулся ключ, и Таисья открыла. Она была по пояс голой. На обеих ее ладонях лежали богатейшие груди. Так узбек на рынке держит в каждой руке по золотистой увесистой дыне, приговаривая: «Диня сладкий пакпай, диня сахарный, миёд!!»
– Заходи быстрей, я после аэробики моюсь. У нас тут – имей в виду – по четвергам в восемь аэробика. Ну, само собой, вспотеешь как лошадь, дай, думаю, вымя прополосну… Ты тоже ходи на аэробику, нервы укрепляет.
– Тая… там этот… карлик!..
– Э-эй, милка моя, да ты вся трясешься. Ты чего – испугалась? Он тебе что – свежеобрезанный хер демонстрировал?
– Н-нет… Отрубленную руку мертвеца.
– А-а… Со мной он знаешь как знакомился? Приятно, говорит, работать вместе с такой роскошной женщиной. Хотелось бы рассмотреть коллегу поближе, говорит, вот только затруднения у меня некоторые в интимной сфере…
Разговаривая, Таисья с усилием ворочала под вялой струей воды в раковине свои тяжелые груди. Так прачка полощет в реке тяжелый пододеяльник.
– Ага, некоторые, говорит, затруднения… И задирает этот свой черный свитер, что вечно у него под коленями болтается. Я глянула!.. Знаешь, я в жизни много чего видала, но тут чуть в обморок не хряпнулась. Представь: торчит из штанов огромный окровавленный хер, абсолютно натурально обрезанный минуту назад…
– Да что ж это за безобразие! – крикнула я. – Кто он такой?
Таисья обеими руками отжала над раковиной грудь и, сняв с вешалки полотенце, стала энергично растирать свое хозяйство. Так рачительный крестьянин купает в реке коня.
– Так он же, милка моя, по профессии театральный художник, потрясающий бутафор! Работал в юности в знаменитом барселонском театре «Лисео». Несколько сезонов подрабатывал в Амстердаме, в Музее мадам Тюссо… Вообще, Люсио Коронель – штучка непростая. Между прочим, из какого-то старинного испанского рода – ты порасспроси, он расскажет, он любит об этом трепаться. Там какая-то жутко романтическая история, то ли с привидениями, то ли с грабежом. Что-то криминальное – если, конечно, не врет. А врать и придуриваться он мастер! Вот увидишь, чего он вытворяет у нас по четвергам. Не обращай внимания. Люсио – паскудник, конечно, отчаянный пересмешник, но подлец он не самый большой. Ты ведь еще с директором не знакома?
Таисья повесила полотенце на крючок, сняла со спинки стула огромный роскошный бюстгальтер с лиловыми кружевами:
– Глянь, какой я себе навымник купила. Угадай почем?
– Таисья, а что, директор – тоже фрукт вроде этого Люсио?
Продолжая стоять с голыми грудями, которые, как два молочных поросенка, выпавших из мешка и ослепших от света божьего, тихо шевелятся, поводят замшевыми розовыми пятачками сосков, но уже готовы вскочить и, хрюкая, разбежаться в стороны, Таисья любовно и задумчиво рассматривала новый бюстгальтер.
– Двести восемьдесят шекелей, – похвасталась она, – положение обязывает. Все-таки я руковожу людьми, у меня семнадцать педагогов, двести пятьдесят учеников… Пора прилично одеваться.
Так же энергично и сосредоточенно принялась она впихивать и упаковывать своих поросят в это и в самом деле монументальное сооружение, напоминающее одновременно и балдахин, и попону.
– Альфонсо? – спросила она и вдруг кивнула на лежащий передо мной журнал мод. – А вот он, наш красавец жеребец.
На глянцевой обложке журнала, чуть ниже названия, была помещена фотография манекенщика с необыкновенной, не казенно обаятельной улыбкой. Сидя в кресле явно антикварного толка и небрежно перекинув ногу на ногу, он демонстрировал вечерний костюм: черный смокинг, ослепительная рубашка, бабочка и великолепная трость в правой руке. В левой он сжимал оправленную в золото, с инкрустацией из слоновой кости курительную трубку.
Я растерялась. Вопросительно взглянула на Таисью.
– Подрабатывает, – объяснила та. – Слушай, каждый крутится, как может… Ну, пойдем, там уж все собрались.
Как вспоминается сейчас, я ожидала чего угодно, только не того, что увидела.
А увидела я застолье. Середина зала, где обычно проводились культурные мероприятия, была освобождена от стульев, несколько столов сдвинуты буквой «Т» и уставлены одноразовыми тарелками и пластиковыми баночками с тем привычным набором еды, которая в первые дни приезда казалась разнообразнейшей и вкуснейшей, но вскоре надоела до оскомины: несколько сортов белого и желтого сыров, маслины, невыносимо острые соленья, творожки разной степени жирности и несколько видов баклажанных салатов – от крупно нарезанных, жаренных в томатном соусе, до молотых и приправленных майонезом. Несколько бутылок желтенького и оранжевого питья с явно уксусным привкусом разведенного концентрата, и канистра непременного израильского «шоко» – любимого напитка нации.
Вокруг стола кто-то уже сидел, энергично жуя и при этом энергично жестикулируя в разговоре, кто-то прогуливался, перегибаясь над столом и выхватывая с тарелки маслину или огурчик.
Отовсюду покрикивали:
– Дуду, передай мне тарелку! Стакан!
– Ави, хочешь хлеба?
Жевали все. Сначала я думала, что застолье – необходимая расслабляющая и объединяющая прелюдия к дальнейшим рабочим спорам и обсуждениям. Впоследствии убедилась, что это не что иное, как тотальное непрекращаемое жранье, вечное жевание, левантийский пищеварительный перпетуум…
Жевали до заседания, жевали во время заседания, жевали, ссорясь, давясь, хохоча, возмущаясь, проглатывая непрожеванные куски. И уже поднявшись со стульев, прихватывали с тарелок оставшееся – огурчик, маслинку, торопливо намазывали салат на кусочек хлеба.
– Не зевай, – сказала Таисья, придвигая мне тарелку и наливая «шоко» в одноразовый стаканчик, – все сметут, гады, оглянуться не успеешь.
Я попыталась расспросить ее на предмет – кто там в малиновом берете, – но Таисья сказала сурово:
– Молчи и ешь. Я все тебе со временем объясню. Главное, не лезь ни во что. Твое дело маленькое: ты Милку замещаешь. А то сядут на голову и поедут – дороги не разберешь.
– Кто поедет? – спросила я.
– А вот увидишь, – отозвалась она, энергично намазывая на хлеб толстый слой белого мягкого сыра.
Наконец в дверях зала вскочил – зрительно это именно так и выглядело – высокий человек, в котором я сразу узнала давешнего манекенщика с обложки журнала мод. Две-три секунды он обозревал собравшихся за столом – так завоеватели бросали первый взгляд на Иерусалим с вершины горы Скопус – и спешился: неторопливо направился к той части стола, которая представляла собой перекладину буквы «Т». За ним поспевали две секретарши и – тощенькая, сутулая, на голенастых подростковых ногах, с круглой стриженой головой пятиклассника – Адель, замдиректора по финансам.
В дальнейшем все без исключения четверговые заседания «це́вета» – «цвета» Матнаса – начинались с этого внезапного появления-вскакивания Альфонсо в дверях. Несколько секунд, как бы натягивая вожжи, подняв невидимого коня на дыбы, он зорко оглядывал свои владения, затем неторопливо спешивался.
Да, это был тот самый человек с обложки журнала – красавец лет тридцати восьми, безупречная модель; у него были все данные, чтобы стать идолом Голливуда. Он был рыцарственно красив, словно откован природой по давно забытой, но вдруг случайно найденной форме, по какой в Средние века ковали сюзеренов и королей.
– Ну вот, – сказала мне Таисья, пока директор усаживался и с ласковой, поистине прелестной улыбкой кивал то одному, то другому, кто протягивал ему тарелку, стакан, баночку с салатом. – Сейчас он устроит «рабочую перекличку «ракази́м»», и ты начнешь потихоньку врубаться.
– Что такое «раказим»?
– Координаторы. Балда.
– И мы здесь все – «ракази́м»?
– Ну да. Козлы рогатые.
– Хе́врэ! – воскликнул Альфонсо, пристукнув ладонью по столу.
В эту минуту заколыхалась портьера на дверях зала, зашевелилась, приподнялась, завыла, затанцевала… Из-за портьеры выкатился Люсио, обиженно подвывая что-то вроде: «Всегда без меня, все без меня, никто Люсио не ждет, все съели, ни крошки бедному не оставили…» – совершенно ясно было, что он прятался там и выжидал, пока соберется вся компания.
Он выписывал вокруг стола кренделя, Альфонсо смотрел на него откровенно любуясь – так смотрят на своего пострела, шалуна… Впрочем, было еще что-то в этом взгляде, как показалось мне в ту минуту – тщательно скрываемая опаска. Люсио подскочил к директору, заведя руку за спину и приговаривая: «Поделись с Люсио, дай кусочек вкусненький!» – сунул под нос Альфонсо свой утренний сюрприз, который так меня напугал.
Тот отшатнулся, перекосился, плюнул и… захохотал. Выхватил у Люсио злополучную кисть руки мертвяка и поднял повыше, любуясь, прицокивая и приглашая полюбоваться всех. Дамы кривились, хихикали, отмахивались от мерзости, выполненной с таким мастерством. Очевидно, привыкли. Только одна – высокая и тонкая, как хлыст, с черными глазами на худощавом, очень холодном лице – взяла карликову поделку в руки, внимательно осмотрела и спросила:
– У кого это ты отгрыз, Люсио?
– У твоего дружка, Брурия, – мгновенно ответил он, – у которого ты грызешь кое-что другое.
За что сразу же схлопотал легкий подзатыльник от начальства.
– Хе́врэ! (хари хавающие, врущие, рыгающие, харкающие…)
Альфонсо отодвинул от себя тарелку и воссел – я иначе не могу изобразить эту гордую посадку. Как же он был хорош! Густые пепельные волосы, красиво распадающиеся на лбу, крупные чеканные черты лица, вообще – некоторая даже излишняя в лице чеканность, разве что ускользающий взгляд каштановых глаз несколько контрастировал с этими выбритыми до голубоватого отлива литыми формами.
– Хе́врэ, времени нет, это заседание будет непривычно кратким.
Надо сказать, в дальнейшем директор всегда провозглашал напряженную работу в сжатые сроки, все заседания с первой минуты он объявлял «непривычно краткими» – и все они растягивались на долгие часы. Посудите сами: во-первых, все «раказим» должны были высказаться, доложить о результатах работы за неделю, о планах работы на будущее. Все это прерывалось бесконечными и ожесточенными перепалками каждого с каждым, ибо недоделки и упущения в работе одного были, как правило, причиной – действительной или мнимой – недостатков и упущений в работе другого. И все вместе они не стоили выеденного яйца.
Кроме того, на каждом заседании обязательно выявлялось какое-нибудь возмутительное происшествие, в котором долго, подробно и скандально разбирались.