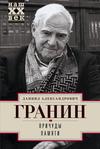Kitabı oku: «Мысли о жизни. Письма о добром. Статьи, заметки», sayfa 11
У выхода из помещения команды выздоравливающих дежурил «каталикос», не то армянский, не то грузинский. Я искал – кто это мог быть, расспрашивал и армян, и грузин, но так мне и не удалось установить, кто он был. Его пост был рядом с парашей, большой, железной, к которой вела короткая деревянная лестница с площадочкой. Он подавал мне руку и помогал забраться. Никогда этого я не забуду. Хотя почему мне забывать в оставшуюся небольшую часть моей жизни, если я не забывал этого до сих пор 65 лет! Помню: вставать я могу только с большим трудом. Мой сосед – крестьянин. Живое воплощение Платона Каратаева. Он говорит мне как-то: «Я научу тебя чему-то, но ты обещай мне, что не разболтаешь. С этим ты всегда будешь сыт». Он говорит мне: «Галоши к валенкам нужны повсюду: надо только уметь их делать». И он учит меня. Рисует выкройку, показывает, как уменьшать или увеличивать размер. Резать резину никто не умеет. Весь секрет в том, что резину надо резать ножницами в воде. Резину легко достать у шоферов: ничего, что красная. Видимо, галоши – это главная его надежда на будущее благополучие после возвращения домой.
Лагерная топография Соловков
Из разговоров на Соловках в 1929 г. я помню: плотность «населения» на Соловках больше, чем в Бельгии. При этом огромные площади лесов и болот не только не населены, но и неизвестны.
Что же было на Соловках? Гигантский муравейник? Да, муравейник был, – между зданиями трудно было даже протолкаться. Давка при входе и выходе у 13-й роты – рядом с Преображенским храмом. Охранники из заключенных с палками («дрынами») «наводили порядок». И при этом вход и выход разрешен каждому – только с «нарядами» – листами на работу.
Ночью проходы между зданиями затихали. Высились богатырские стены, башни и храмы, устойчиво опиравшиеся на расширявшиеся книзу стены.
Попробую описать устройство лагеря. В Кремле (так называлась часть монастырских строений, огражденная стенами из гигантских валунов, поросших оранжевым лишайником) было 14 рот. 15-я рота, вне монастыря, – для заключенных, живших в различных «шалманах» – при мехзаводе, алебастровом заводе, при бане № 2 и т. д. Про лагерное кладбище говорили – 16-я рота. Шутили, но трупы в некоторых ротах зимой лежали незасыпанные и раздетые.
Почему заключенные распределялись по ротам? Я думаю, тут известную роль сыграли заключенные из военных, сами устанавливавшие порядок среди первых прибывших на острова лагерников. Тюремщики сами ничего не могли сделать, организовать тем более. Военные были поначалу единственной организующей силой, способной разместить, накормить, навести элементарный порядок среди прибывавших и прибывавших на острова Соловецкого архипелага заключенных. Они и делали многое по армейскому образцу.
Первая рота была ротой «привилегированных» – командиров, начальников. Она помещалась за алтарем Преображенского собора и глядела окнами на площадь общелагерных поверок. Над первой ротой помещалась третья, «канцелярская», с окнами в обе стороны. Где была вторая рота, не помню. Шестая – «сторожевая» – состояла в основном из священников, монахов, епископов. Им поручалась работа, на которой нужна была честность: сторожить склады, каптерки, выдавать посылки заключенным и т. д. Она помещалась в основном здании, тоже обращенном на площадь поверок. Седьмая рота – «артистическая». Здесь жили работники культурно-воспитательной части: актеры, музыканты, административные деятели учреждений, изображавшие собой «перевоспитательную» работу на Соловках. Восьмая, девятая и десятая роты тоже были «канцелярскими». Одиннадцатая рота – это карцер. Он помещался у Архангельских ворот. Там заключенные сидели на «жердочках» – узких высоких скамьях, а спали прямо на полу. К карцеру пришлось прибегнуть, когда в Соловки стали прибывать уголовные и против них стали приниматься меры самими заключенными «каэрами» («контрреволюционерами», по терминологии начальства). В конце концов прибытие нового большого числа заключенных заставило превратить в роту трапезную. Трапезная единостолпная палата, по своим размерам превосходившая Грановитую палату Московского Кремля, первоначально использовалась по своему прямому назначению – как общая столовая для всех заключенных. Когда помещений в монастыре стало не хватать, превратили в роту помещение, вход в которое был через трапезную. Это была двенадцатая рота.
Из всех рот тринадцатая была самой большой и самой страшной. Туда принимали вновь прибывавшие этапы. Там их муштровали, чтобы сломить всякое желание сопротивляться или протестовать, и направляли на тяжелые физические работы. Все прибывающие на Соловки обязаны были пробыть в тринадцатой роте не менее трех месяцев. Называлась рота «карантинной».
Нас выстраивали по утрам на длительную поверку по коридорам, окружавшим Троицкий и Преображенский храмы. Строились по десять человек, пересчитывались, и последний в строю орал, помню:
«Сто восемьдесят второй полный строй по десяти».
Порой в тринадцатой карантинной роте на нарах вплотную друг к другу помещалось три-четыре, а то и пять тысяч человек. Конечно, мы все были во вшах. Только по особым ходатайствам удавалось вызволить кого-либо из карантинной роты.
Помню, как начальник здоровался с нами:
– Здравствуй, карантинная рота!
И мы, сосчитав про себя до трех, после последних слов этого «приветствия», хором гаркали:
– Здра!
Затем по очереди подходили к маленьким столикам, за которыми сидели нарядчики (среди них «чубаровцы»: участники ужасающего группового изнасилования в Чубаровом переулке в 1927 г. в Ленинграде) и получали наряды на работу.
В четырнадцатой роте, помещавшейся за единостолпной трапезной палатой, и в прилегающих помещениях жили те, кто не был еще распределен после трехмесячного пребывания в тринадцатой роте по «командировкам» и дожидался отправки на лесозаготовки, торфоразработки и всякие производства.
Пятнадцатая рота, иначе «сводная», была для тех, кто жил по разным углам за пределами Кремля. Эта рота считалась самой блатной, т. е. самой привилегированной. На этом официальное число рот в лагере заканчивалось. Кроме того, были «командировки» – заключенные, работавшие в Савватиеве, Филимонове, на островах – Муксалме, Анзере, Зайчиках, на различных торфо- и лесоразработках.
«16-я рота», как я уже сказал, – кладбище.
Кроме рот в Кремле существовал отдельно обширный лазарет, где обычно все было до предела переполнено, и «команда выздоравливающих» в подвале, недалеко от прачечной.
Вот, кажется, и все из «жилого» фонда в центральном «кремлевском» участке.
Кроме «жилых» помещений в пределах Кремля были еще и «работающие»: баня, там, где Сушило; адмчасть, распоряжавшаяся всем порядком и снабжением лагеря (тут работали главным образом лучшие организаторы – бывшие военные); ИСЧ (информационно-следственная часть), сочинявшая для собственного существования различные «заговоры», выслушивающая информаторов (сексотов) из заключенных (для их приема был предназначен ныне не существующий деревянный домик под Сторожевой башней вне Кремля); «Помоф» (пошивочная мастерская, где работали по преимуществу женщины). «Помоф» и часть лазарета помещались в первом отсеке Кремля недалеко от Никольских ворот. Был театр с фойе, служившим также лекционным залом. Но самое главное – в Кремле существовал музей. В музее было даже уютно, а в театре ставились замечательные постановки, играли прекрасные актеры, но попасть в него было труднее, чем сейчас в Большой театр в Москве.
Наконец, в Кремле, в первом его отсеке с отдельным выходом через Сельдяные ворота (сейчас ими не пользуются), существовал «монастырь»: два десятка монахов с игуменом, схимником (не путать с отшельником, якобы жившим где-то в лесах) и отведенной для монахов на кладбище деревянной Онуфриевской церковью, где совершались богослужения. Эти монахи были специалистами по рыбной ловле. Они умели управляться с сетями, знали течения в море, ход рыбы и т. д. Ловили они навагу, но главным образом – знаменитую соловецкую сельдь, шедшую на столы Московского Кремля, за что сельдь эту еще называли «кремлевской». Когда Онуфриевскую церковь закрыли, сельдь «исчезла» (может быть, в знак невыполнения УСЛОНом своих обязательств перед монахами?). Что случилось потом с монахами – изгнали или уничтожили, – сказать не могу, не знаю. Жил монах и на Муксалме, умевший обращаться с коровами (коровы были в сельхозе у Кремля и на Муксалме, где находились чудесные выпасы для скота).
Были еще в Кремле «заведения» помельче. Клетушка под большой колокольней, где расстреливали поодиночке (выстрелом в затылок), после чего приезжала телега с ящиком, куда бросали труп (отсюда пошло выражение «сыграть в ящик»), и приходили поломойки – мыть пол от крови. Была хлебопекарня, выпекавшая отличный хлеб по технологии еще XVI в. – митрополита Филиппа. Был дровяной двор (он сейчас пустой – там висят два сохранившихся колокола – норвежский и «царский»). Была кипятильня около хлебопекарни, где из выходившего в подворотню крана можно было для рот получать кипяток (его забирали в больших медных монастырских кувшинах для кваса).
В каждое помещение посторонним вход был запрещен. Дежурили люди с палками, которые били ими слишком настойчивых посетителей. Я лично общался с людьми из других рот главным образом на работе.
Вход и выход из Кремля разрешен был только через Никольские ворота. Там стояли караулы, проверявшие пропуска в обе стороны. Святые ворота использовались для размещения пожарной команды. Пожарные телеги могли быстро выезжать из Святых ворот наружу и внутрь. Через них же выводили на расстрелы – это был кратчайший путь из одиннадцатой (карцерной) роты до монастырского кладбища, где производились расстрелы.
За пределами Кремля в здании бывшей монастырской гостиницы помещались управление СЛОН, женбарак, мехзавод (бывшая кузня), сельхоз, баня № 2 (где принималась санобработка и где просиживали по несколько часов голые заключенные, пока пропаривалась в вошебойке их одежда), алебастровый завод, канатный завод, спортплощадка (для вольнонаемных), обслуживаемая двумя-тремя заключенными, дом и столовая для вольнонаемных (для немногих начальников). Вдалеке находился кирпзавод (кирпичный завод).
Что же помещалось на остальной части Соловецкого архипелага? Должен сказать, что я знал остальную часть лагеря очень плохо: только в моих пеших командировках для собирания сведений о подростках, которых необходимо было определить в детколонию, вскоре переименованную в трудколонию и печально известную в связи с посещением Соловков Максимом Горьким в 1929 г.
Я не могу не сказать особо еще о двух учреждениях, игравших большую роль в умственной жизни на Соловках: Музее и Солтеатре. Все эти три учреждения для прикрытия кошмарных условий пребывания на Соловках, но худым словом я их не помяну. Они не только спасли жизнь многим интеллигентным людям, но позволили не прекращать до известной степени жить умственной жизнью.
Я очень опасаюсь, что мемуарная литература о 20-х и 30-х гг. создает однобокое представление о жизни тех лет, а главное, о жизни в заключении. Вовсе не все ограничивалось страданиями, унижением, страхом. В ужасных условиях лагерей и тюрем в известной мере сохранялась умственная жизнь. И эта умственная жизнь была даже в некоторых случаях весьма интенсивной, когда вместе оказывались люди, привыкшие и хотевшие думать. Перефразируя известную лагерную поговорку «был бы человек, а статья для него найдется», можно было бы сказать – «был бы думающий человек, а мысли у него будут».
Мой школьный учитель и «одноделец» И. М. Андреевский в журнале «Соловецкие острова» опубликовал статью, посвященную нервным и психическим заболеваниям на Соловках. Он открыл даже особую психическую болезнь, в названии которой сохранил ее соловецкое происхождение (сейчас не помню). Заболевавшие ею люди постоянно стремились улучшить свое положение: занять лучшее место на нарах, захватить пайку хлеба чуть больше, чем у других, искать выгодных знакомств и всяческого «блата». Такие люди были напряженно заняты только этим. Они погибали скорее остальных. Но были люди (и их было немало), сохранявшие свое человеческое достоинство, думавшие и осмыслявшие бытие в духовном масштабе.
Соловки были именно тем местом, где человек сталкивался с чудом и с обыденностью, с монастырским прошлым и с лагерным настоящим, с людьми всех уровней нравственности – от высочайшей до самой позорно низкой. Здесь были представители разных национальностей и разных профессий – бывших и настоящих. Сталкивались две эпохи: одна дореволюционная, а другая сугубо современная – типичнейшая для двадцатых и начала тридцатых годов.
Жизнь на Соловках была настолько фантастической, что терялось ощущение ее реальности. Как пелось в одной из соловецких песен: «Все смешалось здесь, словно страшный сон».
Характерная черта интеллигентной части Соловков на рубеже 1920-х и 1930-х гг. – это стремление перенарядить «преступный и постыдный» мир лагеря в смеховой мир. Если соседи наши по Савватиеву и Муксалме, где содержались «политические», т. е. люди, официально состоявшие в политических партиях, зарегистрированных в каких-то международных организациях защиты политзаключенных, превращали (не без преувеличений) свое содержание на Соловках в мир страданий и мучений, то настоящие «каэры» (контрреволюционеры) центральной части Соловков всячески подчеркивали абсурдность, идиотизм, глупость, маскарадность и смехотворность всего того, что происходило на Соловках, – тупость начальства и его распоряжений, фантастичность и сноподобность всей жизни на острове (мир страшных сновидений, кошмаров, лишенных смысла и последовательности). Характерны для Соловков странички юмора в журнале «Соловецкие острова», сочинявшиеся по преимуществу Ю. Казарновским и Д. Шипчинским, а отчасти и Артурычем – Александром Артуровичем Пешковским. Анекдоты, «хохмы», остроты, шутливые обращения друг к другу, шутливые прозвища и арго как проявление той же шутливости сглаживали ужас пребывания на Соловках. Юмор, ирония говорили нам: все это не настоящее. Настоящая жизнь ждет вас по возвращении… Ощущение нереальности бытия поддерживалось своеобразной атмосферой белых ночей летом и черных дней зимой, а в промежутках – длинными утрами (без ощущения дня), переходящими в столь же длинные вечера, пустынностью лесов и гибельностью болот, обилием темных камней, покрытых яркими лишайниками и мхами. Разнообразие пейзажей на главном острове было удивительным, и каждый остров в Соловецком архипелаге был не похож на другой.
Природа Соловков
Душевное здоровье на Соловках помогла мне сохранить именно природа, а точнее, постоянный пропуск на выход из Кремля, который в начале 1929 г. оформил мне делопроизводитель адмчасти, бывший флагофицер А. Ф. Керенского – Александр Иванович Мельников. После отъезда Мельникова с Соловков в самом конце 1929 г. этот пропуск постоянно мне возобновлялся, так как я должен был ходить в детколонию (переименованную затем в трудколонию) по делам Кримкаба.
Я пользовался этим пропуском как только и когда только мог: ходил по Реболдовской дороге до Глубокой Губы, тайно – до Переговорного камня (здесь велись переговоры монастырских представителей с командованием английской эскадры во время Крымской войны); по Савватиевской дороге, по Муксаломской дороге и т. д. Несмотря на строжайшее запрещение появляться в прибрежной полосе, несколько раз я ходил к Митрополичьим садкам, где в солнечные дни лежал час или два на солнце, совершенно забывая об опасности. На Заячьей Губе у Митрополичьих садков я познакомился с замечательной заячьей семьей. Я лежал в кустах и задремал. Когда я открыл глаза, я увидел прямо против себя на расстоянии чуть большем протянутой руки очаровательную зайчиху и несколько маленьких зайчат. Они смотрели на меня не отрываясь, как на чудо. Монахи приучили животных не бояться человека. Зайчиха явно привела своих детишек показать им меня. Я не шевелился, они тоже. Мы смотрели друг на друга, вероятно, с одинаковым чувством сердечной приязни. Такое бездумное созерцание не могло продолжаться вечно: я пошевелился, и они исчезли, но надолго осталось удивительно теплое чувство любви ко всему живому. Кругом росли низкорослые и искореженные ветрами соловецкие березы, журчали струйки воды, с отливом или приливом проходившие через сложенную из сравнительно небольших камней плотину Митрополичьих садков.
По Реболдовской дороге я ходил безопасно с тоненькой березовой палочкой в руках. Доходил до Глубокой Губы и тут однажды купался. Вода здесь сохраняла холод зимы. Я вошел в нее не страшась, но, когда окунулся, дыхание у меня перехватило, и я едва выполз. Тут же я обнаружил полусгнивший крест с обозначением, что на этом месте высадилась рать Мещеринова во время Соловецкого восстания в конце XVII в. Поперечная доска отвалилась, и в ней торчал кованый гвоздь. Я его взял, и он был у меня до блокады, когда в суете вынужденного отъезда (меня высылало из Ленинграда с семьей ОГПУ) я его забыл взять с собой.
Реболдовская дорога была изумительно красива, и однажды я ее прошел всю до самой Реболды, откуда переправа была на Анзер. Вблизи Реболды начинался «бегущий лес», впоследствии вырубленный. Это были многолетние сосны с толстыми стволами, которые постоянный ветер пригнул к земле, и они поэтому казались «бегущими» и живыми. На что они могли понадобиться? Древесина их была плотной и плохо поддавалась пиле.
Зато какие бревна были в срубе сторожевой избы, где в тепле можно было дожидаться переправы на весельных лодках! Гигантские по длине и толщине прокопченные бревна, создававшие впечатление глубокой старины. Мне казалось, что я нахожусь прямо-таки в XVII в. Да оно, пожалуй, так и было…
Природа Соловецких островов словно создана между небом и землей. Летом она освещена не столько солнцем, сколько громадным высоким небом, зимой – погружена в низкую кромешную тьму, смягченную белизной снега, изредка прорываемую сполохами северного сияния, то бледно-зелеными, то кроваво-красными. На Соловках все говорит о призрачности здешнего мира и о близости потустороннего…
Острова – разные по ландшафту. Два Заяцких, Большой и Малый, на которых не растет ни единого дерева, красота которых – в изумительных цветовых сочетаниях лишайников, камней и валунов, кустов и полярных березок и возможностью отовсюду видеть море. Здесь нельзя заблудиться. Все кажется диким и пустынным, и только низкие лабиринты напоминают об обычаях, которые создал себе человек. Два острова – Большая и Малая Муксалма – покрыты лесами и болотами, холмами, обрывающимися у моря, и тучными пастбищами, на которых веками паслись коровы. Искусственная дамба соединяет Большую Муксалму и Большой Соловецкий остров. Великолепен Анзер. Природа его пышная и словно даже веселая. Песчаные пляжи и прекрасные лиственные леса напоминают о юге. Но высокую гору острова венчает Голгофский скит, самим своим названием пророчески предсказавший невыносимые страдания умиравших здесь стариков, калек и безнадежно больных, свезенных сюда со всего лагеря, замерзших здесь, заморенных голодом, заживо погребенных. Центральный остров – Большой Соловецкий – собрал в своем ландшафте все, что имеют другие острова. К тому же триста озер, больших и малых, часто несущих на себе еще новые острова, на которых могли содержаться и особо секретные заключенные, которых лишали возможности видеть других людей, а когда-то – затворялись отшельники.
Здесь – большой природный Рай, но одновременно большой Ад для заключенных всех рангов, сословий, всех населявших Россию народов! Здесь, в этом мире святости и греха, небесного и земного, природа и человек соединились в необыкновенной близости.
Огромные валуны служили основным строительным материалом: из них воздвигнуты башни и стены, вместе с плинфой и кирпичом они легли в основание храмов. Крыши крыты тесом, купола – лемехом. Но иконы и книги, алтарная резьба и кованое железо свидетельствуют об огромных усилиях человека преодолеть природу, поставить дух выше материи, создать из природы гигантский храм. Скиты словно «сужают» расстояние по всему острову. Землянки отшельников и медные кресты, вросшие прямо в стволы деревьев. Об эти кресты и медные иконы ломались зубья двуручных пил заключенных на лесозаготовках.
Триста озер Большого Соловецкого острова, самые большие из которых соединены между собою каналами, чтобы непрестанно пополнять чистой водой большое Святое озеро, по берегу которого поднимаются главные постройки Соловецкого монастыря, поставленные на перешейке между Святым озером и морем. Разница в уровне, как говорили, – восемь метров. Эта разница позволила создать в монастыре водопровод, канализацию, использовать различную технику, построить быстро наполняемые и опорожняемые доки для починки судов, прекрасную хлебопекарню, портомойню, кузницу (исключительную для XVI в.), снабжать водой трапезную, и т. д., и т. п. Монастырь мог бы служить наглядным опровержением ложных представлений об отсталости древнерусской техники. Святое озеро – это, по существу, гигантский пруд, искусственно созданный, чтобы заставить жить и работать все жизнеобеспечивающие механизмы монастыря.
Восемь метров перепада уровней моря и озера, образовавшегося от перемычки, заставляли строить стены храмов с широким фундаментом, создавать стены и храмы, как бы тяжко, незыблемо стоящие на земле, чтобы уберечь обитателей монастыря от врагов и непогоды, создать внутри монастыря условия для процветания маленького живописного садика, где всюду были места, удобные для душевного отклика и молитвенных размышлений престарелых монахов.
Соловецкие острова – место, где ощущение творящего Бога и временности человеческого постоянно поддерживается сменами времен года, ритмом суток, длинными ночами зимой и длинными закатами вечером, длинными восходами солнца по утрам, быстрыми сменами погоды, многообразием ландшафтов, ощущением длительности истории этих мест, отмеченных языческими лабиринтами и обетными крестами, храмами и часовнями, где напряженный крестьянский и ремесленный труд был бы так свят и так угоден Богу.
И вместе с тем, уже в монастырское время в мирную молитвенную и трудовую жизнь монахов врывались и чисто мирские заботы: столкновение с еретиками, пребывание в нем сосланных, большое старообрядческое восстание, приведшее к длительной осаде в 1668–1678 гг. и сотням погибших, чьи тела валялись непогребенными перед монастырем на льду…
Заканчивались мои прогулки к морю на противоположной стороне от монастыря – недалеко от Переговорного камня. Я знал, что выбирать место для отдыха надо на каком-либо мысу, куда обычно не заезжал «главный хирург» Соловков латыш Дегтярев. Но я не знал, что у него появилась маленькая собачка с необыкновенным чутьем, выдрессированная на человека. Людей она чувствовала на большом расстоянии.
Я выбрал место для отдыха на берегу бухты с противоположной стороны от той, с которой делал свой объезд на белой лошади «начальник войск Соловецкого архипелага» Дегтярев. За камнями меня трудно было увидеть. И вдруг я услышал отвратительный пискливый лай собачонки. Ко мне в объезд бухты скакал Дегтярев – главный расстрельщик Соловков. Я успел натянуть брюки и ринулся в лес, захватив все остальное под мышку. На мое счастье, в лесу была длинная болотистая полоса, видимо бывшая когда-то руслом реки. Через этот болотный «ров» лежала огромная ель. Я ступил на ствол, и меня прямо перенесло на противоположную сторону. Если бы не страх попасть к Дегтяреву (а от него прямо на Секирку), я никогда не был бы таким «храбрым», чтобы перейти по стволу с одного берега болота на другой. Дегтярев остановился и, нарушив удивительную благостность соловецкого леса отборной бранью, не стал меня преследовать, да и не мог он спешиться и бежать за мной. Почему он не стал стрелять – не знаю.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.