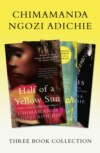Kitabı oku: «Колдовской ребенок. Дочь Гумилева», sayfa 3
Книга попалась уж очень интересная, хотя и жутковатая немного. В ней рассказывалось о семье художника, переживающей осаду Парижа. Осаду пруссаками, это не тараканы, это немцы, а запомнить легко.
У художника, доброго и не очень талантливого, снимавшего маленькую студию на лестницах Монмартра (это улицы, но дедушка говорит, что улочки на Монмартре правильнее считать просто лестницами), по словам автора, имелось двое сыновей – Жан и Ришар. Ришар был ровесником Лены. Не очень интересно читать книги, где действуют одни взрослые. А так преотлично.
Вчера, вместе с Жаном и Ришаром, Лена успела увидеть, как парижане вырубают белоствольные платаны на бульварах, развесистые каштаны в Тюильри… Голый город, город без деревьев, как картина без рамы. Но топить больше нечем. Дым от сырых дров зол и едок.
Но все одно тянутся к огню руки. В каждом доме – жадно тянутся к огню иззябшие маленькие ручонки детей, с ямочками вместо костяшек, хрупкие старческие кисти, осыпанные «цветами смерти». Идет дым от подмёток, слишком крепко упершихся в каминную решетку, но зато согреваются ноги… Люди знают, что блаженного тепла может не достать до конца зимы.
Что сгорело в ненасытных каминах прежде, чем нужда выгнала на бульвары с топором? Лишняя мебель… Корзины, корзинки, разделочные доски, скалки… Игрушки: всякие там лошадки, чурочки… Все равно они не нужны дитяти, спрятавшемуся в кровати под грудой одеял и одежды… Письма: когда-то драгоценные, перетянутые лентами связки писем… Книги?
Как же ужасно – жечь книги!
Лена отложила свою, не сожженную, но целую невредимую.
Старшие говорили о лютых революционных годах, что в холоде бывает много голоднее, чем в летнюю пору. Так и кажется, что немного поесть – и согреешься. А есть парижанам было нечего.
В городе съели собак и кошек… Лену передернуло. Как же надо оголодать, чтобы убить кошку?
Лена вздохнула и вновь погрузилась в чтение, готовая расплакаться вместе с Ришаром: в зоологическом саду съели двух слонов.
Мяснику трудно убить слона. Как слепо метался по загону огромный зверь, неумело раненный топором! А звали слона Сизиф.
Вчера Лена и вправду над этим так расплакалась, что самой сделалось страшно.
Дедушка сказал тогда: «Осады городов остались в прошлом. Из чего ты так испугалась? В нашем веке такого не случится никогда, почитай о чем повеселей, Ленок».
Конечно, не случится, а все ж не по себе…
Останутся ли живы Жан и Ришар и их смешной папа Жюль?
Глава IV. Покровительство гения
– Ба! По какому это случаю коньяк и яства от Норда?
Накрыто было старательно, но трогательно, по-мужски неумело. Задонский жил уж третий год один, потеряв мать в эпидемию инфлюэнцы. Еще одна трагическая судьба. Вдовствуя, поднимать сына, в постоянном страхе, что обстоятельства гибели мужа скрыты не слишком-то надежно. Но механизм террора подразумевает непредсказуемость. Ольга Дмитриевна, по крайности, скончалась в родном городе, в относительном спокойствии за судьбу сына. Задонским посчастливилось. Как и, что вовсе из разряда чудес, счастливилось покуда Энгельгардтам.
Юрию в последний год жилось полегче: теперь он сочетал обучение с должностью младшего лаборанта на кафедре, где и писал диплом. Это избавило молодого человека от тяжелых ночных подработок в типографии, после которых он частенько клевал носом на лекциях.
– По самому лучшему случаю на свете, Николай Александрович! Позвольте за вами поухаживать немного. Я, признаться, не слишком разбираюсь в коньяках, но говорили…
– Да погодите вы с коньяком! Ну, хорошо, лейте и повествуйте. Кажется, я догадался отчасти. Вы определились со службой.
– Нет… То есть да, но слова ничего не вместят… – Задонский отхлебнул из рюмки, скривился и торопливо откусил лимона, что не вполне помогло. – Николай Александрович! Я буду служить в ВИРе.
– А нельзя ли без аббревиатур? Скверная привычка, потом не отстанет.
– Простите, я сегодня безумен. Разве что давешняя мегера, что у вас сидела, меня капельку заземлила. Институт Растениеводства. Всесоюзный. Но мы, – при этом слове лицо Задонского как-то торжественно просияло, – меж собой говорим попросту Вавиловский.
– Вот оно что, – Энгельгардт улыбнулся, согревая стекло в ладонях. – Вы, стало быть, начинаете свое поприще в институте вашего кумира.
– Не просто в его институте! – Задонский опрокинул рюмку, словно пил водку. Отсутствие опыта, каковое, впрочем, исправляется весьма споро. – У самого Николай Ивановича. Я как раз сегодня от него.
– Вот оно как. – Энгельгардт с удовольствием смотрел в воодушевленное лицо вчерашнего студента. Молодость неизбежно творит кумиров. Но этот, по крайности, выбрал на сию роль достойного. – Легендарный Вавилов, что питался неделю одними акридами, но добрался до афганской глуши, куда ранее не ступала нога европейца?
– Не смейтесь, я счастлив сегодня.
– Я не смеюсь, Юрий Сергеевич, я сорадуюсь. Ну, рассказывайте, рассказывайте. И сами ешьте эти буше, это в ваши годы на сладкое тянет всерьез. Итак, Вавилов предложил поступить под его руководство?
– Не совсем так… – Задонский, еще полный доверху впечатлениями, все не мог оторваться мыслями от встречи с академиком. – Николай Иванович мне предложил выбор: либо заниматься пшеницей у него, либо попробовать один метод… Новый метод… Есть такой самоучка, но, говорят, талантливый. Некто Лысенко. Он тут надумал искусственно яровизировать сорта. Если получится у него – может выйти прелюбопытно. Николай Иванович хочет дать ему шанс…
– Разве вы не любите рисковать? – дружелюбно поддел Энгельгардт.
– Нет, я не из осторожности… Две причины, но обе глупые.
– Валяйте, делитесь со стариком… Всё одно спишу на вашу молодость любую глупость.
– Мне… – Задонский замялся. – Мне неприятен Лысенко. Манера говорить… Такой простой, якобы грубый, но сладкий, будто леденцов переел. Самых ядовитых, знаете, на палочке. И будто эти леденцы из него так и точатся – дотронешься, а он липкий. Но это же впрямь ребяческие эмоции.
– Когда как. – Энгельгардт даже не улыбнулся. – А вторая причина?
– Она еще глупей. Мне, дураку, кажется почему-то, что ничего с этой яровизацией не выйдет. Вавилов разрешает попробовать, а я, видите ли, сомневаюсь. Даже уверен – пустое это.
– Э, Юрий Сергеевич… Придет время, увидите, даже великие из великих иной раз ошибаются. И их величия это отнюдь не умаляет. Но вы ведь, я чаю, доверились себе?
– Да.
Задонский, с рюмкой невкусного коньяку, мало еще чем отличного для него от невкусной водки, но зато позволяющей в полной мере ощутить серьезность перемены в судьбе, прошелся по комнате. Через растворенные окна доносились со двора крики играющих детей.
Энгельгардт неожиданно прислушался.
– Как это все же скорбно… Простите, я о своем, о филологии… Слышите, что кричат детишки?
– В прятки, верно, играют… Или в салки… Считаются. – Задонский невольно прислушался следом.
– Не годится! Заново! – звонко захлебывался голосок внизу:
Эни-бени-рики-факи,
Турбо-урбо-сентябряки,
Дэо-дэо-краснодэо
Бац!
– Готы на развалинах Рима. В более, пожалуй, прямом смысле, чем иной раз кажется. – Энгельгардт горько усмехнулся. – Разгадайте шараду, Юрий Сергеевич. Вы ведь успели поучиться в гимназии.
– Гмм… Кажется, обычная детская абракадабра…
– Повторите медленно… Проступит. Особенно во второй части.
– Део… део… краснодео… да еще и бац… Бац – имеет значение?
– Да.
– Део део краснодео… – Задонский присвистнул. – Поймал! Deus, deus, crassus deus, Bacchus! Так? Я не помню, признаться, всего стишка.
– Aeneas bene rem publicam facit
In turba urbem sene Tiberi jacit, —
отчетливо продекламировал Энгельгардт.
Задонский решительным жестом закрыл окно.
– Вавилов… Вавилов рассказывал. Ему встречались в глуши дикари, бормочущие «священные» тексты по неграмотности наизусть, и притом – на непонятном для них языке… Как их там, муллы, что ли.
– Что естественно для внеисторических пределов, страшно в центре цивилизации. Но простите мне старческое уныние. Вы опять о своем Вавилове, и вы правы.
– Я ведь тоже обо всем происходящем думаю, Николай Александрович. – Теперь Задонский не улыбался. – Я потому и рад, что пошел в естественные науки. Их-то ничто не затронет, при любых властях… Тут можно себя найти. И души своей не погубить. Николай Александрович, я только вам могу сказать, что чувствую, до конца. Вы не сочтете это бредом. Вы человек верующий. Но не хочу казаться в ваших глазах лучше, чем есть. Я не знаю, что у меня с Богом. Я еще не очень в этом разобрался. В конце концов, мне только двадцать два года летом исполняется, ведь есть еще время для таких сложных вопросов, не правда ли? Мама веровала, очень… А я, я покуда не знаю себя. Но одно я для себя уже понял. Я свою святыню нашел. Вся наша цивилизация, христианская, земледельческая, она на хлебе стоит. Хлеб – залог созидания, залог жизни. Не зря же хлеб – Тело Христово. Идея воплощается в самом святом, что есть на земле. Я хочу заниматься пшеницей. Это моя святыня. Пшеница. Я в самом деле счастлив. Я уже сопричтен к делу, прежде неслыханному. Подумать только, Николай Александрович! Ведь дух захватывает. Впервые за все времена брезжит возможность навсегда отвратить от человечества страшную язву голода! Ради этого пополняется коллекция Вавилова, ради этого все его исследования! И если все сбудется, из рук русского ученого человечество примет свой хлеб… Разве это не прекрасно? Ну вот, развел же я пафосу. Больше никогда в жизни ничего подобного не скажу. А сейчас съем эклер. Вот этот, шоколадный.
Энгельгардт с трудом подавлял волнение. Но как же легко дышится с молодыми, которых заботы житейские не пригнули еще к земле!
– Я сейчас ворочусь.
Через несколько минут, которых Задонскому достало, чтобы убрать не только эклер, но и парочку бушеток, Энгельгардт воротился.
– Родители ваши не дожили до сегодняшнего дня, Юрий Сергеевич, – со странной торжественностью проговорил он, разворачивая из льняной салфетки какой-то предмет, похожий на книгу. – Позвольте мне вас за них благословить? Уважьте старый обычай.
Предмет оказался не книгой. Потускневшее изображение являло Богородицу не на облаке, но на парящих в голубом небе золотых хлебных снопах.
– Я… да… конечно… я рад. – Молодой человек немного растерянно промедлил, потом, догадавшись, опустился на колено – отчего-то по-католически, на одно.
– Благословляю вас образом Божией Матери, Спорительницы Хлебов. – Энгельгардт широко перекрестил иконой вихрастую мальчишескую голову. – Молим тя, Пречистая Дево, покажи силу Твою на жатве нив и полей наших, и всяк злак да изобилует на утешение нас, поющих Богу: Алилуйя!
Растроганный и смущенный, Задонский принялся с преувеличенной тщательностью отряхивать брюки.
– Возьмите. – Энгельгардт протянул икону. – Да хранит вас этот образ в ваших благородных грядущих трудах.
«И вашего Вавилова тоже», – подумал он, но вслух не добавил.
Глава V. Обманщица Шамбала
Как же все превосходно начиналось…
Глеб Бокий в сердцах ткнул окурок в китайскую коробочку, круглую, лаковую, разрисованную золотыми рыбками. Лак зашипел: коробочка не была пепельницей. Но к этому странному выводу Бокий пришел еще в молодые годы, порча красивых вещей может доставлять не меньшее эстетическое удовольствие, чем их бережение. Как знать, а славы ли хотел Герострат? Возможно, это было лишь желание поглядеть, как огонь, будто живой цветок, сладострастно обнимет шедевр своими рыже-красными лепестками?
Еще тогда он научился таить удовольствие, оговариваясь небрежностью. Сейчас бы уж кто посмел считать странность странностью, но привычка осталась.
Поморщившись от едкого запаха, Бокий прошелся по кабинету. Кабинет был небольшим, метров двадцать, но удачно выложен краснодеревщиками по собственному эскизу владельца. Тут книжные полки до потолка, там застекленные черными стеклами шкафы с особенными коллекциями. Шкафы, конечно, запирались на особые замки, и понятное дело – вытирать пыль прислуге не разрешалось.
Напротив шкафов, на открытой стене, висело несколько фотографий и портрет, на которых, в одиночку либо в компании, присутствовал один и тот же человек – довольно недурной собой, высоколобый, с ухоженной бородкой. На портрете, окруженном фотографиями словно еще одной рамой, бородка была уже белой и аккуратно раздвоенной. Черты же лица неожиданно изменились – уплощились, странным образом обретя монголоидность. Впрочем, может статься, так просто казалось из-за странного азиатского одеяния, тяжелого и разукрашенного. Или из-за нарочито бесстрастной мины изображенного.
Бокий поморщился второй раз. На портрет.
Как же хорошо все начиналось… Всего четыре года минуло. Хлопали двери в огромной квартире Луначарского, в Денежном переулке, в окнах уютно шумел Арбат. Молоденькая Натуся Сац-Розенель, красотка, звезда советского синема и новая жена наркомпроса, задорно топоча каблучками, успевала улыбаться гостям, метаться между столовой и кухней, где готовился особенный ужин. За обслугой надлежало приглядывать в оба глаза, ну как сдуру и непривычки отойдут от предписаний.
Несколько раз, выскакивая из кухни, Натуся «забывала» снять очаровательный красный фартучек, провоцируя на комплименты Геню Ягоду и Трилиссера, лениво игравших в шахматы в двусветной гостиной. Уникальные шахматы, шедевр пролетарского нового стиля. Керамические, ручной росписи, под названием «Красные и белые». Фигурки короля и ферзя у красных обозначали Сталевар и Колхозница, белыми же пешками служили окованные в цепи пролетарии. Музейная вещь. Вот только разбить их отчего-то не тянуло. Даже странно.
Анатоль поглядывал на часы, немного нервно, не обращая внимания на игривое настроение супруги. Каменев курил папиросу за папиросой, горничная еле успевала менять пепельницы. Курила, стоя в оконной нише, и его жена Софья: сухощавая, с модно утянутым бюстом, в блузе фасона «серп и молот»: вырез горловины обхватывала внутренняя сторона красного серпа, словно прихватывая шею, голую благодаря короткой стрижке.
В воздухе висело ожидание.
А Натуся одна оставалась преспокойна, невзирая на собственную суету. В темных глазах ее резвились такие очаровательные бесенята, что Глебу Ивановичу хотелось подставить к ее лицу раскрытую ладонь – чтоб выпрыгнули на нее да пустились в пляс. Вне сомнения, держала в голове какой-то фокус. Да, не зряшно старый пень подставил голову под партийный выговор за развод.
Наконец в очередной раз ядовито прогремел электрический звонок, на сей раз показавшийся особенно громким.
В легком замешательстве Анатоль замер в позе пагата, не зная, метнуться ли в переднюю вслед за обслугой. Но двери уже распахнулись: быстрым торжествующим шагом первым вошел напоминающий цаплю Блюмкин, в черной коже, отчего-то в крагах. За ним вошли двое, но внимание прежде всего обращала на себя женщина. Высокая, отяжелевшая и широколицая, на вид старше своих без того пятидесяти лет. Вечернее платье, явившееся из растопыренного в руках Дуни палантина, было не по возрасту смелым: открытая туника цвета амианта, с двумя крупно вышитыми цветками мака у левого плеча. В походке ее спутника прежде всего обращала на себя внимание скованность, характерная для человека, отвыкшего от европейской стеснительной одежды.
Они.
Посланники махатм к трудовому народу новой республики.
Первые минуты вышли неловки. Высокие гости, только что прибывшие из «Метрополя», казались в общении тяжелы. Присутствие женщины давило как предгрозовая погода, мужчина же безразлично ускользал, рассеивая взгляд.
Наконец, после проволочки представлений и любезностей, прошествовали в столовую.
Стол, блиставший серебром, хрусталем и белоснежным льном, радовал багровыми орхидеями перед каждым прибором. Тепло пахло свечным воском.
Натуся облачилась вновь в фартучек, заявив спустя положенное время, что сама внесет горячее.
В следующее мгновение у Анатоля отвисла челюсть. Блюмкин испуганно глотнул воздух, закашлялся, подавившись. Какой афронт!
В руках Натуси красовалось увесистое блюдо, а на нем, среди свежей петрушки, возлежал румяный молочный поросенок. С лимонными ломтиками вдоль спинки, с бумажными розочками.
Словно не замечая шквала безмолвных ругательств, волнами исходящих от мужа, Натуся принялась бодро разделывать угощение ножом.
Тут случилась другая неожиданность. Елена Ивановна улыбнулась, блеснув голубоватыми зубами превосходной работы. И – первой слегка подняла и протянула свою тарелку. Через мгновение обе женщины расхохотались – одни, среди эпатированного застолья.
«Поросенок» оказался пирогом, начиненным смесью шпината, острых перцев, баклажанов и моркови.
После этого общение пошло легко, как по тому самому сливочному маслу, что также отсутствовало на накрытом ввиду строгих вегетарианцев столе.
Глядя через этот стол, сквозь хрустальные отблески и дрожанье воздуха вокруг свечных огоньков на Елену Ивановну, на то, как она смеется, ест, подносит ко рту бокал, Глеб Иванович все яснее ощущал: ведущий в этой паре не этот, не мужчина. Он – ведомый. Ведущая тут – она, женщина. Нашла бы другого художника, не пригодись этот. Ведущая, ведающая, ведьма. Страшна как грех и так же стара, а за нижнюю чакру цепляет. Не случайно и с Натусей, молоденькой чертовкой, почти сразу нашелся у ней общий язык. Кстати, хорошо б, наконец, к Натусе клинья подбить, не одному ж старому дурню ею пользоваться. В дачную коммуну не затянешь, знает себе цену, надо потоньше. Но стоит того.
За десертом, когда белая скатерть сменилась полосатой и явились медовые печенья с фруктами, были явлены уже читаные бумаги, тем не менее важные для чтения совместного, скрепляющего.
Тревожащее, непередаваемое чувство причастности к решению судеб мира, в самом деле объединяло собравшихся. Сладко, страшно: мять Вселенную как кусок глины, определяя формы. Не этого ли вожделел Учитель, восставший, светоносный, не пошедший дорогой предначертания?!
«На Гималаях мы знаем совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы раздавили пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлющей материи. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали на значение познания. Вы склонились перед красотой. Вы принесли детям всю мощь космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения домов общего блага.
Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным, так же как мы признали своевременность вашего движения и посылаем вам всю нашу мощь, утверждая единение Азии! Знаем, многие построения свершатся в годах 28–31—36. Привет вам, ищущим Общего Блага!»
Послание, переведенное с тибетского, было подписано двумя махатмами: Гулабом лал Сингхом и – неназывамымого имени – М.Д.
Что значило это мыслете? Не самого ли Морию, главу Вознесенных Владык? Плотского, но бессмертного, судя по датам.
Головы в тот вечер кружило не вино, хотя выпито было немало. Запрет масонства был необходим, дабы не делиться властью с ушлыми иностранными ложами. Но структурное построение досталось по наследству. Нижние члены немногим отстоят от профанов, их огромное большинство. Для них мы даем материализм. Посвященные желают совсем иного. Как же бредилось этим другим в те дни, в дни приезда посвященной четы в Москву! О визите молчали газеты, но так и положено, так и надо.
Джугашвили простоват: он ждал от высоких гостей того же, чего мог бы ждать и профан: связи с буддийскими революционерами. Но тогда Джугашвили еще чаще называли Кобой, чем Сталиным. Тогда на его хотения можно было смотреть с пренебрежением.
Кто бы мог знать, что трапезничавшие в тот день за роскошным столом Луначарских, Ягода, Трилиссер и Менжинский, соберутся минувшей осенью судить сотрапезника – Яшу Блюмкина?
Революционная тройка… А ниточки – в грязнопалых руках Кобы, руках, всегда оставлявших на страницах чужих книг жирные следы, к неудовольствию владельцев? Меер хоть поартачился, а Геня с Менжинским подмахнули «вышку» почти не глядя на Блюмкина. Да и на что было глядеть? На провалившийся над выбитыми зубами рот?
Не Яков – карикатура на Якова. Что жалеть карикатуру? Зачем встречаться взглядом, заглядывать в плещущуюся в расширившихся зрачках смертельную бездну? Бездна-то эта как черный водоворот, может и затянуть.
Бокий, понятное дело, сам Блюмкина арестованным не видел. Он же не входил в «тройку», в отличие от Трилиссера, Менжинского и Ягоды. Но уж Глеб Иванович повидал стольких, что вообразить всё мог как в явь. Унизительное страдание делает всех одинаковыми. А как унизить страданием – в этом вся дружеская компания слыла виртуозами, первым из которых почитался нынешний неудачник Яша.
Среди обалдевших Яшиных подчиненных осторожно ходили слухи, будто «на бойне» тот вел себя геройски, выкрикивал под дулом величанье Троцкому. Глеб Иванович в этом, по правде сказать, сомневался. Нет большой охоты красоваться, когда видишь кафельный сток и шланг – и понимаешь, как из тебя потечёт и как наведут порядок. После нескольких десятков ночей, когда каждый раз гадаешь, не за тобой ли топочет сапогами смерть, когда умираешь множество раз вместо одного, к стене бредешь как сомнамбула – жизнь еле мреет в оскверненном теле.
А зачем поставил на Троцкого, дурак? Ясно же, что без Ленина Троцкому было не продержаться долго. Ничего, если умно отстраняться теперь от всего, что связано с Троцким, беда невелика.
Хотя мысли лезут в голову неприятные. Особенно с похмелья.
Рерихи теперь не в чести, их счастье, что унесли ноги. Можно бы их отвязать от Яши, вытянуть, да только зачем? Что дала эта бессмысленная экспедиция, это шатанье по сухоземью и пескам, что так раздражало всех командированных сотрудников, эти ночлеги в покрытых на палец жирной грязью «святых» буддийских клоаках… Города еще хуже пустынь, хорошо, сам не соблазнился поехать.
Заткнуть Кобу нечем – никаких активных масс буддийских пролетариев, никакого революционного перманента в Азию.
Но Глеб Иванович бы сочинил, чем заткнуть Кобу. Но ведь нет главного, ради чего стоит стараться. Вслед за Рерихами, того гляди, придавят финансирование всей любимицы, красавицы – Лаборатории. С Кобы станется и самое страшное – снять прикрепление Лаборатории к лагерям, проще сказать, лишить ее базы для опытов, человеческого материала.
Нет результата. Рерихи взорвались китайским, будь этот ориентализм неладен, фейерверком – и оставили клопяной запах использованных пистонов.
Обеим направлениям работы Лаборатории все эти контакты с махатмами не дали ровнешенько ничего. А направления – архиважные, как сказал бы нынешний терафим при жизни. Когда еще говорил, а не тряс головой и не мычал.
Первое еще более-менее интересовало Кобу: долголетие с перспективой бессмертия. Проект «Неорганика».
Второго – власти над сознанием, проект «Трильби», узкое мышление Кобы не вмещало. Он же рожден профаном, как его занесло так высоко? Опора на страх, как главный инструмент власти, ничтожество! Не понять, что страх – палка о двух концах, чем больше его внушаешь, тем больше страшишься сам! Подозревает всех и каждого, а до сих пор не понял! Рожденный ползать, да…
Надежна лишь власть, управляющая разумом. Это и любой теолог разъяснит: ликвидация свободы воли.
Где же папиросы? На столе только смятая картонка из-под «Зефира». Вроде бы глаз зацепил в передней, на подзеркальнике.
Глеб Иванович вышел из кабинета.
– Отдай, дура!
– А ты – рваная авоська!
Чертеняки опять скандалят – весело, с пылом. Где это они? На кухню пробрались, любимое их место – у котлов. Чертеняки, чертеняки. Дерзкие, свободные, всегда настоят на своем, во всяком случае, на том, что им кажется по наивности своим.
Глеб Иванович усмехнулся. После развода с Софьей минуло уж одиннадцать лет. Оксане было около трех, Алёне – годик. До школы он только наезжал баловать, возня с малолетними вышла бы обременительной. Но уж подросли, так забрал. Софья даже особо не артачилась, боялась, но перечить не смела. Вообще детородство ей не просто попортило фигуру, оно бы ладно. Но полезли ворохом – у кого, у дочери Доллера и Шехтер, несгибаемых народовольцев – какие-то бабьи кислые обыкновения. Засемейнела, потянулась к бытовой рутине. Куда что делось? Алену вовсе проглядела – позволила няньке сносить покрестить. То-то она всегда и пасует перед Оксаной, всегда на вторых ролях. Оксанка, та некрещенная, сразу и видать. Шустрее любимица, ох, шустрее.
– Что у вас такое «авоська»? – снисходительно поинтересовался он, заходя на кухню.
Так и есть. Оксанка, с длинной вилкой в руках, взобравшись на табурет, зависла над кипящей кастрюлей. Алена вилась рядом с плитой. Таскают еду. До еды обе жадные, будто из голодного края. Даже странно, дом ломится же, чего еще? Ну и ладно, здоровей будут. Не барышни. Дерутся из-за каждого куска – тоже хорошо, нормальное соревнование, со зверинкой.
– Ты не знаешь? Фроська нам рассказала. – Оксана подцепила на вилку истекавший жгучим соусом кусок гуляша. – Это сетка, ну для базара, плетеная. Население так уж давно говорит. Взял сетку – на авось. Вдруг случайно что-нибудь будут продавать.
– Не знал. Хорошее словцо. Вижу, опять у Фроськи из-под рук воруете?
– Воровства не бывает, – отчеканила старшая. – Кто хочет, тот может. Желание это право. Так?
– Для вас – так. Для населения еще пока есть тюрьмы.
– А Фроська говорит, что раньше не могло быть слова «авоська», – влезла младшая. – Что раньше каждый знал, чего и где он купит. Раньше это при царе.
– Вот же дура. – Глеб Иванович окинул дочерей одобрительным взглядом. Ещё голенастые и тощие, но их одинаковые, красные в белый горох летние платья уже тесны в груди. Пошиты прошлым летом, слегка с запасом, а вот же, до конца этого не доживут. Яркий цвет идет к темным густым волосам, коротко подстриженным, само собой. Волос жаль, но так надо. Одинаковы не только платья, сами чертеняки тоже на одно лицо. Темноглазые, горбоносые, с яркими большими ртами. Но красивы, уже сейчас. – Но коль скоро ты наябедничала, ответь: почему я Фроську не велю арестовать? За такие речи, что при царе лучше жилось, по глупой голове ее не погладят у нас. Но все-таки ничего я ей не сделаю. Почему?
– Почему? – Алена в задумчивости закачалась с носка на пятку – совсем еще по-детски. – Пожалеешь?
Было видно, что она не столько полагает за отцом чрезмерной доброты, сколько пытается отгадать, какой ответ удачнее. Как решает школьный пример.
– Папа пожалеет? Фроську? Тьфу, ты сама не умнее! – Оксана, испачкав щеки, откусила от наконец извлеченного из соуса куска.
– А причина наших действий, или нашего бездействия, редко бывает одна. – Чертеняки забавляли, отвлекали от неприятных раздумий. Глеб Иванович удобно уселся на старый венский стул, перекочевавший на кухню из комнат. – Первое – другая, пусть не Фроська, а Манька или Танька, думает точно так же. И тоже рано или поздно проговорится. А так много Фросек нам в тюрьмах не надобно. Кто-то должен и еду готовить. Ты же не захочешь у плиты сама стоять? И ты не захочешь. То-то и оно. Второе – надлежит время и силы всегда рационально расходовать, не устраивать себе лишних хлопот на пустом месте. Новую дурищу обучать, где что лежит, что когда делать, без необходимости в этом смысла нет. Но есть причина и поважнее этих двух, чтобы ее пощадить. Это вам еще не дойти своим умом, так что запоминайте. Теперь она допустила промашку и стала ценнее, чем была. Мы всегда можем связать благодарностью того, чью вину знаем. А окружать себя надо только теми, кем можешь управлять. Власть над людьми – штука опасная. Кто не понял, тот в могиле.
Неприятная мысль опять царапнула. Забавляться дочерьми расхотелось. Бокий резко поднялся и вышел наконец за папиросами, в самом деле лежавшими в передней.
Вслед прозвучали крики: Алена, наконец, исхитрилась выхватить вилку у сестры.
Глеб Иванович в последнее время приметил за собой, что курит, пожалуй, многовато. Плохой признак, попытка утаить неврастению. Когда в руках папироса, жестикуляция не так заметна. Самозащита.
Ну и успокаивает, нельзя же все время пить и нюхать. Покуда нет результатов от проекта «Неорганика», во всяком случае. Пятнадцать направлений опытов – и пусто. Ни один объект не помолодел. А трое так и вовсе сдохли.
Проект «Трильби» имеет смысл, пожалуй, якобы прикрыть как нерезультативный. Спрятать от Кобы прежде всего. Коба ведь, если не страшиться заглянуть правде в глаза, и сам может понадобиться на роль объекта. Поэтому даже лучше, что он утратил к «Трильби» интерес. Упрятать концы в воду вполне возможно. Но – что толку? Хоть в самом деле прикрывай.
Но уж нет, он будет барахтаться до конца, сбивая молоко в маслице. Яшка, сгинув, положил начало новому направлению. И даже наметил кое-что к разработке.
Кое-кого, если сказать точнее.
Очень сокрушался, впрочем, что сам же не позаботился сохранить в живых самого важного «контактёра». Но тогда все только начинали грезить Шамбалой, и сами вожделения были еще далеко от настоящего угара, куда как далеко. Да и война, хоть чаша весов и качнулась в революционную пользу, еще не была завершена. Не до того было, что да, то да.
Бокий, швырнув в лаковую шкатулочку давно погасшую папиросу, сел за стол, потянулся к ряду папок, выстроившихся по левую руку. Нужная отыскалась сразу. Корешок бросался в глаза: чёрный.
«Чёрная папка» – так Глеб Иванович ее и привык уже называть. Ещё совсем тонкая. Ничего, черти наворожат, потолстеет.
Открыв папку, Бокий погрузился в чтение.
…Невысокая девушка в юбке из чертовой кожи, сидевшая на подоконнике в парадном с банкой сметаны в руках, между тем задалась вопросом, безопасно ли уже войти в квартиру.
Хозяева не должны догадаться, что она слышала разговор. Обыкновенно неловкая, она умудрилась выскользнуть из передней обратно на лестницу совершенно бесшумно.
Теперь надо будет нарочно войти шумно. Пусть Иваныч обзывает «деревенской коровой», высунувшись из кабинета, тем лучше.
Ефросинья нервически теребила накинутый на плечи синенький платок – единственную нарядную свою недавнюю обновку. Что-то странное происходило с ней. Всепоглощающий страх, в котором она привыкла жить в этом доме настолько, что уже почти не ощущала его, теперь отступал, освобождая место совсем иному чувству.
Страх, влажный и холодный, как невидимая паутина, прилип намертво, ещё когда раскрестьянивали семью Вёшкиных. Фросе странным образом посчастливилось. За неделю до того, как в их избу нагрянул комбед, ее, осыпанную алыми веснушками кори, перевезли, хорошенько закутав в тулуп, на другой конец деревни, к кумам – Анюте и Тихону Карповым. У Карповых все ребятишки отболели в предыдущий год, только меньший и помер. А у Вёшкиных Фрося слегла первая. Очень хотелось матери, чтоб дальше не перекинулось, вспомнили, что можно к кумовьям. Куда ж еще? Земская больничка разорена с тех пор, как матросы убили старого Ивана Сидорыча, пытаясь разжиться спиртом. Спирта не нашлось, вот и освирепели. Фрося еще мала была тогда. Брат Савелий да сиделка Алевтина сами от греха там больше не появились. А комбед реквизировал кровати, полдюжины, ну и еще что сыскали. Мать так рассказывала. Вот больничка и ветшала потихоньку, нетопленная. Больничка хорошая была, даже вода текла прямо из стен, из медных краников, как на самоваре. Туда бы лучше Фросю. Ну да что уж, спасибо, сообразили, что можно к кумам. Так приговаривала торопливо мать, когда Фрося видела ее в последний раз, торопясь, сунув Анне узел с чистым Фросиным бельишком и мешочком морковного чаю.