Маленькая всемирная история
Abonelik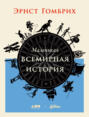


Sesli kitaba gidin
- Hacim: 460 sayfa. 216 illüstrasyonlar
- Tür: Dünya Tarihi, çocuk eğitimi ve gelişimi literatürü, yabancı eğitim literatürü, yabancı çocuk kitapları, tarihiyle ünlü
Глава 10
Просветленный и его страна
А теперь мы отправимся на другой край земли. Сначала в Индию, а потом в Китай. Мы хотим посмотреть, что происходило на Востоке примерно в то же время, когда шли Греко-персидские войны.
В Индии тоже существовала древняя культура, как в Месопотамии. Примерно тогда же, когда шумеры процветали в могучем городе Уре, около 2500 года до Рождества Христова, в долине Инда (это большая река в Пакистане) стоял огромный город с водопроводом и каналами, храмами, домами и торговыми лавками. Он назывался Мохенджо-Даро, и, пока его не открыли в 1920 году, никто даже не подозревал, что в Индии могло существовать нечто подобное. Его раскапывали несколько лет и нашли такие же удивительные вещи, как в глиняных холмах, под которыми был скрыт Ур.
Мы еще не знаем, кто были те люди, что жили в этом городе. Понятно только, что позже сюда пришли те, чьи потомки сегодня живут в Индии и Пакистане. Они говорили на языке, напоминавшем и языки персов и греков, и языки римлян и германцев. «Отец» на древнеиндийском языке будет pitar, на греческом – patèr, на латинском – páter.
Поскольку индийцы и германцы особенно отдалены друг от друга из всех народов, говорящих на схожих языках, все эти языки называют индогерманскими или индоевропейскими. Но мы не знаем точно, похожи ли у них только языки, или же эти народы являются дальними родственниками. Во всяком случае, те индийцы, которые говорили на индоевропейском языке, вторглись в Индию так же, как дорийцы в Грецию. Они так же подчинили себе местное население. Со временем потомки этих завоевателей покорили бóльшую часть континента. Они долго жили отдельно от местного населения. И это разделение отразилось в том строе, который существует до сих пор, – в системе каст. В этой системе предполагается строгое разделение людей на основе их занятий. Часть жителей Индии были воинами, и они должны были всегда оставаться воинами. Их дети могли быть только воинами. Это была каста воинов. Были еще и другие касты, такие же строго замкнутые группы. Например, касты торговцев и крестьян. Тот, кто принадлежал к какой-то касте, никогда не мог из нее выйти. Крестьянин не мог стать ремесленником, а ремесленник крестьянином, и его сын тоже. Он не мог жениться на девушке из другой касты, не мог есть за одним столом с человеком из другой касты и ехать с ним в одной повозке. В некоторых уголках Индии эти правила соблюдаются до сих пор.
Высшей кастой считались жрецы, брахманы. Они стояли выше воинов, совершали жертвоприношения, служили в храмах и (так же как в Египте) были учеными. Они учили наизусть священные молитвы и гимны и хранили их неизменными на протяжении тысячи лет, пока эти тексты не записали. Четыре главные касты делились на множество групп, которые тоже были отделены друг от друга.
А еще существовала небольшая группа людей, не принадлежавшая ни к одной касте. Они назывались париями. Им разрешали выполнять только самую грязную и неприятную работу. Ни один член другой касты не мог с ними общаться. Считалось, что даже их прикосновение оскверняет. Поэтому их и называли неприкасаемыми. Они должны были следить, чтобы даже их тень не упала на другого человека. Вот какими жестокими бывают люди.
Но все же мы не можем сказать, что все жители Индии были жестокими. Их жрецы были очень серьезными, мудрыми людьми, они часто уходили в глухие леса, чтобы там в полном спокойствии подумать над сложными вопросами. Они размышляли о своих многочисленных страшных богах и о верховном боге, благородном Брахме. Они верили, что вся природа, боги и люди, животные и растения получают жизнь благодаря дыханию этого высшего существа, которое одинаково проявляет себя во всем: в свете Солнца и во всходах на полях, в развитии и в смерти. Бог присутствует в мире везде, словно крупинка соли, брошенная в воду, – она в ней растворяется, и каждая капля становится соленой. Все разнообразие, которое мы видим в природе, все повторения и изменения – все это таково лишь на первый взгляд. Одна и та же душа может жить сначала в теле человека, а после его смерти стать душой тигра или кобры, и, только достигнув просветления, она соединится с божественной сущностью. Одно лишь остается неизменным и присутствует во всем: дуновение дыхания высшего бога Брахмы. Чтобы ученики правильно это понимали, индийские мудрецы придумали красивую фразу для обдумывания. Они просто говорили: «Ты есть то», и это значило, что все, что ты видишь: животные, растения и твои родные, – это одно: дуновение божьего дыхания.
Чтобы по-настоящему почувствовать это великое единство, индийские мудрецы придумали удивительный способ. Они садились где-нибудь в густом лесу и думали только о единстве; тянулись часы, дни, недели, месяцы, года. Они всегда сидели на земле прямо и спокойно, скрестив ноги и опустив взгляд. Они дышали как можно реже и как можно меньше ели. А еще некоторые разными способами мучили себя, умерщвляли свою плоть, чтобы почувствовать в себе дыхание бога.
Три тысячи лет назад таких святых людей, аскетов и отшельников в Индии было очень много, много их и сейчас. Но один сильно отличался от остальных. Это был царский сын Гаутама, который жил примерно за 500 лет до Рождества Христова.
Рассказывают, что Гаутама, которого позже назовут Просветленным, Буддой, вырос, окруженный всей роскошью и богатством Востока. У него было три дворца: один летний, другой зимний, а третий для сезона дождей, там всегда звучала прекраснейшая музыка, и Гаутама никогда не покидал их. Его отец пытался оградить сына от всех горестей и поэтому не хотел, чтобы сын выходил из дворца. Рядом с Гаутамой никогда не было несчастных людей. И все же однажды принц выехал из дворца и увидел старого сгорбленного человека. Он спросил сопровождавшего его возницу, кто это. И тот ему объяснил. После этого Гаутама в задумчивости вернулся во дворец. В другой раз он увидел больного человека. О болезнях ему тоже никогда никто не рассказывал. Он задумался еще больше и вернулся к своей жене и маленькому сыну. В третий раз он увидел мертвого человека. И тогда он не захотел больше возвращаться во дворец, а, увидев отшельника, решил тоже уйти в глухой лес, чтобы размышлять о страданиях всего мира, которые предстали перед ним в виде старости, болезни и смерти.
«И тогда, – рассказывал он в одной из своих проповедей, – я, еще молодой человек с сиявшим лицом, темными волосами, в расцвете своей счастливой молодости и мужской силы, против воли плакавших и стенавших родителей побрил волосы и бороду, облачился в блеклую одежду и ушел из дома в никуда».
Шесть лет он прожил как отшельник и аскет. Он размышлял серьезнее, чем все остальные. Он терзал свое тело сильнее, чем кто-либо до него. Он вообще почти не дышал, сидя в неудобных позах, и испытывал ужасную боль. Он ел так мало, что совсем ослабел. Но за все эти годы он так и не обрел внутреннего покоя. Он все время думал только о том, как устроен мир и правда ли, что в его основе всегда одно и то же. Он думал о несчастьях всего мира. Обо всех страданиях и горестях людей. О старости, болезни и смерти. И никакое умерщвление плоти ему не помогало.
И тогда он снова начал есть, чтобы набраться сил, и стал дышать, как все люди. За это другие отшельники, которые раньше им восхищались, стали его презирать. Но он не обратил на это внимания. И однажды ночью, сидя на красивой лесной поляне под смоковницей, он все понял. Он вдруг понял, чего искал все эти годы. Внезапно он почувствовал, как изнутри его озарил свет. Поэтому он и стал Просветленным, Буддой. И он отправился рассказывать всем людям о своем великом внутреннем открытии. Вскоре он нашел единомышленников, которые поверили, что он нашел способ избавить всех людей от страданий. Эти люди стали учениками Будды и создали то, что мы сегодня называем монашескими орденами. Во многих азиатских странах такие ордены есть и сегодня. Последователей Будды ты всегда узнаешь по желтой одежде и скромной жизни.

Будда[52]
Теперь ты, наверное, очень хочешь узнать, что же понял Гаутама, сидя под деревом Бодхи, или деревом Просветления, когда он разрешил все свои сомнения. Я попробую тебе немного об этом рассказать, чтобы ты смог сам все обдумать. В конце концов, сам Гаутама размышлял об этом шесть лет. Великое просветление, или великое освобождение людей от страдания, заключалось в следующей мысли: если мы хотим освободиться от страдания, то должны начать с себя. Все страдания порождаются желаниями. Так что вот. Когда ты грустишь, потому что у тебя нет хорошей книги или игрушки, которую тебе хочется иметь, можешь поступить двумя разными способами: попытаться все-таки ее получить или же расхотеть ее. Если тебе удастся одно или второе, ты больше не будешь грустным. Так учил Будда: если мы перестанем хотеть все прекрасные и приятные вещи, которых у нас нет, когда мы перестанем испытывать желание добиться счастья, благополучия, здоровья, признания, ласки, то мы уже не будем так часто грустить. Нужно просто научиться уменьшать эту жажду, тогда уменьшится и наше страдание.

Дерево просветления[53]
«Но человек не может справиться со своими желаниями», – скажешь ты. Будда считал иначе. Он учил, что человек должен много лет учиться не желать ничего из того, что люди обычно хотят получить. Тогда он станет господином своих желаний, как погонщик слонов является господином своего слона. И это самое лучшее, чего человек может достичь на земле: больше ничего не желать. Это «внутреннее спокойствие», о котором он говорил, – высшее, спокойное блаженство человека, который не хочет ничего из того, что есть на земле. Он одинаково хорошо относится ко всем людям и ни от кого ничего не требует. Тот, кто стал господином своих желаний, – так учил Будда – больше уже никогда не вернется в этот мир после смерти. Ведь в Индии верили, что души рождаются заново, только если они привязаны к жизни. Тот, кто не привязан к жизни, после смерти больше не будет зависеть от «колеса перерождений». Он уйдет в Ничто. Ничто, в котором нет ни желаний, ни страданий, буддисты называют нирваной.
Вот чем стало просветление Будды под смоковницей – учением о том, как освободиться от своих желаний, не исполняя их, как можно утолить свою жажду, не удовлетворив ее. Путь, который ведет к этому, не прост, как ты можешь подумать. Будда называл его «срединным путем», потому что он проходит между бессмысленным умерщвлением плоти и бездумным наслаждением жизнью и приводит к настоящему освобождению. А поможет на этом пути вот что: правильные воззрения, правильные размышления, правильные слова, правильные дела, правильная жизнь, правильное внимание, правильное сознание, правильное сосредоточение.
Это самое важное из того, чему учил Гаутама, и его проповедь произвела такое сильное впечатление на людей, что многие пошли за ним и поклонялись ему как богу. Сегодня в мире почти столько же буддистов, сколько христиан. Их особенно много в Индокитае, на Цейлоне (который теперь называется Шри-Ланка), на Тибете, в Китае и Японии. Но лишь немногие способны жить так же, как жил Будда, и достичь внутреннего спокойствия.
Глава 11
Великий учитель великого народа
Когда я учился в школе, нам казалось, что Китай находится, так сказать, «на краю света». Мы знали о Китае лишь по рисункам на чайных чашках или вазах и представляли себе, что там суровые старички с длинными косами гуляют по прекрасным садам и изогнутым мостам, мимо башенок, на которых громко звенят колокольчики.
Конечно же, такой сказочной страны на самом деле никогда не существовало, хотя китайцам действительно целых 300 лет, вплоть до 1912 года, приходилось ходить с косами и в наших краях о Китае впервые узнали благодаря изысканным вещицам из фарфора и слоновой кости, которые создавали умелые китайские мастера. Китаем больше тысячи лет управляли императоры, жившие во дворце в столице, – это были те самые знаменитые «китайские императоры», называвшие себя «Сыновьями Неба», так же как египетский фараон называл себя «Сыном Солнца». В то время, о котором я хочу рассказать, 2500 лет назад, всего этого еще не существовало, но Китай уже тогда был невероятно древним и большим государством, таким древним и таким большим, что даже успел распасться на несколько частей. Там тогда жило много миллионов трудолюбивых крестьян, выращивавших рис и злаки, были в Китае и большие города, где люди величаво расхаживали в пестрых шелковых одеждах.
Над всеми этими людьми стоял царь, но были там еще и князья, которым он поручал управлять отдельными провинциями своей огромной страны, а она была больше Египта, даже больше Ассирии и Вавилонии, вместе взятых. Князья были настолько могущественными, что царь ничего не мог им приказать, хоть и был царем всего Китая. Они постоянно сражались между собой, и те, кто посильнее, присоединяли к себе земли тех, кто слабее. В 221 году до нашей эры в Китае остался только один правитель – Цинь Шихуанди, первый император всего Китая. Он-то и назвал себя «Сыном Неба». Его империя была такой огромной, что китайцы, жившие в разных частях страны, говорили на разных языках, и она распалась бы на части, если бы их ничего не объединяло. Но у них была общая письменность.
Ты скажешь: «Что может дать общая письменность, если языки различаются, ведь это значит, что никто не поймет, что написал другой?» Но с китайской письменностью все обстояло по-другому. Ее можно читать, даже если ты не понимаешь ни одного слова. Что же это, волшебство? Вовсе нет, ничего сложного. В ней пишут не словами, а предметами. Если ты хочешь написать «солнце», то просто рисуешь  Ты можешь произносить его как «солнце», или как soleil, или на мандаринском китайском dscho, но все равно всем будет понятно, что изображает этот значок. Потом ты захочешь написать слово «дерево». Тогда ты просто несколькими черточками нарисуешь дерево, вот так:
Ты можешь произносить его как «солнце», или как soleil, или на мандаринском китайском dscho, но все равно всем будет понятно, что изображает этот значок. Потом ты захочешь написать слово «дерево». Тогда ты просто несколькими черточками нарисуешь дерево, вот так:  На мандаринском наречии это произносится как mu, но ты можешь этого не знать – и все равно поймешь, что это дерево.
На мандаринском наречии это произносится как mu, но ты можешь этого не знать – и все равно поймешь, что это дерево.
«Ну, хорошо, – скажешь ты, – с предметами это легко представить, их просто нарисовать. А что же делать, если я хочу написать слово "белый", – провести белую полосу? А если я хочу написать слово "восток"? Его ведь не нарисуешь». Видишь ли, дальше все очень логично. Чтобы написать «белый», надо просто изобразить что-то белое. Например, солнечный луч. Одна черта, исходящая от солнца,  Она произносится как bei, weiss, blanc, «белый» и так далее. А «восток»? Восток находится там, где солнце встает над деревьями. Поэтому я нарисую солнце над деревом
Она произносится как bei, weiss, blanc, «белый» и так далее. А «восток»? Восток находится там, где солнце встает над деревьями. Поэтому я нарисую солнце над деревом 

Конфуций[54]
Очень удобно, не правда ли? Ну да. Но у всего есть оборотная сторона! Подумай только, как много слов и предметов есть на свете! И для каждого предмета нужно выучить изображающий его значок. Таких значков 40 тысяч, и многие из них сложные и запутанные. Так что стоит быть благодарными финикийцам за наши 33 буквы, не правда ли? Но китайцы пользуются своей письменностью уже много тысяч лет, и большинство народов Азии умеют читать эти знаки, даже если не знают ни одного слова по-китайски. Поэтому мысли и учения великих людей, живших в Китае, быстро распространялись и оказывали влияние на людей.
В то самое время, когда в Индии Будда хотел освободить людей от страдания (ты ведь помнишь, это происходило за 500 лет до нашей эры), в Китае тоже жил великий человек, пытавшийся с помощью своего учения сделать людей счастливыми. Однако он учил совсем не так, как Будда. Этот человек не был царским сыном, он происходил из простой семьи. И он был не отшельником, а чиновником и учителем. Он считал, что дело не в том, чтобы каждый человек перестал чего-то желать и страдать, а прежде всего в том, чтобы люди жили в мире, – родители в мире со своими детьми, а правитель в мире со своими подданными. К этому он и стремился: создать учение о правильной совместной жизни. И он достиг этой цели. Великий китайский народ тысячи лет следовал его учению, и люди в Китае жили более мирно и спокойно, чем в других частях мира. Тебе, конечно, интересно, чему же учил Конфуций, которого по-китайски называют Кун-цзы. Это очень легко понять. И следовать его учению тоже нетрудно. Не случайно Конфуций добился такого успеха.
Путь, предложенный Конфуцием, очень прост. Возможно, тебе он не слишком понравится, но в нем содержится куда больше мудрости, чем может показаться на первый взгляд. Он учил, что формальности в жизни куда важнее, чем нам кажется: почитание предков, вопрос о том, кто имеет право первым зайти в комнату, необходимость встать, когда ты разговариваешь с кем-то вышестоящим, и много других таких же вещей, относительно которых в Китае существует куда больше правил, чем у нас. Все эти ритуалы, считал он, возникли не случайно. Они имеют или когда-то имели большое значение. Обычно они связаны с чем-то прекрасным. И поэтому Конфуций говорил: «Я верю в древность и люблю ее». Он хотел сказать, что верит в прекрасный и глубокий смысл всех тысячелетних древних нравов и обычаев, и постоянно призывал жителей своей страны тщательно их соблюдать. Он считал, что, если так делать, жить будет легче. Все будет идти само собой, и не придется слишком много всего обдумывать. Конечно, благодаря всем этим обрядам человек не мог стать лучше, но ему легче было оставаться хорошим.
Дело в том, что Конфуций очень хорошо думал о людях. Он говорил, что все люди рождаются хорошими и достойными и все они в душе остаются такими. «Каждый человек, который увидит, как ребенок играет у воды, испугается, что тот может туда упасть», – говорил он. Эта забота о ближнем, сочувствие, которое человек ощущает, когда другому плохо, даны нам от рождения. Поэтому, чтобы сохранить наши добрые чувства, не надо делать ничего особенного. Для этого, считал он, существует семья. Тот, кто всегда добр к своим родителям, следует их примеру и заботится о них, – а это тоже дано нам от рождения – тот так же будет вести себя и по отношению к другим людям, станет подчиняться законам государства так же, как всегда подчинялся отцу. Поэтому для Конфуция главным в жизни была семья: любовь братьев и сестер друг к другу, уважение к родителям. Он называл ее «корнем мира».
Но это не значило, что только подданные должны быть преданы государю, а не наоборот. Напротив, Конфуций и его ученики часто бывали при дворах у строптивых правителей и откровенно высказывали им свое мнение. Они говорили, что правитель должен подавать всем пример в соблюдении ритуалов, в проявлении отцовской любви, заботы и справедливости. Если он так не поступает и неосмотрительно не обращает внимания на страдания своих подданных, будет вполне справедливо, если подданные его свергнут, – так утверждали Конфуций и его ученики. Ведь главная обязанность государя – быть примером для всех жителей своего царства.
Ты можешь сказать, что Конфуций говорил само собой разумеющиеся вещи. Но именно это он и хотел делать. Он стремился говорить то, что все быстро поймут и решат, что это правильно. Тогда совместная жизнь людей будет намного легче. Я ведь уже сказал, что ему это удалось. Только благодаря его учению огромная империя, состоявшая из множества провинций, не развалилась окончательно.

Лао-цзы[55]
Но не думай, будто в Китае не было и других людей, тех, кто больше походил на Будду, кто размышлял не о совместной жизни и не о том, как надо кланяться друг другу, а о великих тайнах нашего мира. Примерно в то же время, что и Конфуций, в Китае жил один такой мудрец. Его звали Лао-цзы. Говорят, он служил чиновником, но человеческая суета ему совсем не нравилась. Поэтому он отказался от службы, удалился в далекие горы на границе Китая и стал отшельником.
Простой начальник таможни, стоявшей на дороге у границы, попросил его записать свои мысли прежде, чем он удалится от людей. И Лао-цзы это сделал. Я не знаю, понял ли их таможенник, ведь мудрец выражался загадочно и запутанно. Смысл его учения примерно такой: во всем мире, в ветре и ненастье, в растениях и животных, в смене дня и ночи, в движении звезд по небу есть один великий закон. Он назвал его Дао, что можно примерно перевести как «путь». Но только люди постоянно беспокоятся, суетятся, строят множество планов, все время о чем-то думают, совершают жертвоприношения и молятся – и тем самым не допускают к себе этот закон, не дают ему проявиться, мешают ему действовать.
По мнению Лао-цзы, человек должен делать только одно: ничего не делать. Он должен быть внутренне абсолютно спокоен. Ему не надо постоянно ко всему приглядываться и прислушиваться, не надо ничего хотеть и ни о чем думать. Если ему это удастся, то он станет как дерево или как цветок, лишенный намерений и воли, и ощутит воздействие великого всеобщего закона, Дао, приводящего в движение небеса и обеспечивающего наступление весны. Ты видишь, что это учение нелегко понять, а еще сложнее ему следовать. Возможно, Лао-цзы в уединении среди высоких гор сумел добиться того недеяния, которому он учил. Но в целом все-таки хорошо, что великим учителем народа стал Конфуций, а не Лао-цзы. А ты как думаешь?
Bu ve 399 TRY karşılığında 2 kitap daha
