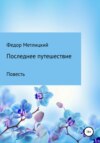Kitabı oku: «Последнее путешествие. Повесть», sayfa 4
7
Стюардесса принесла еду в целлофановых пакетах. Сосед справа незаметно вынул из портфеля между ног бутылку водки, налил под сиденьем в стакан и выпил, двигая кадыком, а потом жадно принялся за еду.
Девушка не притронулась к еде. В ней было что-то скорбное, она напомнила ему худую стройную красавицу, встреченную им в неприкаянной молодости. Та покорно поддалась ему, и он привел ее домой и воспользовался ею, почему-то чувствуя угрызения совести. После расспросов она скупо сказала, что рассталась с любимым парнем, ушедшим в армию. И ушла, отказавшись дать адрес…
– Летите домой?
Она обернулась к нему, стеснительно, как к неопасному старику.
– Не знаю.
И на его немой вопрос доверчиво ответила:
– У меня никого нет.
Что-то горькое в ее тоне тронуло Диму.
– Вы летите на высоте восемь тысяч метров от земли! Как-то не к месту так говорить.
Видно, ей хотелось выговориться, и Дима был дедом, кому ничего от нее не нужно.
– Ребенок у меня умер. Чем жить?
Если бы рядом был мужик, Дима мог сказать что-то сочувственное. Но для женщины, потерявшей ребенка, это было невозможно. Ей действительно нечем жить.
Он почему-то вспомнил: недавно, лютой зимой ночью сонный увидел в окне во дворе женщину в широкополой шляпе, неподвижно сидящую на скамейке, всю съеженную. Что-то в нем екнуло, в доме напротив, откуда она пришла, в окнах горел свет. И он заснул. Потом, словно что-то беспокоило, спросонья снова глянул во двор – она уже лежала на снегу, страшно распластавшись черным пятном. Окна в соседнем доме стыдливо потухли.
Какую трагедию она пережила? Почему никто из близких не вышел? Его мучила совесть, что не отозвался, не привел домой, не согрел.
– И я потерял все, – признался Дима в том, в чем никому бы не признался. – Но почему-то еще живу.
– Чем можно жить? – спросила она, в ее глазах была та же глубина печали, волновавшая его.
Когда он увидел ее, показалось, что он не один. И постепенно его депрессия стала уходить. А ведь казалось, что это уже навсегда.
– Наверно, вот этим, – кивнул он в иллюминатор. Там, вверху плыли белые облака, а внизу низкие сопки, густо покрытые тайгой. Там всегда была загадка, которую не отгадает никогда. Ах, вот она, Восточная Сибирь – сплошные блюдца вод – озер железистых, но эта, не годна для жизни ширь, таит для небывалой рыбы нересты.
Внизу мириадами серебряных черточек-домов проплывали города, возвращая его к себе. Как долго бродил, подобно лимитчику, вдали от родины!
Она безучастно глянула в иллюминатор, разочарованная разговором.
– К чему ваша философия? Знаете, что моя дочка сказала перед смертью? «Самое страшное – это когда дышать нечем».
Он не знал, чем утешить ее, и отвернулся. У него уже не было зависимости от присутствия людей.
8
Дима открыл другую страну, о которой забыл с детства. Это был маленький местечковый рай – парк рядом с его домом, с отдыхающими из окрестных домов, некогда вышедшими из провинции в обособленный город индустрии и торговли.
Была весна, и деревья только еще начинали цвести, покрываясь мелкими желтоватыми листочками. Огороженный дуб решетчатый с могучим стволом и стройной кроной в вышине, судя по табличке, реликт трехсотлетней давности, стареющий удивительно здоровой красотой, еще влажно темнел голыми ветвями. Он был похож на крепкого кряжистого старика, который проживет еще столетия.
Это был, конечно, не Гайд-парк или Булонский лес, где гуляли степенно ступающие пары в цилиндрах и кринолинах. Проносились мимо лихие девицы на роликах, проходили мимо молодые люди в беспроводных наушниках, разговаривающие сами с собой. Брели мимо старики и старушки с посохами или гребущие палками для ходьбы по-скандинавски. Трусили старики в обвисших трениках, возбуждая стоячую кровь. Проходили мамы, дети прыгали вокруг них, кружились на самокатах с мигающими колесиками, под окрики родителей, на детской площадке копались лопатками в песке, роились около спортивных сооружений. Что было в их головках? Он уже представлял смутно. Младенец любит весь мир, а старик – жалеет его.
Отчего обыватели стремятся уехать на отдых, и подальше? Наверно, наступает усталость от неуемной беготни на месте за успехом, усталость от увиливания между струйками, и душа требует полного освобождения. Но сейчас, из-за пандемии и обнищания люди повалили в захламленные массивы лесопарков и аккуратные детские парки, недалеко от своих жилищ.
Это была новая неизвестная жизнь, в ней не было никакого упадка, словно они совсем из другой, квантовой эпохи.
Дима ходил, перемогая слабость, кругами под высокими дубами и липами, по цивилизованным дорожкам, устеленным плитками. Странно, еще недавно не замечал, как ходил, весь устремленный в нечто удаленное от тела, а теперь весь сосредоточен на правильной походке, чтобы не упасть, тяжело дыша. Куда-то девались все мысли, все уходило в переживание трудности ходьбы.
Присаживался на скамейке, сгорбленный, весь утопленный в глаза от усталости, смотрел на проходящих – молодых девчонок и крепких парней, спешащих твердыми шагами куда-то в радостное, и совсем не думающими о походке. Мимо пробегали в спортивной одежде спортсмены, равномерно правильно двигая локтями.
Какие у них крепкие ноги!
Отдыхал на скамейке и смотрел сквозь ресницы, наверно, со стороны виделся неподвижным буддой. Казалось бы, волнения прошли, ты уже не обязан отвечать на все вопросы, живи и радуйся, что еще жив. Он прислушивался к себе: нет, не могу просто отбросить беспокойство души и радоваться, что дышу, и не смогу просто любоваться семьями, гуляющими в парке. Их чистота его не трогала, как чистая пустота, – слишком с ней все ясно и чисто, как у него в детстве, когда был романтиком. Он был чужим в этом пире жизни, и в его душе было что-то черствое к этому пиру. Все его силы были направлены туда, где маячила разгадка этой черствости.
И нирвана порой убивает.
День и сад, как в грядущем, вольны.
Только в одури сонного рая
Нет ни чтенья, ни дум, ни вины.
Отдыхает нутро примитивно.
Так живем мы в нашем раю —
Новизны ли окраина дивная,
То ль беспамятства страшный уют?
Иногда видел сгорбленную верхнюю соседку, похожую на бабу ягу, она, согнувшись чуть не до земли, неутомимо резала шаги по дорожкам, или сидела одна, у нее не было подруг.
Дима с женой прожили рядом с ней, верхней соседкой, полжизни, слыша вверху крики то на выпивоху-мужа, то на красивую дочь и ее мужа, алкоголиков. Однажды пьяный молодой муж дочери с верхнего балкона залил мочой их балкон, и красавица дочь спустилась к ним и стыдливо вытирала тряпкой лужу.
Тогда он еще писал стихи, и почему-то написалось про верхнюю соседку:
Пахнут слепью весенней дворы,
И соседки душа – словно горлинка,
Мрет от грязи снаружи, внутри,
И в сосущем миру алкоголиков.
В этих криках на чьих-то мужей,
Своего проняв до печонок,
Та девчонка не снится уж ей,
Что была – только голос все звонок.
Особенно беда со стареющими красивыми женщинами, – жалел их он. – Они не выносят старости, страшнее этого ничего нет! Марлен Дитрих похоронила себя в квартире, чтобы почитатели знали ее молодой и прекрасной.
У выхода из парка свечой возвышался тополь, его ветви почти все были срезаны, но он был весь покрыт зеленой листвой, не желая умирать.
***
Так проходила весна, потом неизменно наступало лето. В парке свежая листва высоких деревьев захватывала сплошь все пространство. По дорожкам проносились на электросамокатах те же подростки и взрослые бугаи, чуть не сбивая с ног, на площадках визжали дети, как медвежата переваливаясь на спортивных снарядах, а мамы хлопотали около них.
У Димы стали слабеть артритные руки, и теперь стал обращать внимание на крепкие волосатые руки проходящих мужиков, и завидовал им. С такими руками, и на свободе!
Никто не обращал внимания на пожилого человека, и он был равнодушен к другим. Привык полагаться только на себя, и потому не было жалко, что никто не пожалеет, когда сожгут или закопают, – проходят равнодушно мимо. Ну и пусть – найдется, кому похоронить. Туда и дорога!
Он неожиданно понял, что прожил много десятилетий в этом городе, но так и не принял в сердце ни этих чужих улиц, ни пыльной редкой зелени, ни чужих людей, обитающих в клетках домов и суетящихся на работе ради зарплаты.
Верхняя соседка, еще больше пригнувшись к земле, по-прежнему резала шаги по дорожкам. Ее семья по очереди поумирала от цирроза печени, и она осталась одна. Ее видели торгующей старыми шмотками, с безумием в глазах, потом она стала посещать экологическое общество, из таких же старушек. И везде проклинала городскую власть, грязь на улицах.
____
Ему не хотелось усилий поддерживать себя. Что это такое – заставлять себя поднимать свою внутреннюю суть к небу? Для кого это и для чего? Перед кем выпендриваться, выглядеть достойно? Перед окружающими, женщинами, перед женой? Все это ушло.
Но жена словно следила за ним, и он проделывал все необходимые процедуры по уходу за собой, как при ней: каждое утро приводил себя в порядок, ел, что положено, совершал прогулки.
Бродил вечером один по уснувшему парку, и повторял стихи поэта Тютчева, у которого тоже умерла любимая женщина:
Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня…
Тяжело мне, замирают ноги…
Друг мой милый, видишь ли меня?
Неожиданно внутри у Димы поселилось полное одиночество. Не такое, которое наполняет догадками о смысле жизни, не страх от осаждающих со всех сторон болезней и трудностей, а гораздо хуже – такое отчаянное одиночество в пустом космосе, где ни одной человеческой души. Как будто весь мир, который с младенчества казался многолюдным и открытым, вымер от пандемии, и остался он один, потеряв смысл жить дальше.
Как смешны усилия тех старушек, которые бодро пишут в интернете, что нашли новую энергию мудрости в новых проектах, воскрешающих энергию!
Зачем он скитался в молодости, жил с какой-то женщиной, старался выжить и привести к успеху свою организацию, – и никто не помог, его дело, да и жизнь оказались никому не нужны. Зачем тогда жил?
Почему не пришлось быть погруженным в суету большой дружной семьи? Почему не создал род, который будет разрастаться, как тот решетчатый дуб? Тогда бы он умер в сознании надежности плато жизни.
Но даже если бы это случилось, в большой семье вряд ли был бы тот лад. Как и у тех, чьи дети высыпали в парк с мамами, и у «понаехавших» мигрантов, бесстыдно лежащих обнаженными на траве под деревьями. Тем более в отношениях между семьями, между группами людей, которым нет дела друг для друга. Так ли уж ладно в них? В телевизоре полно непримиримо спорящих наследников, которые делят имущество умерших родителей.
Это отчуждение поразило целое перестроечное поколение, в котором не осталось ничего, кроме заботы о себе и собственной семье. Ощущение такое, словно по телу общества судорожно проходит тревога перед тем, что с ним будет.
Было ощущение, что все выдохлось. Как любимое радио, которое Дима стал слушать днем (оказывается, это время пустое), тоже выдохлось, повторяя одни и те же передачи о здоровье.
Он внутри все время боролся с чем-то страшным, угнетающим, бессилием. С чем-то чужим его духу, уничтожающим его.
И не мог уснуть ночью. Какое-то беспокойство гнало его, отвращая от развлекаловки на экране телевизора, читать то, что не дочитал в молодости, клетки мозга пытались насытиться чем-то, горю недоступным. Правда, он уже не читал, а только схватывал на лету, сразу всплывало все прочитанное на эту тему раньше.
Желание исцелиться духовно теперь стало физическим, словно это было уже одно и то же.
Недавно верхняя соседка внезапно вернулась домой, не закрыв дверь, легла на диван, положила руки на грудь крест-накрест и умерла. Оказывается, она веровала. Дима теперь увидел ее совсем по-другому: перед смертью все равны.
Ее захламленную квартиру заняли незнакомые чужие люди, и там раздавался грохот, и даже ночью зудела дрель, не давая заснуть.