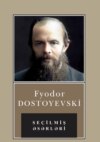«Бесы» kitabından alıntılar, sayfa 4

на свете порядочному человеку мерзко

Все сочтется: ни одно слово, ни одно движение душевное, ни одна полумысль не пропадут даром.

Единый народ-«богоносец» – это русский народ

Он бесспорно согласился в бесполезности и комичности слова "отечество"; согласился и с мыслию о вреде религии, но громко и твердо заявил, что сапоги ниже Пушкина, и даже гораздо. Его безжалостно освистали, так что он тут же, публично, не сойдя с эстрады, расплакался.

– Он правду говорил; я пишу. Только это всё равно.С минуту помолчали; он вдруг улыбнулся давешнею детскою улыбкой.– Он это про головы сам выдумал, из книги, и сам сначала мне говорил, и понимает худо, а я только ищу причины, почему люди не смеют убить себя; вот и всё. И это всё равно.– Как не смеют? Разве мало самоубийств?– Очень мало.– Неужели вы так находите?Он не ответил, встал и в задумчивости начал ходить взад и вперед.– Что же удерживает людей, по-вашему, от самоубийства? – спросил я.Он рассеянно посмотрел, как бы припоминая, об чем мы говорили.– Я… я еще мало знаю… два предрассудка удерживают, две вещи; только две; одна очень маленькая, другая очень большая, Но и маленькая тоже очень большая.– Какая же маленькая-то?– Боль.– Боль? Неужто это так важно… в этом случае?– Самое первое. Есть два рода: те, которые убивают себя или с большой грусти, или со злости, или сумасшедшие, или там всё равно… те вдруг. Те мало о боли думают, а вдруг. А которые с рассудка – те много думают.– Да разве есть такие, что с рассудка?– Очень много. Если б предрассудка не было, было бы больше; очень много; все.– Ну уж и все?Он промолчал.– Да разве нет способов умирать без боли?– Представьте, – остановился он предо мною, – представьте камень такой величины, как с большой дом; он висит, а вы под ним; если он упадет на вас, на голову – будет вам больно?– Камень с дом? Конечно, страшно.– Я не про страх; будет больно?– Камень с гору, миллион пудов? Разумеется, ничего не больно.– А станьте вправду, и пока висит, вы будете очень бояться, что больно. Всякий первый ученый, первый доктор, все, все будут очень бояться. Всякий будет знать, что не больно, и всякий будет очень бояться, что больно.– Ну, а вторая причина, большая-то?– Тот свет.– То есть наказание?– Это всё равно. Тот свет; один тот свет.– Разве нет таких атеистов, что совсем не верят в тот свет?Опять он промолчал.– Вы, может быть, по себе судите?– Всякий не может судить как по себе, – проговорил он покраснев. – Вся свобода будет тогда, когда будет всё равно, жить или не жить. Вот всему цель.– Цель? Да тогда никто, может, и не захочет жить?– Никто, – произнес он решительно.– Человек смерти боится, потому что жизнь любит, вот как я понимаю, – заметил я, – и так природа велела.– Это подло, и тут весь обман! – глаза его засверкали. – Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен. Теперь всё боль и страх. Теперь человек жизнь любит, потому что боль и страх любит. И так сделали. Жизнь дается теперь за боль и страх, и тут весь обман. Теперь человек еще не тот человек. Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет всё равно, жить или не жить, тот будет новый человек. Кто победит боль и страх, тот сам бог будет. А тот бог не будет.– Стало быть, тот бог есть же, по-вашему?– Его нет, но он есть. В камне боли нет, но в страхе от камня есть боль. Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, всё новое… Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения бога и от уничтожения бога до…– До гориллы?–…До перемены земли и человека физически. Будет богом человек и переменится физически. И мир переменится, и дела переменятся, и мысли, и все чувства. Как вы думаете, переменится тогда человек физически?– Если будет всё равно, жить или не жить, то все убьют себя, и вот в чем, может быть, перемена будет.– Это всё равно. Обман убьют. Всякий, кто хочет главной свободы, тот должен сметь убить себя. Кто смеет убить себя, тот тайну обмана узнал. Дальше нет свободы; тут всё, а дальше нет ничего. Кто смеет убить себя, тот бог. Теперь всякий может сделать, что бога не будет и ничего не будет. Но никто еще ни разу не сделал.– Самоубийц миллионы были.– Но всё не затем, всё со страхом и не для того. Не для того, чтобы страх убить. Кто убьет себя только для того, чтобы страх убить, тот тотчас бог станет.– Не успеет, может быть, – заметил я.– Это всё равно, – ответил он тихо, с покойною гордостью, чуть не с презрением. – Мне жаль, что вы как будто смеетесь, – прибавил он через полминуты.

Cтрах, если в сильнейшей степени, совершенно прогоняет ненависть, даже чувство мщения к обидчику

Я тоже не знаю, почему зло скверно, а добро прекрасно, но я знаю, почему ощущение этого различия стирается и теряется у таких господ как Ставрогины, -- не отставал весь дрожавший Шатов, -- знаете ли, почему вы тогда женились, так позорно и подло? Именно потому, что тут позор и бессмыслица доходили до гениальности! О, вы не бродите с краю, а смело летите вниз головой. Вы женились по страсти к мучительству, по страсти к угрызениям совести, по сладострастию нравственному. Тут был нервный надрыв... Вызов здравому смыслу был уж слишком прельстителен! Ставрогин и плюгавая, скудоумная, нищая хромоножка! Когда вы прикусили ухо губернатору, чувствовали вы сладострастие? Чувствовали? Праздный, шатающийся барченок, чувствовали?Шатов

Страх есть проклятие человека...Алексей Кириллов

Неисследима глубина женского сердца даже и до сегодня!

Сама Юлия Михайловна впоследствии, и уже не в торжестве, а почти раскаиваясь, — ибо женщина никогда вполне не раскается — сообщила мне частичку этой истории.