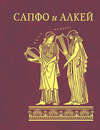Kitabı oku: «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии», sayfa 3
III
Как уже было сказано выше, искусство в новейшее время чрезвычайно расширило свои границы. Оно подражает теперь, как обыкновенно говорится, всей видимой природе, в которой красота составляет лишь малую частицу. Истина и выражение являются его главным законом, и так же, как сама природа часто приносит красоту в жертву высшим целям, так и художник должен подчинять ее основному устремлению и не пытаться воплощать ее в большей мере, чем это позволяют правда и выразительность. Одним словом, благодаря истинности и выразительности самое отвратительное в природе превращается в прекрасное в искусстве.
Допустим для начала бесспорность этих положений; но нет ли и других, независимых от них соображений, по которым художник должен держаться известной меры в выражении и никогда не считать таким мерилом момент высшего действенного напряжения.
Я полагаю, что простой взгляд на материальные возможности искусства, ограничивающие пределы его деятельности, приведет нас к подобному же выводу.
Если, с одной стороны, художник может брать из вечно изменяющейся действительности только один момент, а живописец даже и этот один момент лишь с одной определенной точки зрения; если, с другой стороны, произведения их предназначены не для одного только мимолетного просмотра, а для внимательного и неоднократного наблюдения, то очевидно, что этот единственный момент и эта единственная точка зрения на этот момент должны быть возможно плодотворнее. Но плодотворно только то, что оставляет свободное поле воображению. Чем более мы глядим, тем более мысль наша добавляет к видимому, и чем сильнее работает мысль, тем больше возбуждается наше воображение. Но в процессе какого-нибудь аффекта всего менее обладает этим свойством этот высший момент. За таким моментом не остается уже больше ничего: показывать глазу эту предельную точку аффекта – значит связывать крылья фантазии и принуждать ее (так как она не может выйти за пределы данного чувственного впечатления) довольствоваться слабейшими образами, над которыми господствует, стесняя свободу воображения своей полнотой, данное изображение момента.
Поэтому, когда Лаокоон только стонет, то воображению легко представить себе его кричащим; если бы он кричал, фантазия не могла бы подняться ни на одну ступень выше, ни спуститься одним шагом ниже представленного образа без того, чтобы Лаокоон не предстал перед ней страдающим, а, следовательно, неинтересным.
Зрителю оставались бы две крайности: вообразить Лаокоона или при его первом стоне или уже мертвым.
Далее, так как это одно мгновение приобретает благодаря искусству неизменную длительность и как бы его увековечивает, то оно не должно выражать ничего такого, что мыслится лишь как переходное. Все такие явления, которые по существу своему представляются нам скоротечными и быстро пропадающими, которые могут быть тем, что они есть, только одно мгновение, такие явления, – приятны ли они или ужасны по своему содержанию, – приобретают благодаря продолжению их бытия в искусстве такой противоестественный вид, что с каждым новым взглядом впечатление от них ослабляется, и, наконец, весь предмет начинает внушать нам отвращение или страх. Ляметри, который велел нарисовать и выгравировать себя наподобие Демокрита, смеется лишь первый раз, когда смотришь на него. Если же глядеть на него чаще, он превращается из философа в шута, и его улыбка становится гримасой. Точно так же обстоит дело и с криком. Страшная боль, выражаемая криком, должна или прекратиться или уничтожить свою жертву. Поэтому, если уж кричит чрезвычайно терпеливый и стойкий человек, он не может кричать безостановочно. И именно эта кажущаяся беспрерывность – в случае изображения такого человека в произведении искусства – и превратила бы его крик в выражение женской слабости или детского нетерпения. Уже одно это должно было бы остановить творца Лаокоона, если бы даже крик и не вредил красоте и если бы в греческом искусстве дозволялось изображать страдание, лишенное красоты.
Между древними, кажется, Тимомах любил избирать в качестве сюжетов для своих произведений самые сильные из страстей. Его неистовствующий Аякс, его детоубийца Медея стали знамениты. Но из описаний, которые мы имеем о них, ясно, что он отлично умел выбирать такой момент, когда зритель не столько видит наглядно, сколько воображает высшую силу страсти; понимал также Тимомах и то, что подобный момент не должен вызывать представления о мимолетности изображаемого в такой степени, чтобы продолжение его в искусстве нам не нравилось. Так, Медею изобразил он не в ту минуту, когда она убивает своих детей, но за несколько минут раньше, когда материнская любовь еще борется в ней со злобой. Мы предвидим уже исход этой борьбы, мы уже заранее содрогаемся при одном виде суровой Медеи, и наше воображение далеко превосходит все, что художник мог бы изобразить в эту страшную минуту. Но именно потому и не оскорбляет нас продолжающаяся в описываемом произведении искусства нерешительность Медеи, что мы скорее желаем, чтобы и в самой действительности дело на том и остановилось, чтобы борьба страстей навсегда завершилась или, по крайней мере, длилась бы так долго, пока время и рассудок ослабят ярость страсти и дадут победу материнским чувствам. Удачный выбор Тимомаха был предметом одобрений и поставил его далеко выше другого – неизвестного – художника, который был настолько неосмотрителен, что показал зрителям Медею на высшей ступени неистовства и, таким образом, придал этому быстро преходящему моменту продолжительность, против которой восстает человеческая природа. Поэт, упрекающий его за это, говорит, обращаясь к самому изображению Медеи: «Неужели ты постоянно жаждешь крови своих детей? Неужели беспрерывно стоят при тебе новый Язон и новая Креуза и неустанно разжигают твою злобу? Та к пропади же ты и в картине!» – прибавляет он, полный горечи.
О другом произведении Тимомаха, изображающем бешеного Аякса, можно судить по сообщению Филострата. Аякс представлен у него не в то время, когда он свирепствует между стадами и побивает и вяжет быков и баранов вместо людей. Нет, художник благоразумно выбрал ту минуту, когда Аякс сидит измученный своим неистовством и замышляет самоубийство. И перед зрителем предстает действительно бешеный Аякс не потому, что он неистовствовал на наших глазах, а потому, что яркие следы этого неистовства видны во всем его положении: вся сила его недавнего бешенства ярко отражается в полном отчаянии и стыде; прошедшую бурю видишь по обломкам и трупам, которые он раскидал вокруг.
IV
Рассматривая все приведенные выше причины, по которым художник, делавший Лаокоона, должен был сохранить известную меру в выражении телесной боли, я нахожу, что все они обусловлены особыми свойствами искусства ваяния, его границами и требованиями. Поэтому трудно ожидать, чтобы какое-нибудь из рассмотренных обстоятельств можно было бы в равной же мере применить и к поэзии.
Не касаясь здесь вопроса о том, насколько вообще поэт может достигнуть изображения телесной красоты, можно, однако, считать неоспоримой истиной следующее положение. Та к как поэту открыта для подражания вся безграничная область совершенства, то внешняя, наружная оболочка, при наличии которой совершенство становится в ваянии красотой, может быть для него разве лишь одним из ничтожнейших средств пробуждения в нас интереса к его образам. Часто даже поэт совсем не дает изображения внешнего облика героя, будучи уверен, что, когда его герой успевает привлечь наше расположение, его благородные свойства настолько занимают нас, что мы даже и не думаем о его внешнем виде или сами придаем ему невольно если не красивую, то, по крайней мере, не противную наружность. Всего менее будет он прибегать к помощи зрительных восприятий во всех тех моментах своего описания, которые не обращаются непосредственно к глазу. Когда Лаокоон у Вергилия кричит, кому придет в голову, что для крика нужно широко раскрывать рот и что такое раскрытие некрасиво? Достаточно, что выражение «к светилам возносит ужасные крики» создает должное впечатление для слуха, и нам безразлично, чем оно может быть для зрения. На того, кто требует здесь красивого зрительного образа, поэт не произвел никакого впечатления.
Ничто также не принуждает поэта ограничивать изображаемое на картине одним лишь моментом. Он берет, если хочет, каждое действие в самом его начале и доводит его, всячески видоизменяя, до конца. Каждое из таких видоизменений, которое от художника потребовало бы особого произведения, стоит поэту лишь одного штриха, и если бы даже этот штрих сам по себе способен был оскорбить воображение слушателя, он может быть так подготовлен предшествующим или так ослаблен и приукрашен последующим штрихом, что потеряет свое обособленное впечатление и в сочетании с прочим произведет самое прекрасное действие. Так, если бы в самом деле мужу было неприлично кричать от боли, может ли в нашем мнении повредить эта преходящая невыдержанность тому, кто уже привлек наше расположение другими своими добродетелями? Вергилиев Лаокоон кричит, но этот кричащий Лаокоон – тот же самый, которого мы уже знаем и видим, как предусмотрительного патриота и как нежного отца. Мы приписываем его крик не характеру его, а невыносимым страданиям. Только это и слышим мы в его крике, и только этим криком мог поэт наглядно изобразить нам его страдания.
Кто же станет осуждать за это поэта? Кто не сознается скорей, что если художник сделал хорошо, не позволив своему Лаокоону кричать, то так же хорошо поступил и поэт, заставив его кричать?
Но Вергилий является здесь только эпиком. Приложимо ли наше рассуждение в равной мере и к драматургу? Совсем иное впечатление производит рассказ о чьем-нибудь крике и самый крик. Драма, которая при посредстве актера претворяется в живописание жизни, должна поэтому ближе придержаться законов живописи. В ней мы видим и слышим кричащего Филоктета не только в воображении, а действительно видим и слышим его. И чем более приближается здесь актер к природе, тем чувствительнее оскорбляет он наше зрение и слух; ибо, бесспорно, они были бы оскорблены, если бы в действительности телесная боль обнажилась перед нами с такой силой. К тому же телесная боль по природе своей не способна возбуждать сострадания в той же степени, как другие страдания.
Воображение наше различает в ней слишком мало оттенков, чтобы от одного взгляда на нее в нас пробудилось соответствующее чувство. Поэтому Софокл легко мог перейти границу не только искусственного, но и в существе наших чувств лежащего приличия, заставляя своего Филоктета или Геркулеса так сильно плакать, стонать и кричать. Окружающие не могли принимать такого горячего участия в их страданиях, как этого требовали, по-видимому, неумеренные крики и возгласы. По крайней мере, нам, зрителям, окружающие казались бы сравнительно холодными, а между тем степень их сострадания может служить мерилом и для нас. Ко всему этому нужно прибавить, что актер с большим лишь трудом или даже совсем не в силах дать полную иллюзию физических мук; и кто знает, не заслуживают ли новейшие драматурги более похвалы, чем порицаний, за то, что они совсем избегают или только легко касаются этого.
Но как многое казалось бы неопровержимым в теории, если бы гению не удавалось на практике доказать противное. Все приведенные выше соображения не лишены основания, а между тем «Филоктет» все-таки остается образцовым сценическим произведением, ибо одна часть этих соображений не затрагивает непосредственно Софокла, а, не посчитавшись с другими, он достиг такого совершенства, которое даже и не приснилось бы никогда ни одному робкому критику без живого примера. Следующие замечания сделают это ясней.
1. Как удивительно ловко сумел поэт усилить и расширить понятие физической боли! Он избрал именно рану (говорю избрал, ибо даже и исторические подробности можно считать зависящими от поэта, поскольку целое событие он избирает именно за те свойства его, которые представляют особое преимущество для художественной обработки), – он избрал рану, а не какую-нибудь внутреннюю болезнь, ибо первое производит более сильное и живое впечатление, хотя бы и то и другое было одинаково мучительно. Внутреннее пламя, которое пожирало Мелеагра, когда в роковом огне мать принесла его в жертву своей мести, было бы поэтому менее сценично, чем рана. Притом рана Филоктета была божьим наказанием; далеко не обычный яд бурлил в ней; и едва проходил сильнейший припадок боли, после которого несчастный впадал в бесчувственный сон, несколько укреплявший его, как боль возобновлялась с новой силой. Шатобриан хочет, чтобы Филоктет был просто ранен отравленной троянской стрелой. Но что особенного можно ожидать от такого обычного случая? Он мог иметь место в древних войнах со всяким; как же могло случиться, чтобы у одного лишь Филоктета он привел к столь необычным последствиям? Яд, который действует в течение целых девяти лет не умерщвляя, по-моему, менее правдоподобен, нежели все то баснословно чудесное, чем грек украсил это предание.
2. Но какими страшными ни сделал поэт муки своего героя, он чувствовал, однако, что их одних было недостаточно для возбуждения сильного сострадания. Поэтому он присоединил к ним другие мучения, которые, будучи взяты сами по себе, также не способны возбудить сильного сочувствия, но в сочетании с этими муками приняли чрезвычайный характер и передали его самым физическим страданиям. Эти мучения были: совершенное отсутствие общения с людьми, голод и все неудобства жизни под суровым небом в полном одиночестве15. Вообразим себе в таких обстоятельствах человека здорового, сильного и знающего ремесла: это будет Робинзон Крузо, который мало возбуждает в нас сострадания, хотя мы и неравнодушны к его судьбе. Ибо мы редко бываем настолько довольны человеческим обществом, чтобы покой, представляющийся нам вне общества, не казался заманчивым, особенно при мысли, что мы мало-помалу сможем обходиться совсем без чужой помощи. С другой стороны, вообразим себе человека, пораженного мучительной неизлечимой болезнью, но в то же время окруженного друзьями, которые не позволяют ему терпеть никаких лишений, которые облегчают, насколько могут, его страдания и которым он беспрепятственно может жаловаться: без сомнения, мы почувствуем сострадание к такому человеку, но это сострадание не будет слишком продолжительным, и мы, наконец, потребуем от больного терпения.
Лишь тогда, когда сочетаются оба случая вместе, когда человек одинок и не обладает в то же время достаточной выдержкой, когда никто не может оказать ему помощи так же, как и он сам себе, когда его стоны пропадают в пустынном воздухе, – тогда мы видим всю глубину страдания, какая может постигнуть человека, и каждый раз, когда мы хотя на мгновение пытаемся поставить себя на его место, мы чувствуем ужас. Мы не видим перед собой ничего, кроме отчаяния, а никакое сострадание не отличается такой силой, ни одно так не тяготит, как то, которое сочетается с видом отчаяния. Такого именно рода сострадание испытываем мы к Филоктету и испытываем в самой сильной степени в ту минуту, когда видим его лишенным даже лука – единственной вещи, которая еще поддерживала его жалкое состояние. Каким мелким представляется после всего сказанного тот француз, у которого не хватило ни ума, чтобы понять все это, ни сердца, чтобы прочувствовать, – француз, который, если и чувствовал что-либо, был настолько мелок, чтобы всем пожертвовать ради жалкого вкуса своей нации. Шатобриан окружает Филоктета обществом. Он заставляет дочь одного принца прийти к нему на пустынный остров. Даже не одну, а в сопровождении гувернантки, про которую я, право, не знаю, кому она была больше нужна – принцессе или автору. Всю превосходную сцену с луком он выпустил и вместо нее ввел любовное похождение. Без сомнения, стрелы и лук показались бы слишком забавными героической французской молодежи. Напротив, что может быть серьезнее гнева красавицы? Грек заставляет нас мучиться от страшной заботы о том, что бедный Филоктет, лишившись своего лука, может погибнуть на диком острове. Француз знает верную дорогу к нашему сердцу: он заставляет нас бояться, чтобы сын Ахилла не удалился без своей принцессы. И вот что парижские критики выдают за торжество над греками, вот какова трагедия Шатобриана, которую один из них решился даже назвать преодоленной трудностью!
3. Выяснив общее впечатление от «Филоктета», рассмотрим отдельные сцены, где Филоктет уже не является нам одиноким страдальцем, где он питает надежду вскоре покинуть дикую пустыню и вернуться на родину, где, следовательно, все его страдания ограничиваются одной лишь мучительной раной. Он стонет, он кричит, он корчится в ужасных конвульсиях. К этому именно и относятся упреки в оскорблении приличий.
Упреки эти делает англичанин (Смит), т. е. человек, которого трудно заподозрить в ложной деликатности. Как уже было упомянуто, он, действительно, в достаточной мере обосновывает свои суждения. Все чувствования и страсти, – говорит он, – которым другие могут сочувствовать лишь в малой степени, поражают неприятно, если выражаются слишком сильно. «Поэтому нет ничего неприличнее и недостойнее человека, если он не может терпеливо переносить даже самую страшную боль, а кричит и плачет. Правда, физическая боль другого человека может передаваться и нам. Когда мы видим, что кому-нибудь угрожает удар по руке или ноге, мы инстинктивно вздрагиваем и сами отдергиваем назад руку или ногу, а последствия удара ощущаем до известной степени так же, как и тот, кому он достался. Но несомненно, что боль, испытываемая при этом нами, весьма незначительна, и поэтому-то, если действительно получивший удар громко при этом кричит, мы невольно чувствуем к нему презрение, ибо у нас самих нет необходимости так громко кричать».
Нет ничего обманчивее общих законов для наших ощущений. Они так тонки и запутанны, что даже самый тщательный анализ едва ли сможет найти их нить и проследить ее во всех ее извивах. Но если бы даже это и удалось, то какая из этого польза? В природе не бывает ни одного чистого ощущения: с каждым одновременно возникают тысячи других, из которых самое ничтожное уже совершенно изменяет основное ощущение. Исключения нагромождаются на исключения, и казавшееся раньше общим законом превращается в конце концов в простое опытное наблюдение, применимое лишь к нескольким частным случаям. Мы презираем того, – говорит англичанин, – кто громко кричит от физических страданий. Но, однако, не всегда и не сразу: не тогда, когда мы видим, что страдающий употребляет все усилия, чтобы скрыть свои муки; не тогда, когда знаем его как человека твердого; еще в меньшей мере тогда, когда видим, как он среди страданий проявляет много мужества, когда мы видим, что страдания могут вынудить у него не больше, чем крик, и что он скорее готов переносить свои муки, чем хотя бы в малейшей степени поступиться своими убеждениями, хотя бы даже при этом он мог надеяться на конец страданий.
Все только что отмеченное мы и видим у Филоктета. Нравственное величие древних греков проявлялось настолько же в неизменной любви к своим друзьям, как и в непреклонной ненависти к врагам. Филоктет сохраняет это величие во всех своих страданиях. Эти страдания не иссушили его глаз настолько, чтобы в них не нашлось слез для оплакивания своих старых друзей. Эти муки не сделали его до такой степени слабодушным, чтобы для освобождения от них он решился простить своим врагам и позволил использовать себя для их своекорыстных целей. Как же афиняне могли презирать этого человека или, скорее, эту твердую скалу за то, что бурные волны, которые могли и поколебать ее, заставили ее только издать звук?
Сознаюсь откровенно, что философия Цицерона вообще мне мало нравится, в особенности же та ее часть, которую он излагает во второй книге своих «Тускуланских вопросов», а именно часть о перенесении физических страданий. Можно подумать, что он хочет создать гладиатора, так сильно восстает он против внешних выражений физической боли. Он видит в них одно лишь нетерпение, забывая, что они часто бывают непроизвольными, между тем как истинное мужество выражается лишь в произвольных действиях. В «Филоктете» Софокла он слышит только жалобы и крики и оставляет без внимания все остальное, всю обнаруживаемую Филоктетом твердость. Но, впрочем, где бы иначе представился ему случай для его риторической выходки против поэтов вообще? «Они расслабляют нас, – говорит он, – заставляя плакать даже самых храбрых людей». Да, но поэты должны заставлять их плакать, потому, что театр – не арена. Осужденному или наемному бойцу следовало действовать и переносить все с невозмутимой твердостью. От него зритель не хотел слушать ни одного жалобного стона, не хотел видеть у него ни одного болезненного движения. Искусство должно было учить его скрывать всякие страдания, ибо его раны и смерть должны были служить забавой для зрителей. Малейшее проявление страдания возбудило бы сочувствие, а частое их повторение положило бы конец этим холодно-жестоким зрелищам. Но то, чего не следовало возбуждать в цирках, составляет единственную задачу трагической сцены, и потому здесь требуется совершенно противоположный образ действий. Герои на сцене должны обнаруживать свои чувства, выражать открыто свои страдания и не мешать проявлению естественных наклонностей. Искусственность и принужденность героев трагедии оставляют нас холодными, и гладиаторы в котурнах должны возбуждать в нас одно только удивление. Такими именно можно считать всех героев в трагедиях, приписываемых Сенеке, и я твердо убежден, что гладиаторские игры были главнейшей причиной низкого уровня римской трагедии. В окровавленном амфитеатре зрители забывали о всех требованиях природы, и разве какой-нибудь Ктезий мог учиться в нем своему искусству, но уже никак не Софокл. Самый сильный трагический гений, привыкнув к этим сценам убийства, возведенного на степень искусства, неизбежно должен был впадать в напыщенность и хвастовство. Но как мало подобное хвастовство может влить в сердце зрителя искреннего мужества, так же мало расслабляют их и жалобы Филоктета. Его стопы принадлежат человеку, а действия – герою. Из того и другого вместе составляется образ героя-человека, который и не изнежен и не бесчувствен, а является или тем или другим, смотря по тому, уступает ли он требованиям природы или подчиняется голосу своих убеждений и долга. Он представляет высочайший идеал, до какого только может довести мудрость и какому когда-либо подражало искусство.
4. Не довольно, что Софокл оградил своего Филоктета от презрения; он искусно предотвратил и все другие нарекания, которые можно было выдвинуть против него, исходя из вышеупомянутых замечаний англичанина. Ибо, если мы не всегда презираем человека, кричащего от физической боли, бесспорно, однако, что мы можем не чувствовать к нему сострадания в той степени, какой, по-видимому, требует он своим криком. Как же должны вести себя те, кто видит перед собой кричащего Филоктета? Должны ли они быть потрясены в той же мере? Но это противно природе. Должны ли они оставаться холодными и рассудительными, как это и бывает в действительности при подобных обстоятельствах? Но это показалось бы зрителям ужасным диссонансом. Как уже, однако, сказано, Софокл сумел предотвратить и это, наделив окружающих Филоктета своими собственными интересами. А потому то впечатление, которое производит на них крик Филоктета, не есть единственное, что их занимает, и зритель обращает внимание не столько на соответствие их сочувствия его крикам, сколько на изменения, которые это сочувствие (слабо или сильно оно) производит или должно было бы производить в их собственных чувствах и намерениях. Неоптолем вместе с Улиссом были причиной гибели Филоктета, и они понимают, какое глубокое отчаяние должен был вызвать в нем их обман. Теперь, на их глазах, он подвергается страшному припадку физической боли. Если этот припадок и не может их соответственно потрясти, он все-таки должен их заставить одуматься, проникнуться уважением к таким сильным страданиям и не обострять их новым предательством. Зритель ожидает всего этого, и благородный Неоптолем не обманывает его ожиданий.
Если бы страдающий Филоктет был в силах владеть собой, он бы не мог заставить Неоптолема бросить притворство; Филоктет же, которого боль делает неспособным ни к какой игре, как это ни необходимо ему, чтобы не допустить своих будущих спутников раскаяться слишком скоро в своем обещании, – Филоктет, являющийся олицетворением естественности, возвращает также и Неоптолему его природное благородство. Это обращение Неоптолема превосходно и кажется тем трогательнее, что причина его – простая человечность. У французов здесь опять появляется на сцену любовь. Но я не хочу более думать об этой пародии. Такой же прием, а именно: сочетание в окружающих сострадания, возбуждаемого криком от физической боли, с их собственными – иного типа – аффектами употребил Софокл и в своих «Трахинеянках». Боль Геркулеса не есть боль изводящая; она возбуждает в нем только бешенство и жажду мести. В порыве этого бешенства он хватает Лихаса и разбивает его о скалы. Хор здесь женский – тем естественнее его страх и отвращение. Этот страх и нерешительное ожидание – придет ли бог на помощь Геркулесу или Геркулес погибнет под тяжестью страданий – составляют здесь главный интерес, на который сострадание накладывает лишь слабый оттенок. Как только исход дела возвещается оракулом, Геркулес успокаивается, и удивление его к собственной последней решимости занимает место всех других переживаний. Не нужно, впрочем, вообще забывать при сравнении страдающего Геркулеса со страдающим Филоктетом, что первый – полубог, а второй – простой смертный. Человеку нечего стыдиться жалоб; полубогу же стыдно, когда в нем смертное, человеческое берет настолько верх над бессмертным, божеским, что заставляет его плакать и стонать, как девицу. Мы, люди нового времени, не верим в полубогов, но требуем, чтобы ничтожнейший герой чувствовал и действовал, как полубог.
На вопрос о том, может ли актер представить так верно крик и болезненные конвульсии, чтобы у зрителя создалась полная иллюзия действительности, я не позволю себе ответить ни утвердительно, ни отрицательно. Если я вижу, что наши актеры не могут сделать этого, мне еще надо убедиться, что этого не мог и какой-нибудь Гаррик; а если бы это не удалось даже и ему, то древняя мимика и декламация могут мне казаться достигшими такого совершенства, о каком мы в настоящее время не можем себе составить даже представления.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.