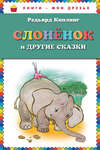Kitabı oku: «Сказки Андерсена. Известные и редкие, без сокращений (сборник)»
© Состав., иллюстрации. ООО ТД «Никея», 2018
Девочка, которая наступила на хлеб


Вы, конечно, слышали о девочке, которая наступила на хлеб, чтобы не запачкать башмачков, слышали и о том, как плохо ей потом пришлось. Об этом и написано, и напечатано.
Она была бедная, но гордая и спесивая девочка. В ней, как говорится, были дурные задатки. Крошкой она любила ловить мух и обрывать у них крылышки; ей нравилось, что мухи из летающих насекомых превращались в ползающих. Ловила она также майских и навозных жуков, насаживала их на булавки и подставляла им под ножки зелёный листик или клочок бумаги. Бедное насекомое ухватывалось ножками за бумагу, вертелось и изгибалось, стараясь освободиться от булавки, а Инге смеялась:
– Майский жук читает! Ишь как переворачивает листок!
С годами она становилась скорее хуже, чем лучше; к несчастью своему, она была прехорошенькая, и ей хоть и доставались щелчки, да всё не такие, какие следовало.
– Крепкий нужен щелчок для этой головы! – говаривала её родная мать. – Ребёнком ты часто топтала мой передник, боюсь, что вырастешь и растопчешь мне сердце!
Так оно и вышло.
Инге поступила в услужение к знатным господам, в помещичий дом. Господа обращались с нею, как со своей родной дочерью, и в новых нарядах Инге, казалось, ещё похорошела, зато и спесь её всё росла да росла.
Целый год прожила она у хозяев, и вот они сказали ей:
– Ты бы навестила своих стариков, Инге!
Инге отправилась, но только для того, чтобы показаться родным в полном своём параде. Она уже дошла до околицы родной деревни, да вдруг увидала, что около пруда стоят и болтают девушки и парни, а неподалёку на камне отдыхает её мать с охапкой хвороста, собранного в лесу. Инге – марш назад: ей стало стыдно, что у неё, такой нарядной барышни, такая оборванная мать, которая вдобавок сама таскает из лесу хворост. Инге даже не пожалела, что не повидалась с родителями, ей только досадно было.
Прошло ещё полгода.
– Надо тебе навестить своих стариков, Инге! – опять сказала ей госпожа. – Вот тебе белый хлеб, снеси его им. То-то они обрадуются тебе!
Инге нарядилась в самое лучшее платье, надела новые башмаки, приподняла платьице и осторожно пошла по дороге, стараясь не запачкать башмачков, – ну, за это и упрекать её нечего. Но вот тропинка свернула на болотистую почву; приходилось пройти по грязной луже. Недолго думая, Инге бросила в лужу свой хлеб, чтобы наступить на него и перейти лужу, не замочив ног. Но едва она ступила на хлеб одною ногой, а другую приподняла, собираясь шагнуть на сухое место, хлеб начал погружаться с нею всё глубже и глубже в землю – только чёрные пузыри пошли по луже!
Вот какая история!
Куда же попала Инге? К болотнице в пивоварню. Болотница приходится тёткой лешим и лесным девам; эти-то всем известны: про них и в книгах написано, и песни сложены, и на картинах их изображали не раз, о болотнице же известно очень мало; только когда летом над лугами подымается туман, люди говорят, что «болотница пиво варит!». Так вот, к ней-то в пивоварню и провалилась Инге, а тут долго не выдержишь!.. От каждого чана разит так, что человека тошнит, а таких чанов тут видимо-невидимо, и стоят они плотно-плотно один возле другого; если же между некоторыми и отыщется где щёлочка, то тут сейчас наткнёшься на съёжившихся в комок мокрых жаб и жирных лягушек. Да, вот куда попала Инге! Очутившись среди этого холодного, липкого, отвратительного живого месива, Инге задрожала и почувствовала, что её тело начинает коченеть. Хлеб крепко прильнул к её ногам и тянул её за собою, как янтарный шарик соломинку.
Болотница была дома; пивоварню посетили в этот день гости: чёрт и его прабабушка, ядовитая старушка. Она никогда не бывает праздною, даже в гости берёт с собою какое-нибудь рукоделье: или шьёт из кожи башмаки, надев которые человек делается непоседой, или вышивает сплетни, или, наконец, вяжет необдуманные слова, срывающиеся у людей с языка, – всё во вред и на пагубу людям! Да, чёртова прабабушка – мастерица шить, вышивать и вязать!
Она увидала Инге, поправила очки, посмотрела на неё ещё и сказала:
– Да она с задатками! Я попрошу вас уступить её мне в память сегодняшнего посещения! Из неё выйдет отличный истукан для передней моего правнука!
Болотница уступила ей Инге, и девочка попала в ад – люди с задатками могут попасть туда и не прямым путём, а окольным!
Передняя занимала бесконечное пространство; поглядеть вперёд – голова закружится, оглянуться назад – тоже. Вся передняя была запружена изнемогающими грешниками, ожидавшими, что вот-вот двери милосердия отворятся. Долгонько приходилось им ждать! Большущие, жирные, переваливающиеся с боку на бок пауки оплели их ноги тысячелетней паутиной; она сжимала их, точно клещами, сковывала крепче медных цепей. Кроме того, души грешников терзались вечной мучительной тревогой. Скупой, например, терзался тем, что оставил ключ в замке своего денежного ящика, другие… да и конца не будет, если примемся перечислять терзания и муки всех грешников!
Инге пришлось испытать весь ужас положения истукана; ноги её были словно привинчены к хлебу.
«Вот и будь опрятной! Мне не хотелось запачкать башмаков, и вот каково мне теперь! – говорила она самой себе. – Ишь, таращатся на меня!» Действительно, все грешники глядели на неё; дурные страсти так и светились в их глазах, говоривших без слов; ужас брал при одном взгляде на них!
«Ну, на меня-то приятно и посмотреть! – думала Инге. – Я и сама хорошенькая, и одета нарядно!» И она повела на себя глазами – шея у неё не ворочалась. Ах, как она выпачкалась в пивоварне болотницы! Об этом она и не подумала! Платье её всё сплошь было покрыто слизью, уж вцепился ей в волосы и хлопал её по шее, а из каждой складки платья выглядывали жабы, лаявшие, точно жирные охрипшие моськи. Страсть, как было неприятно! «Ну, да и другие-то здесь выглядят не лучше моего!» – утешала себя Инге.
Хуже же всего было чувство страшного голода. Неужели ей нельзя нагнуться и отломить кусочек хлеба, на котором она стоит? Нет, спина не сгибалась, руки и ноги не двигались, она вся будто окаменела и могла только водить глазами во все стороны, кругом, даже выворачивать их из орбит и глядеть назад. Фу, как это выходило гадко! И вдобавок ко всему этому явились мухи и начали ползать по её глазам взад и вперёд; она моргала глазами, но мухи не улетали – крылья у них были общипаны, и они могли только ползать. Вот была мука! А тут ещё этот голод! Под конец Инге стало казаться, что внутренности её пожрали самих себя, и внутри у неё стало пусто, ужасно пусто!
– Ну, если это будет продолжаться долго, я не выдержу! – сказала Инге, но выдержать ей пришлось: перемены не наступало.
Вдруг на голову ей капнула горячая слеза, скатилась по лицу на грудь и потом на хлеб; за нею другая, третья, целый град слёз. Кто же мог плакать об Инге?
А разве у неё не оставалось на земле матери? Горькие слёзы матери, проливаемые ею из-за своего ребёнка, всегда доходят до него, но не освобождают его, а только жгут, увеличивая его муки. Ужасный, нестерпимый голод был, однако, хуже всего! Топтать хлеб ногами и не быть в состоянии отломить от него хоть кусочек! Ей казалось, что всё внутри её пожрало само себя и она стала тонкой, пустой тростинкой, втягивавшей в себя каждый звук. Она явственно слышала всё, что говорили о ней там, наверху, а говорили-то одно дурное. Даже мать её, хоть и горько, искренно оплакивала её, всё-таки повторяла: «Спесь до добра не доводит! Спесь и сгубила тебя, Инге! Как ты огорчила меня!»
И мать Инге, и все там, наверху, уже знали о её грехе, знали, что она наступила на хлеб и провалилась сквозь землю. Один пастух видел всё это с холма и рассказал другим.
– Как ты огорчила свою мать, Инге! – повторяла мать. – Да я другого и не ждала!
«Лучше бы мне и не родиться на свет! – думала Инге. – Какой толк из того, что мать теперь хнычет обо мне!»
Слышала она и слова своих господ, почтенных людей, обращавшихся с нею, как с дочерью: «Она большая грешница! Она не чтила даров Господних, попирала их ногами! Не скоро откроются для неё двери милосердия!»
«Воспитывали бы меня получше, построже! – думала Инге. – Выгоняли бы из меня пороки, если они во мне сидели!»
Слышала она и песню, которую сложили о ней люди, песню о спесивой девочке, наступившей на хлеб, чтобы не запачкать башмаков. Все распевали её.
«Как подумаю, чего мне ни пришлось выслушать и выстрадать за мою провинность! – думала Инге. – Пусть бы и другие поплатились за свои! А скольким бы пришлось! У, как я терзаюсь!»
И душа Инге становилась ещё грубее, жёстче её оболочки.
– В таком обществе, как здесь, лучше не станешь! Да я и не хочу! Ишь, таращатся на меня! – говорила она и вконец ожесточилась и озлобилась на всех людей. – Обрадовались, нашли теперь, о чём галдеть! У, как я терзаюсь!
Слышала она также, как историю её рассказывали детям, и малютки называли её безбожницей.
– Она такая гадкая! Пусть теперь помучается хорошенько! – говорили дети.
Только одно дурное слышала о себе Инге из детских уст. Но вот раз, терзаясь от голода и злобы, слышит она опять своё имя и свою историю. Её рассказывали одной невинной, маленькой девочке, и малютка вдруг залилась слезами о спесивой, суетной Инге.
– И неужели она никогда не вернётся сюда, наверх? – спросила малютка.
– Никогда! – ответили ей.
– А если она попросит прощения, обещает никогда больше так не делать?
– Да она вовсе не хочет просить прощения!
– Ах, как бы мне хотелось, чтобы она попросила прощения! – сказала девочка и долго не могла утешиться. – Я бы отдала свой кукольный домик, только бы ей позволили вернуться на землю! Бедная, бедная Инге!
Слова эти дошли до сердца Инге, и ей стало как будто полегче: в первый раз нашлась живая душа, которая сказала: «Бедная Инге!» – и не прибавила ни слова о её грехе. Маленькая, невинная девочка плакала и просила за неё!.. Какое-то странное чувство охватило душу Инге; она бы, кажется, заплакала сама, да не могла, и это было новым мучением.
На земле годы летели стрелою, под землёю же всё оставалось по-прежнему. Инге слышала своё имя всё реже и реже – на земле вспоминали о ней всё меньше и меньше. Но однажды долетел до неё вздох:
«Инге! Инге! Как ты огорчила меня! Я всегда это предвидела!» Это умирала мать Инге.
Слышала она иногда своё имя и из уст старых хозяев.
Хозяйка, впрочем, выражалась всегда смиренно: «Может быть, мы ещё свидимся с тобою, Инге! Никто не знает, куда попадёт!»
Но Инге-то знала, что её почтенной госпоже не попасть туда, куда попала она.
Медленно, мучительно медленно ползло время.
И вот Инге опять услышала своё имя и увидела, как над нею блеснули две яркие звёздочки: это закрылась на земле пара кротких очей. Прошло уже много лет с тех пор, как маленькая девочка неутешно плакала о «бедной Инге»: малютка успела вырасти, состариться и была отозвана Господом Богом к Себе. В последнюю минуту, когда в душе вспыхивают ярким светом воспоминания целой жизни, вспомнились умирающей и её горькие слёзы об Инге, да так живо, что она невольно воскликнула:
«Господи, может быть, и я, как Инге, сама того не ведая, попирала ногами Твои всеблагие дары, может быть, и моя душа была заражена спесью, и только Твоё милосердие не дало мне пасть ниже, но поддержало меня! Не оставь же меня в последний мой час!»
И телесные очи умирающей закрылись, а духовные отверзлись, и так как Инге была её последней мыслью, то она и узрела своим духовным взором то, что было скрыто от земного – увидала, как низко пала Инге. При этом зрелище благочестивая душа залилась слезами и явилась к Престолу Царя Небесного, плача и молясь о грешной душе так же искренно, как плакала ребёнком. Эти рыдания и мольбы отдались эхом в пустой оболочке, заключавшей в себе терзающуюся душу, и душа Инге была как бы подавлена этой нежданной любовью к ней на небе. Божий ангел плакал о ней! Чем она заслужила это?
Измученная душа оглянулась на всю свою жизнь, на всё содеянное ею и залилась слезами, каких никогда не знавала Инге. Жалость к самой себе наполнила её: ей казалось, что двери милосердия останутся для неё запертыми на веки вечные! И вот, едва она с сокрушением сознала это, в подземную пропасть проник луч света, сильнее солнечного, который растопляет снежного истукана, слепленного на дворе мальчуганами, и быстрее, чем тает на тёплых губках ребёнка снежинка, растаяла окаменелая оболочка Инге. Маленькая птичка молнией взвилась из глубины на волю. Но, очутившись среди белого света, она съёжилась от страха и стыда – она всех боялась, стыдилась и поспешно спряталась в тёмную трещину в какой-то полуразрушившейся стене. Тут она и сидела, съёжившись, дрожа всем телом, не издавая ни звука, – у неё и не было голоса.
Долго сидела она так, прежде чем осмелилась оглядеться и полюбоваться великолепием Божьего мира. Да, великолепен был Божий мир! Воздух был свеж и мягок, ярко сиял месяц, деревья и кусты благоухали; в уголке, где укрылась птичка, было так уютно, а платьице на ней было такое чистенькое, нарядное. Какая любовь, какая красота были разлиты в Божьем мире! И все мысли, что шевелились в груди птички, готовы были вылиться в песне, но птичка не могла петь, как ей ни хотелось этого; не могла она ни прокуковать, как кукушка, ни защёлкать, как соловей! Но Господь слышит даже немую хвалу червяка и услышал и эту безгласную хвалу, что мысленно неслась к небу, как псалом, звучавший в груди Давида, прежде чем он нашёл для него слова и мелодию.
Немая хвала птички росла день ото дня и только ждала случая вылиться в добром деле.
Настал сочельник. Крестьянин поставил у забора шест и привязал к верхушке его необмолоченный сноп овса – пусть и птички весело справят праздник Рождества Спасителя!
В рождественское утро встало солнышко и осветило сноп; живо налетели на угощение щебетуньи-птички. Из расщелины в стене тоже раздалось: «Пи! пи!» Мысль вылилась в звуке, слабый писк был настоящим гимном радости: мысль готовилась воплотиться в добром деле, и птичка вылетела из своего убежища. На небе знали, что это была за птичка.
Зима стояла суровая, воды были скованы толстым льдом, для птиц и зверей лесных наступили трудные времена. Маленькая пташка летала над дорогой, отыскивая и находя в снежных бороздах, проведённых санями, зёрнышки, а возле стоянок для кормёжки лошадей – крошки хлеба; но сама она съедала всегда только одно зёрнышко, одну крошку, а затем сзывала кормиться других голодных воробышков. Летала она и в города, осматривалась кругом и, завидев накрошенные из окна милосердной рукой кусочки хлеба, тоже съедала лишь один, а всё остальное отдавала другим.
В течение зимы птичка собрала и раздала такое количество хлебных крошек, что все они вместе весили столько же, сколько хлеб, на который наступила Инге, чтобы не запачкать башмаков. И когда была найдена и отдана последняя крошка, серые крылья птички превратились в белые и широко распустились.
– Вон летит морская ласточка! – сказали дети, увидав белую птичку.
Птичка то ныряла в волны, то взвивалась навстречу солнечным лучам – и вдруг исчезла в этом сиянии. Никто не видел, куда она делась.
– Она улетела на солнышко! – сказали дети.

Дочь болотного царя


Много сказок рассказывают аисты своим птенцам – всё про болота да про трясины. Сказки, конечно, приноравливаются к возрасту и понятиям птенцов. Малышам довольно сказать «крибле, крабле, плурре-мурре», – для них и это куда как забавно; но птенцы постарше требуют от сказки кое-чего побольше, по крайней мере того, чтобы в ней упоминалось об их собственной семье. Одну из самых длинных и старых сказок, известных у аистов, знаем и мы все. В ней рассказывается о Моисее, которого мать пустила в корзинке по волнам Нила, а дочь фараона нашла и воспитала. Впоследствии он стал великим человеком, но где похоронен – никому не известно. Так оно, впрочем, сплошь да рядом бывает.
Другой сказки никто не знает, может быть, именно потому, что она родилась у нас, здесь. Вот уже с тысячу лет, как она переходит из уст в уста, от одной аистихи-мамаши к другой, и каждая аистиха рассказывает её всё лучше и лучше, а мы теперь расскажем лучше их всех!
Первая пара аистов, пустившая эту сказку в ход и сама принимавшая участие в описываемых в ней событиях, всегда проводила лето на даче в Дании, близ Дикого болота, в Венсюсселе, то есть в округе Иеринг, на севере Ютландии – если уж говорить точно. Гнездо аистов находилось на крыше бревенчатого дома викинга. В той местности и до сих пор ещё есть огромное болото; о нём можно даже прочесть в официальном описании округа.
Местность эта – говорится в нём – была некогда морским дном, но потом дно поднялось; теперь это несколько квадратных миль топких лугов, трясин и торфяных болот, поросших морошкой да жалким кустарником и деревцами.
Над всей местностью почти постоянно клубится густой туман. Лет семь – десять тому назад тут ещё водились волки – Дикое болото вполне заслуживало своё прозвище! Представьте же себе, что было тут тысячу лет тому назад! Конечно, и в те времена многое выглядело так же, как и теперь: зелёный тростник с тёмно-лиловыми султанчиками был таким же высоким, кора на берёзках так же белела, а мелкие их листочки так же трепетали; что же до живности, встречавшейся здесь, так мухи и тогда щеголяли в прозрачных платьях того же фасона, любимыми цветами аистов были, как и теперь, белый с чёрным, чулки они носили такие же красные, только у людей в те времена моды были другие. Но каждый человек, кто бы он ни был, раб или охотник, мог проваливаться в трясину и тысячу лет тому назад, так же как теперь: ведь стоит только ступить на зыбкую почву ногой – и конец, живо очутишься во владениях болотного царя! Его можно было бы назвать и трясинным царём, но болотный царь звучит как-то лучше. К тому же и аисты его так величали. О правлении болотного царя мало что и кому известно, да оно и лучше, пожалуй.
Недалеко от болота, над самым Лим-фиордом, возвышался бревенчатый замок викинга, в три этажа, с башнями и каменными подвалами. На крыше его свили себе гнездо аисты. Аистиха сидела на яйцах в полной уверенности, что сидит не напрасно!
Раз вечером сам аист где-то замешкался и вернулся в гнездо совсем взъерошенный и взволнованный.
– Что я расскажу тебе! Один ужас! – сказал он аистихе.
– Ах, перестань, пожалуйста! – ответила она. – Не забывай, что я сижу на яйцах и могу испугаться, а это отразится на них!
– Нет, ты послушай! Она таки явилась сюда, дочка-то нашего египетского хозяина! Не побоялась такого путешествия! А теперь и поминай её как звали!
– Что? Принцесса, египетская принцесса? Да они ведь из рода фей! Ну, говори же! Ты знаешь, как вредно заставлять меня ждать, когда я сижу на яйцах!
– Видишь, она, значит, поверила докторам, которые сказали, что болотный цветок исцелит её больного отца, – помнишь, ты сама рассказывала мне? – и прилетела сюда, в одежде из перьев, вместе с двумя другими принцессами. Эти каждый год прилетают на север купаться, чтобы помолодеть! Ну, прилететь-то она прилетела, да и тю-тю!
– Ах, как ты тянешь! – сказала аистиха. – Ведь яйца могут остыть! Мне вредно так волноваться!
– Я видел всё собственными глазами! – продолжал аист. – Сегодня вечером хожу это я в тростнике, где трясина понадёжнее, смотрю – летят три лебёдки. Но видна птица по полёту! Я сейчас же сказал себе: гляди в оба, это не настоящие лебёдки, они только нарядились в перья! Ты ведь такая же чуткая, мать! Тоже сразу видишь, в чём дело!
– Это верно! – сказала аистиха. – Ну, рассказывай же про принцессу, мне уж надоели твои перья!
– Посреди болота, ты знаешь, есть что-то вроде небольшого озера. Приподымись чуточку, и ты отсюда увидишь краешек его! Там-то, на поросшей тростником трясине, лежал большой ольховый пень. Лебёдки уселись на него, захлопали крыльями и огляделись кругом; потом одна из них сбросила с себя лебединые перья, и я узнал нашу египетскую принцессу. Платья на ней никакого не было, но длинные чёрные волосы одели её, как плащом. Я слышал, как она просила подруг присмотреть за её перьями, пока она не вынырнет с цветком, который померещился ей под водою. Те пообещали, схватили её оперение в клювы и взвились с ним в воздух. «Эге! Куда же это они?» – подумал я. Должно быть, и она спросила их о том же. Ответ был яснее ясного. Они взвились в воздух и крикнули ей сверху: «Ныряй, ныряй! Не летать тебе больше лебёдкой! Не видать родины! Сиди в болоте!» – и расщипали перья в клочки! Пушинки так и запорхали в воздухе, словно снежинки, а скверных принцесс и след простыл!
– Какой ужас! – сказала аистиха. – Сил нет слушать!.. Ну а что же дальше-то?
– Принцесса принялась плакать и убиваться! Слёзы так и бежали ручьями на ольховый пень, и вдруг он зашевелился! Это был сам болотный царь – тот, что живёт в трясине. Я видел, как пень повернулся, глядь – уж это не пень! Он протянул свои длинные, покрытые тиной ветви-руки к принцессе. Бедняжка перепугалась, спрыгнула и пустилась бежать по трясине. Да где! Мне не сделать по ней двух шагов, не то что ей! Она сейчас же провалилась вниз, а за ней и болотный царь. Он-то и втянул её туда! Только пузыри пошли по воде, и – всё! Теперь принцесса похоронена в болоте. Не вернуться ей с цветком на родину. Ах, ты бы не вынесла такого зрелища, жёнушка!
– Тебе бы и не следовало рассказывать мне такие истории! Ведь это может повлиять на яйца!.. А принцесса выпутается из беды! Её-то уж выручат! Вот случись что-нибудь такое со мной, с тобой или с кем-нибудь из наших, тогда бы – пиши пропало!
– Я всё-таки буду настороже! – сказал аист и так и сделал.
Прошло много времени.
Вдруг в один прекрасный день аист увидел, что со дна болота тянется кверху длинный зелёный стебелёк; потом на поверхности воды оказался листочек; он рос, становился всё шире и шире. Затем выглянул из воды бутон, и, когда аист пролетел над болотом, он под лучами солнца распустился, и аист увидел в чашечке цветка крошечную девочку, словно сейчас только вынутую из ванночки. Девочка была так похожа на египетскую принцессу, что аист сначала подумал, будто это принцесса, которая опять стала маленькою, но, рассудив хорошенько, решил, что, вернее, это дочка египетской принцессы и болотного царя. Вот почему она и лежит в кувшинке.
«Нельзя же ей тут оставаться! – подумал аист. – А в нашем гнезде нас и без того много! Постой, придумал! У жены викинга нет детей, а она часто говорила, что ей хочется иметь малютку… Меня всё равно обвиняют, что я приношу в дом ребятишек, так вот я и взаправду притащу эту девочку жене викинга, то-то обрадуется!»
И аист взял малютку, полетел к дому викинга, проткнул в оконном пузыре клювом отверстие, положил ребёнка возле жены викинга, а потом вернулся в гнездо и рассказал обо всём жене. Птенцы тоже слушали – они уже подросли.
– Вот видишь, принцесса-то не умерла – прислала сюда свою дочку, а я её пристроил! – закончил свой рассказ аист.
– А что я твердила тебе с первого же раза? – отвечала аистиха. – Теперь, пожалуй, подумай и о своих детях! Отлёт-то ведь на носу! У меня даже под крыльями чесаться начинает. Кукушки и соловьи уже улетели, а перепёлки поговаривают, что скоро начнёт дуть попутный ветер. Птенцы наши постоят за себя на манёврах, уж я-то их знаю!
И обрадовалась же супруга викинга, найдя утром у своей груди крошечную прелестную девочку! Она принялась целовать и ласкать малютку, но та стала кричать и отбиваться ручонками и ножонками; ласки, видимо, были ей не по вкусу. Наплакавшись и накричавшись, она наконец уснула, и тогда нельзя было не залюбоваться прелестным ребёнком! Жена викинга не помнила себя от радости; на душе у неё стало так легко и весело, – ей пришло на ум, что и супруг её с дружиной явится так же нежданно, как малютка! И вот она поставила на ноги весь дом, чтобы успеть приготовиться к приёму желанных гостей. По стенам развешали ковры собственной её работы и работы её служанок, затканные изображениями тогдашних богов Одина, Тора и Фрейи. Рабы чистили старые щиты и тоже украшали ими стены; по скамьям были разложены мягкие подушки, а на очаг, находившийся посреди главного покоя, навалили груду сухих поленьев, чтобы сейчас же можно было развести огонь. Под вечер жена викинга так устала от всех этих хлопот, что уснула как убитая.
Проснувшись рано утром, ещё до восхода солнца, она страшно перепугалась: девочка её исчезла! Она вскочила, засветила лучину и осмотрелась: в ногах постели лежала не малютка, а большая отвратительная жаба. Жена викинга в порыве отвращения схватила тяжёлый железный дверной болт и хотела убить жабу, но та устремила на неё такой странный, скорбный взгляд, что она не решилась её ударить, ещё раз осмотрелась она кругом; жаба испустила тихий стон; тогда жена викинга отскочила от постели к отверстию, заменявшему окно, и распахнула деревянную ставню. В эту минуту как раз взошло солнце; лучи его упали на постель и на жабу… В то же мгновение широкий рот чудовища сузился, стал маленьким, хорошеньким ротиком, всё тело вытянулось и преобразилось – перед женой викинга очутилась её красавица дочка, жабы как не бывало.
– Что это? – сказала жена викинга. – Не злой ли сон приснился мне? Ведь тут лежит моё собственное дитя, мой эльф! – И она прижала девочку к сердцу, осыпая поцелуями, но та кусалась и вырывалась, как дикий котёнок.
Не в этот день и не на другой вернулся сам викинг, хотя и был уже на пути домой. Задержал его встречный ветер, который теперь помогал аистам, а им надо было лететь на юг. Да, ветер, попутный одному, может быть противным другому!
Прошло несколько дней, и жена викинга поняла, что над ребёнком тяготели злые чары. Днём девочка была прелестна, как эльф, но отличалась злым, необузданным нравом, а ночью становилась отвратительною жабой, но с кротким и грустным взглядом. В девочке как бы соединялись две натуры: днём ребёнок, подкинутый жене викинга аистом, наружностью был весь в мать, египетскую принцессу, а характером в отца; ночью же, наоборот, внешностью был похож на последнего, а в глазах светились душа и сердце матери. Кто мог снять с ребёнка злые чары? Жена викинга и горевала и боялась и всё-таки привязывалась к бедному созданию всё больше и больше. Она решила ничего не говорить о колдовстве мужу: тот, по тогдашнему обычаю, велел бы выбросить бедного ребёнка на проезжую дорогу – пусть берёт кто хочет. А жене викинга жаль было девочку, и она хотела устроить так, чтобы супруг её видел ребёнка только днём.
Однажды утром над замком викинга раздалось шумное хлопанье крыльев, – на крыше отдыхали ночью, после дневных манёвров, сотни пар аистов, а теперь все они взлетели на воздух, чтобы пуститься в дальний путь.
– Все мужья готовы! – прокричали они. – Жены с детьми тоже!
– Как нам легко! – говорили молодые аисты. – Так и щекочет у нас внутри, будто нас набили живыми лягушками! Мы отправляемся за границу! Вот счастье-то!
– Держитесь стаей! – говорили им отцы и матери. – Да не болтайте так много – вредно для груди!
И все полетели.
В ту же минуту над степью прокатился звук рога: викинг с дружиной пристал к берегу. Они вернулись с богатою добычей от берегов Галлии, где, как и в Британии, народ в ужасе молился: «Боже, храни нас от диких норманнов!»
Вот пошло веселье в замке викинга! В большой покой вкатили целую бочку мёда; запылал костёр, закололи лошадей, готовился пир на весь мир. Главный жрец окропил тёплою лошадиною кровью всех рабов. Сухие дрова затрещали, дым столбом повалил к потолку, с балок сыпалась на пирующих мелкая сажа, но к этому им было не привыкать стать. Гостей богато одарили; раздоры, вероломство – всё было забыто; мёд лился рекою; подвыпившие гости швыряли друг в друга обглоданными костями в знак хорошего расположения духа. Скальд, нечто вроде нашего певца и музыканта, но в то же время и воин, который сам участвовал в походе и потому знал, о чём поёт, пропел песню об одержанных ими в битвах славных победах. Каждый стих сопровождался припевом: «Имущество, родные, друзья, сам человек – всё минет, всё умрёт; не умирает одно славное имя!» Тут все принимались бить в щиты и стучать ножами или обглоданными костями по столу; стон стоял в воздухе. Жена викинга сидела на почётном месте, разодетая, в шёлковом платье; на руках её красовались золотые запястья, на шее – крупные янтари. Скальд не забывал прославить и её, воспел и сокровище, которое она только что подарила своему супругу. Последний был в восторге от прелестного ребёнка; он видел девочку только днём во всей её красе. Дикость её нрава тоже была ему по душе. Из неё выйдет, сказал он, смелая воительница, которая сумеет постоять за себя. Она и глазом не моргнёт, если опытная рука одним взмахом острого меча сбреет у неё в шутку густую бровь!
Бочка с мёдом опустела, вкатили новую, – в те времена люди умели пить! Правда, и тогда уже была известна поговорка: «Скотина знает, когда ей пора оставить пастбище и вернуться домой, а неразумный человек не знает своей меры!» Знать-то каждый знал, но ведь знать – одно, а применять знание к делу – другое. Знали все и другую поговорку: «И дорогой гость надоест, если засидится не в меру», и всё-таки сидели себе да сидели: мясо да мёд – славные вещи! Веселье так и кипело! Ночью рабы, растянувшись на тёплой золе, раскапывали жирную сажу и облизывали пальцы. То-то хорошее было времечко!
В этом же году викинг ещё раз отправился в поход, хотя и начались уже осенние бури. Но он собирался нагрянуть с дружиной на берега Британии, а туда ведь было рукой подать. «Только через море махнуть», – сказал он. Супруга его опять осталась дома одна с малюткою, и скоро безобразная жаба с кроткими глазами, испускавшая такие глубокие вздохи, стала ей почти милее дикой красавицы, отвечавшей на ласки царапинами и укусами.
Седой осенний туман, «беззубый дед», как его называют, всё-таки обгладывающий листву, окутал лес и степь. Беспёрые птички-снежинки густо запорхали в воздухе; зима глядела во двор. Воробьи завладели гнёздами аистов и судили да рядили о бывших владельцах. А где же были сами владельцы, где был наш аист со своей аистихой и птенцами?
Аисты были в Египте, где в это время солнышко светило и грело, как у нас летом. Тамаринды и акации стояли все в цвету; на куполах храмов сверкали полумесяцы; стройные минареты были облеплены аистами, отдыхавшими после длинного перелёта. Гнёзда их лепились одно возле другого на величественных колоннах и полуразрушившихся арках заброшенных храмов. Финиковые пальмы высоко подымали свои верхушки, похожие на зонтики. Тёмными силуэтами рисовались сероватые пирамиды в прозрачном голубом воздухе пустыни, где щеголяли быстротою своих ног страусы, а лев посматривал большими умными глазами на мраморного сфинкса, наполовину погребённого в песке. Нил снова вошёл в берега, которые так и кишели лягушками, а уж приятнее этого зрелища для аистов и быть не могло. Молодые аисты даже глазам своим верить не хотели – уж больно хорошо было!
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.