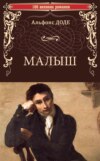Kitabı oku: «История Тома Джонса, найденыша. Том 2 (книги 9-18)», sayfa 2
Глава IV
в которой прибытие военного окончательно прекращает враждебные действия и приводит к заключению прочного и длительного мира между враждовавшими сторонами
В это время в гостиницу прибыл сержант с отрядом мушкетеров, ведя с собой дезертира. Сержант первым делом осведомился, где живет главный член городского магистрата, и получил ответ от хозяина, что исполнение этой обязанности возложено на него. Тогда сержант потребовал билетов на постой и кружку пива, после чего, пожаловавшись на холод, расположился перед кухонным очагом.
Мистер Джонс тем временем утешал свою приунывшую даму, которая села за стол в кухне и, подперши голову рукой, плакалась на свои несчастья. Но чтобы прекрасные мои читательницы не смущались насчет известного обстоятельства, я считаю своим долгом их успокоить: прежде чем выйти из своей комнаты, она так хорошо закуталась найденной там наволочкой, что ее чувство стыдливости нисколько не было оскорблено присутствием в кухне множества мужчин.
Один солдат подошел к сержанту и шепнул ему что-то на ухо; тогда последний остановил свой взгляд на женщине и, внимательно посмотрев на нее с минуту, обратился к ней со словами:
– Извините, сударыня, однако я уверен, что не ошибся! Ведь вы супруга капитана Вотерса?
Бедная женщина, предавшись своему горю, почти не смотрела ни на кого из окружающих, но тут, взглянув на сержанта, она тотчас узнала его и, назвав по имени, отвечала, что она действительно та несчастная, за которую он ее принял.
– Однако я удивлена, – прибавила она, – что меня можно узнать в этом наряде.
На это сержант отвечал, что он крайне поражен, видя ее благородие в такой одежде, и боится, не случилось ли с ней какого несчастья.
– Несчастье со мной действительно случилось, – сказала она, – и я всецело обязана этому джентльмену, – показала она на Джонса, – тем, что оно не оказалось для меня роковым и что я еще в живых и могу говорить о нем.
– Что бы ни сделал джентльмен, – сказал сержант, – капитан, я уверен, вознаградит его; и если я могу быть чем-нибудь полезен, то вашему благородию стоит только приказать. Я почту счастьем услужить вашему благородию, и всякий может смело последовать моему примеру, потому что, я знаю, капитан хорошо за это отблагодарит.
Хозяйка гостиницы, слышавшая сверху весь разговор между сержантом и миссис Вотерс, поспешно спустилась вниз и, подбежав к этой даме, стала просить у нее прощения за нанесенные ей обиды, умоляя отнести все за счет неведения.
– Господи! – говорила она. – Могла ли я подумать, что особа вашего звания явится в таком наряде? Поверьте, сударыня, догадайся я только, что ваше благородие есть ваше благородие, я бы себе скорей язык откусила, чем сказала то, что сказала. И я надеюсь, ваше благородие примет от меня платье, покамест вы достанете свои собственные…
– Перестаньте молоть вздор, любезная, – прервала ее миссис Вотерс. – Неужели вы думаете, что меня может обидеть то, что слетает с языка таких низких тварей, как вы? Меня поражает только ваша самоуверенность: воображать, что после всего случившегося я удостою надеть ваши грязные тряпки! Извольте знать, негодница, что у меня есть самолюбие.
Тут вмешался Джонс и попросил миссис Вотерс простить хозяйку и принять ее платье.
– Я вполне согласен, – сказал он, – что вид у нас был немного подозрительный, когда мы вошли в эту гостиницу, и уверен, что все поступки этой почтенной женщины объясняются, как она говорит, заботой о репутации ее дома.
– Истинная правда, только этой заботой! – воскликнула хозяйка. – Джентльмен говорит, как настоящий джентльмен, и я ясно вижу, что он джентльмен. И точно, дом мой пользуется такой прекрасной репутацией, как ни одна гостиница по всей дороге, и хоть сама хозяйка и говорю это, а только его посещают самые знатные господа – и ирландцы и англичане. Пусть кто-нибудь попробует сказать о нем дурное! И, как я сказала, знай я только, что ваше благородие есть ваше благородие, так я бы скорей пальцы себе сожгла, чем оскорбила ваше благородие, но, понятно, я не желаю, чтобы в доме, куда господа ходят и деньги платят, глаза их оскорбляла разная рвань, которая, где ни пройдет, больше вшей за собой оставит, чем денег. К такой мрази жалости у меня нет ни на грош, да и глупо было бы жалеть таких; если бы наши судьи действовали как следует, так все бы они были выгнаны вон из королевства, – ей-богу, это самое для них подходящее. А что касается вашего благородия, то мне от души жаль, что с вашим благородием приключилось несчастье; и если вашему благородию угодно будет оказать мне честь надеть мое платье, покамест вы достанете свои собственные, то, разумеется, все, что у меня есть лучшего, к услугам вашего благородия.
Холод ли, стыд ли или же уговоры мистера Джонса подействовали на миссис Вотерс – не берусь решить, только речь хозяйки укротила ее гнев, и она удалилась с этой почтенной женщиной одеться поприличнее.
Хозяин тоже обратился к Джонсу с торжественной речью, но был тотчас остановлен великодушным юношей, который дружески пожал ему руку и уверил в полном прощании, сказав:
– Если вы удовлетворены, почтенный мой друг, то объявляю, что и я не питаю к вам никакой злобы.
В самом деле, хозяин в некотором смысле имел больше основания считать себя удовлетворенным, потому что был весь избит, тогда как Джонсу достался разве что один удар.
Партридж, все это время обмывавший у насоса свой расквашенный нос, вернулся в кухню как раз в ту минуту, когда его господин и хозяин гостиницы пожимали друг другу руки. Так как был он нрава миролюбивого, то это выражение мирных чувств пришлось ему по душе: хотя лицо его носило знаки Сусанниных кулаков и особенно ногтей, однако он был доволен этим исходом битвы и не имел никакого желания начинать новую, с целью его улучшить.
Героическая Сусанна тоже осталась довольна своей победой, хотя она стоила ей подбитого глаза – увечье, причиненное ей Партриджем в самом начале схватки. Таким образом, между этими двумя противниками без труда было заключено соглашение, и те самые руки, которые только что были орудием войны, сделались теперь посредниками мира.
Словом, было восстановлено полное спокойствие, по случаю чего сержант, хотя это может показаться противным правилам его профессии, выразил свое полное одобрение.
– Вот это по-дружески! – сказал он. – Ненавижу, когда люди дуются, после того как задали друг другу встрепку. Когда приятели повздорили, то единственный выход – уладить дело честно, по-приятельски: на кулаках ли или на шпагах, или на пистолетах – кому как нравится, но чтоб потом об этом больше ни слова. Что до меня, так черт меня побери, если я не люблю друга больше после того, как подрался с ним! Таить злобу пристало скорее французу, чем англичанину.
Затем он предложил совершить возлияние15 как необходимую часть церемониала при всех соглашениях такого рода. Может быть, читатель заключит отсюда, что он был начитан в древней истории. Хотя такое заключение весьма правдоподобно, но я не стану утверждать это с уверенностью, потому что сержант не сослался ни на чей авторитет в подтверждение этого обычая. Надо думать, что мнение свое он действительно основывал на превосходном авторитете, потому что подкрепил его множеством страшных клятв.
Едва только услышав это предложение, Джонс тотчас же согласился с ученым сержантом и велел подать кубок, или, вернее, большую кружку, наполненную употребляющейся в таких случаях жидкостью, и затем сам начал церемонию. Он положил правую руку на руку хозяина гостиницы, в левую взял кубок и, произнеся полагающиеся слова, совершил возлияние, после чего то же самое было проделано всеми присутствующими. Нет нужды передавать подробности всего ритуала, потому что он мало отличался от тех возлияний, описание которых столько раз встречается у древних авторов и их новейших переписчиков. Различие наблюдалось только в следующих двух отношениях: во-первых, участники лили жидкость только в собственные глотки, и, во-вторых, сержант, отправлявший обязанности жреца, пил последним; но он, я полагаю, не уклонился от древнего ритуала, выпив более остальных и явившись единственным из присутствующих, который не участвовал в расходах, а помогал только своим усердием.
Совершив возлияние, компания разместилась вокруг кухонного очага, где воцарилось безудержное веселье, и Партридж не только позабыл о своем постыдном поражении, но принялся обращать голод в жажду и скоро сделался чрезвычайно забавен. Мы должны, однако, покинуть на некоторое время приятное общество и последовать за мистером Джонсом в комнату миссис Вотерс, где подан был заказанный им обед. Приготовление его не заняло много времени, потому что он был состряпан три дня назад и повару потребовалось только разогреть его.
Глава V
Апология всех героев, обладающих хорошим аппетитом, и описание битвы в любовном роде
Герои, несмотря на высокое мнение, какое они могут возыметь о себе благодаря льстецам или какое может составить о них свет, все-таки больше похожи на смертных, чем на богов. Как бы ни были возвышенны их души, тела их (то есть гораздо большая часть), во всяком случае, подвержены наихудшим немощам и подчинены самым низким потребностям человеческой природы. Среди этих последних принятие пищи, иными мудрецами рассматриваемое как акт презренный и оскорбительный для философского достоинства, должно в какой-то степени производиться величайшими государями, героями и философами мира сего; проказница-природа подчас даже требует от этих великих особ удовлетворения означенных потребностей в гораздо значительнейших размерах, чем от людей самого низкого звания.
Правду сказать, если не известны на земле существа, более высокие, чем человек, то нечего и стыдиться удовлетворения нужд, свойственных человеку, но когда только что названные мной высокие особы снисходят до мысли ограничить удовлетворение этих низких потребностей кругом им подобных, – когда, например, посредством присвоения или истребления съестных припасов они как будто хотят запретить еду другим, – тогда они, несомненно, сами становятся весьма низкими и презренными.
После этого краткого предисловия мы считаем нисколько не зазорным для нашего героя сказать, что он с большим жаром налег на еду. Я сомневаюсь даже, удалось ли когда-нибудь обильнее покушать самому Улиссу, который, кстати сказать, обладал едва ли не лучшим аппетитом среди всех прочих героев этой обжорной поэмы – «Одиссеи»: по крайней мере, три фунта мяса, раньше входившие в состав быка, теперь удостоились чести сделаться частью особы мистера Джонса.
Мы сочли своим долгом упомянуть об этой подробности, потому что она может объяснить временное невнимание нашего героя к своей прекрасной сотрапезнице, которая ела очень мало, будучи занята мыслями совсем другого рода, – обстоятельство, оставшееся Джонсом незамеченным, пока он вполне не утолил голод, возбужденный в нем двадцатичетырехчасовым постом. Но по окончании обеда внимание его к другим предметам оживилось; с этими предметами мы теперь и познакомим читателя.
Мистер Джонс, о физических совершенствах которого мы говорили до сих пор очень мало, был, надо сказать, одним из красивейших молодых людей на свете. Лицо его, помимо того что дышало здоровьем, носило на себе еще самую явственную печать ласковости и доброты. Качества эти были настолько для него характерны, что если ум и живость, светившиеся в его глазах, и не могли остаться незамеченными внимательным наблюдателем, однако легко ускользали от поверхностного взгляда, то добродушие бросалось в глаза почти каждому, кто его видел.
Может быть, этому обстоятельству, а равным образом цвету кожи лицо Джонса было обязано невыразимой нежности, которая придавала бы ему вид женственности, если бы с ним не соединялись чрезвычайно мужественные фигура и стан, в такой же степени напоминавшие Геркулеса, в какой лицо напоминало Адониса. Вдобавок он был подвижен, любезен и весел; жизнерадостность его была такова, что оживляла каждое общество, в котором он появлялся.
Если читатель должным образом оценит все эти обворожительные качества, соединявшиеся в нашем герое, да еще вспомнит, чем ему была обязана миссис Вотерс, то он проявит больше ханжества, чем чистосердечия, составив о ней дурное мнение на том основании, что у нее сложилось очень хорошее мнение о Джонсе.
Но каким бы порицаниям ни давала повод эта дама, мое дело – излагать факты со всей правдивостью. Миссис Вотерс не только составила себе хорошее мнение о нашем герое, но также прониклась к нему большим расположением. Если уж выкладывать все начистоту, она его полюбила в общепринятом теперь значении этого слова16, согласно которому оно прилагается без разбора к предметам всех наших страстей, желаний и чувств и выражает предпочтение, отдаваемое нами одному роду пищи перед другим.
Но если и согласиться, что любовь к этим разнообразным предметам одна и та же во всех случаях, однако нельзя не признать, что проявления ее различны: ведь, как бы мы ни любили говяжий филей, бургундское вино, дамасскую розу или кремонскую скрипку, мы никогда не прибегаем к улыбкам, нежным взглядам, нарядам, лести и иным ухищрениям для снискания благосклонности упомянутого филея и пр. Случается, правда, что мы вздыхаем, но делаем мы это обыкновенно в отсутствие, а не в присутствии любимого предмета. Ведь иначе нам пришлось бы жаловаться на его неблагодарность и глухоту на том же основании, на каком Пасифая17 сетовала на своего быка, которого пробовала расположить к себе всеми приемами кокетства, успешно применявшимися в тогдашних гостиных для покорения более чувствительных и нежных сердец светских джентльменов.
Иное наблюдаем мы в любви, проявляемой друг к другу особями одного и того же вида, но различного пола. В этом случае – не успели мы влюбиться, как главной нашей заботой становится приобрести расположение предмета нашего чувства. Да и с какой другой целью наша молодежь обучается искусству быть приятным? Если бы не было любви, то чем, спрашивается, добывали бы себе средства к существованию люди, промысел которых состоит в том, чтобы выгодно показать и украсить человеческое тело? И даже великие шлифовщики наших манер, которые, по мнению иных, учат нас тому, что преимущественно и отличает нас от скотов, – даже сами танцмейстеры, чего доброго, не нашли бы себе места в обществе. Словом, все изящество, которое молодые леди и молодые джентльмены с таким усердием перенимают у других, и многие прикрасы, которые они сами придают себе с помощью зеркала, в сущности, не что иное, как spicula et faces amoris18, о которых так часто говорит Овидий, или, как их иногда называют на нашем языке, полная любовная артиллерия.
И вот только что миссис Вотерс и герой наш уселись рядышком, как эта дама открыла артиллерийский огонь по Джонсу. Но тут, предпринимая описание, до сих пор не испробованное ни в стихах, ни в прозе, мы считаем нужным воззвать за содействием к некоторым воздушным существам, которые, мы не сомневаемся, любезно явятся к нам на помощь по этому случаю.
Поведайте же нам, о Грации, – вы, обитающие в небесных чертогах Серафины, вы, истинно божественные, всегда наслаждающиеся ее лицезрением и в совершенстве постигшие искусство пленять, – какое употреблено было оружие, чтобы полонить сердце мистера Джонса?
Прежде всего из двух прелестных голубых глаз, блестящие зрачки которых, стреляя, метнули молнии, пущены были два остро отточенных задорных взгляда, но, к счастью для нашего героя, попали они только в большой кусок говядины, который он переправлял тогда себе на тарелку, и без вреда для него истощили свою силу. Прекрасная воительница заметила этот промах, и тотчас из прекрасной груди ее вырвался смертоносный вздох. Вздох, который невозможно слышать безучастно и который способен поразить насмерть дюжину франтов, – до того сладкий, до того мягкий, до того нежный, что его вкрадчивое дыхание, наверное, проложило бы путь к сердцу нашего героя, если бы, по счастью, звук его не был отведен от ушей его грубым шипением пива, которое он наливал в эту минуту. Много другого оружия испробовала она, но бог еды (если только есть таковой, в чем я не уверен) охранял своего почитателя; или, может быть, то не был dignus vindice nodus19, и невредимость Джонса можно объяснить естественным образом: ведь если любовь часто охраняет нас от приступов голода, то и голод в известных случаях способен защитить нас от любви.
Красавица, взбешенная столькими неудачами, решила на короткое время сложить оружие. Передышку эту она употребила на приведение в боевую готовность всех орудий любовного арсенала, чтобы возобновить атаку по окончании обеда.
Поэтому, как только со стола было убрано, она возобновила военные операции. Первым делом, направив свой правый глаз наискось, в сторону мистера Джонса, она метнула из уголка его проникновеннейший взгляд, который хотя и потерял значительную часть своей силы, прежде чем достиг нашего героя, однако остался не вовсе без результата. Приметя это, красавица поспешно отвела глаза и опустила их долу, словно встревоженная тем, что она наделала, – хотя таким способом намеревалась только ослабить его бдительность и заставить открыть глаза, через которые рассчитывала захватить врасплох его сердце, после чего, тихонько подняв два блестящих глаза, уже начинавших оказывать действие на бедного Джонса, она дала по нем залп маленьких чар, заключенных в улыбке. Не в радостной или в веселой улыбке, а в улыбке приветливой, которая всегда бывает наготове у большинства женщин и служит им средством показать сразу хорошее расположение, грациозные ямочки и белые зубки.
Улыбка эта угодила нашему герою прямо в глаза и сразу его пошатнула. Он начал прозревать планы неприятеля и чувствовать их успех. Между враждующими сторонами завязались переговоры, во время которых лукавая красавица так хитро и неприметно продолжала вести атаку, что почти покорила сердце нашего героя еще до возобновления военных действий. Признаться откровенно, я боюсь, что мистер Джонс придерживался голландского способа защиты и изменнически сдал гарнизон, не приняв должным образом во внимание своих обязательств по отношению к прекрасной Софье. Словом, как только любовные переговоры кончились и дама вывела из укрытия главную батарею, нечаянно спустив с шеи платок, сердце мистера Джонса было совершенно покорено, и прекрасная победительница пожала обычные плоды своего торжества.
Здесь Грации полагают приличным кончить свое описание, мы же полагаем приличным кончить главу.
Глава VI
Дружеская беседа на кухне, окончившаяся очень обыкновенно, хотя не очень дружески
Покамест наши любовники развлекались способом, отчасти описанным в предыдущей главе, они доставляли развлечение также и добрым друзьям своим на кухне. Развлечение двойное: давали им предмет для разговора и в то же время снабжали напитками, вносившими в общество приятное оживление.
Кроме хозяина и хозяйки, по временам отлучавшихся из комнаты, вокруг камелька на кухне собрались мистер Партридж, сержант и кучер, привезший молодую леди и ее горничную.
Когда Партридж рассказал обществу, со слов Горного Отшельника, о положении миссис Вотерс, в котором ее нашел Джонс, сержант, в свою очередь, сообщил все, что ему было известно относительно этой дамы. Он сказал, что она супруга мистера Вотерса, капитана его полка, за которым часто следовала вместе с мужем.
– Есть люди, – заметил он, – которые сомневаются в том, что они обвенчаны по всем правилам в церкви. Но я считаю, что это не мое дело. Должен только признаться, если б пришлось показывать под присягой в суде: по-моему, она немногим лучше нас с вами, и, мне кажется, капитан попадет на небо, когда солнышко в дождь засияет. Да если и попадет, так все равно в компании у него недостатка не будет. А дамочка, надо правду сказать, славная, любит нашего брата и всегда готова оградить нас от несправедливости: она частенько выручала наших ребят, и если б от нее все зависело, так ни один не был бы наказан. Только вот в последнюю нашу стоянку очень уж она сдружилась с прапорщиком Норсертоном, что правда, то правда. Капитан-то об этом ничего не знает; а раз и для него остается вдоволь, так какая в этом беда? Он ее любит от этого ничуть не меньше и, я уверен, проткнет каждого, кто скажет про нее худое; поэтому и я ничего худого говорить не буду, я только повторяю то, что другие говорят; а если все говорят, так уж, верно, в этом есть хоть немного правды.
– Да, да, много правды, ручаюсь вам, – заметил Партридж. – Veritas odium parit20.
– Вздор и клевета! – воскликнула хозяйка. – Теперь, когда она приоделась, так выглядит самой благородной дамой, и обращение, как у благородной: дала мне гинею за то, что надела мое платье.
– Прекрасная, благородная дама, – подхватил хозяин, – и если б не твоя запальчивость, так ты бы не поссорилась с ней вначале.
– Не тебе бы говорить об этом! – возразила хозяйка. – Если б не твоя глупая голова, так ничего бы не случилось. Просят тебя вечно соваться куда не следует и толковать обо всем по-дурацки!
– Ну, ладно, ладно, – отвечал хозяин, – что прошло, того не воротишь, так и не будем больше толковать об этом.
– Ну, не будем, а только ведь завтра все сызнова начнется. Уж не в первый раз терпеть приходится от твоей дурацкой башки. Было бы хорошо, если бы в доме ты всегда держал язык за зубами и вмешивался только в то, что за воротами и что тебя касается. Или ты забыл, что случилось семь лет тому назад?
– Ах, милая, не откапывай старых историй! – сказал хозяин. – Теперь все уладилось, и я жалею о том, что наделал.
Хозяйка собиралась возразить, но была остановлена сержантом-миротворцем, к глубокому огорчению Партриджа, большого любителя потешиться и искусного поджигателя безобидных ссор, приводящих скорее к комическим, чем к трагическим, положениям.
Сержант спросил Партриджа, куда он направляется со своим господином.
– Никаких господ! – отвечал Партридж. – Я не слуга, смею вас уверить; хоть я и испытал несчастья в жизни, а все-таки называю себя джентльменом, когда подписываюсь. Сейчас я выгляжу бедным и простым, а было время, когда я держал грамматическую школу. Sed heu mihi! non sum quod fui21.
– Надеюсь, сэр, вы не обиделись, – сказал сержант. – Однако осмелюсь спросить, куда же вы направляетесь с вашим другом?
– Теперь вы наименовали нас правильно, – отвечал Партридж, – amici sumus22. И да будет вам известно, что мой друг – один из первых джентльменов в королевстве. – При этих словах хозяин гостиницы и жена его насторожились. – Он наследник сквайра Олверти.
– Как! Сквайра, который делает столько добра во всей стране? – воскликнула хозяйка.
– Того самого, – отвечал Партридж.
– Так я вам доложу, – продолжала она, – у него будет со временем громадное состояние.
– Без всякого сомнения, – отвечал Партридж.
– Да, я с первого взгляда узнала в нем настоящего джентльмена, но мой муж, здесь присутствующий, изволите ли видеть, всегда умнее всех.
– Милая, я признаю свою ошибку, – сказал хозяин.
– Ошибку! – не унималась его супруга. – А сделала ли я хоть раз такую ошибку?
– Но как же это, сэр, – удивился хозяин, – такой большой барин путешествует пешком?
– Не знаю, – отвечал Партридж, – большие господа иногда чудят. Сейчас у него в Глостере двенадцать лошадей и лакеев, и ничем ему не угодишь; но прошлую ночь, когда стояла такая жара, ему непременно захотелось освежиться прогулкой на высокую гору, куда я тоже ходил с ним за компанию. Только теперь уж меня туда не заманишь: такого страху натерпелся я там. Мы встретились на горе с престранным человеком.
– Голову даю на отсечение, – сказал хозяин, – если это был не Горный Отшельник, как его здесь прозвали. Добро б еще это был человек, но я знаю многих, которые убеждены, что он – дьявол.
– Да, да, очень похоже, – согласился Партридж, – и теперь, когда вы меня надоумили, я искренне убежден, что это был дьявол, хоть я и не заметил у него раздвоенных копыт; впрочем, может быть, он наделен силой прятать их: ведь злые духи принимают вид, какой им вздумается.
– А позвольте, сэр, не в обиду вам будь сказано, – спросил сержант, – позвольте узнать: что это за гусь – дьявол? Некоторые наши офицеры говорят, что никакого дьявола нет и что его только попы выдумали, чтоб не остаться без работы: ведь если бы всему миру стало известно, что дьявола нет, так в попах не было бы никакой нужды, вроде как в нас в мирное время.
– Эти офицеры, – заметил Партридж, – должно быть, очень ученые.
– Ну, какие они ученые! – отвечал сержант. – Они, я думаю, и половины того не знают, сэр, что вы знаете; и я всегда в дьявола верил, несмотря на их уговоры, хоть один из них и капитан; ведь если б не было дьявола, думал я, как же тогда посылать к нему негодяев? Обо всем этом я в книге читал.
– Кое-кто из ваших офицеров, я думаю, убедится, к стыду своему, в существовании дьявола, – заметил хозяин. – Я не сомневаюсь, что он заставит их уплатить мне по старым счетам. Вот один стоял у меня целых полгода, так у него хватило совести занять лучшую постель, а сам едва ли больше шиллинга в день издерживал, да еще позволял своим людям варить капусту на кухонном огне, потому что я не хотел отпускать им обед по воскресеньям. Каждый добрый христианин должен желать, чтобы был дьявол, который наказывал бы таких негодяев.
– Послушайте-ка, хозяин, – сказал сержант, – не оскорбляйте мундира, я этого не допущу!
– К черту мундир! – отвечал хозяин. – Довольно я от него натерпелся.
– Будьте свидетелями, джентльмены, – сказал сержант, – он ругает короля, а это государственная измена.
– Я ругаю короля? Ах, негодяй! – возмутился хозяин.
– Да, да, – сказал сержант, – вы ругали мундир, а это значит ругать короля. Это одно и то же: кто ругает мундир, тот и короля будет ругать, если посмеет, так что это совершенно одно и то же.
– Извините, господин сержант, – заметил Партридж, – это non sequitur23.
– А ну вас с вашей чужеземной тарабарщиной! – воскликнул сержант, вскакивая с места. – Я не буду сидеть спокойно и слушать, как оскорбляют мундир.
– Вы плохо меня поняли, приятель, – сказал Партридж, – я и не думал оскорблять мундир; я сказал только, что ваше заключение non sequitur.
– Сами вы sequitur, коли на то пошло, – разбушевался сержант. – А я вам не sequitur! Все вы прохвосты, и я докажу это. Ставлю двадцать фунтов, что никто из вас не устоит против меня.
Этот вызов привел к полному молчанию Партриджа, у которого после только что полученного жирного угощения еще не вернулся аппетит к потасовке. Зато кучер, у которого кости не болели и зуда к драке было больше, не так легко перенес обиду, считая, что она частью относится и к нему: он поднялся с места и, подойдя к сержанту, поклялся, что считает себя не хуже любого военного, почему и предлагает ему драться на кулачках за гинею. Сержант принял предложение, но заклад отверг, после чего оба тотчас же скинули кафтаны и вступили в единоборство, – и погонщик лошадей был так отколочен водителем людей, что принужден был остаток сил своих употребить на мольбу о пощаде.
В это время молодая леди изъявила желание ехать и приказала закладывать карету, – но напрасно: весь этот вечер кучер был неспособен к исполнению своих обязанностей. В пору языческой древности такую неспособность объяснили бы, вероятно, действием бога вина в не меньшей степени, чем действием бога войны, так как оба бойца принесли жертвы одинаково и первому и второму. Выражаясь проще, оба были мертвецки пьяны, да и Партридж находился не в лучшем положении. Что же касается хозяина, то выпивка была его ремеслом, и напитки имели на него не больше действия, чем на любую другую посудину в его доме.
Хозяйка гостиницы, приглашенная мистером Джонсом и его спутницей к чаю, представила им полный отчет о последней части предыдущей сцены и в то же время выразила горячее сожаление о молодой леди, «которая, – говорила она, – крайне обеспокоена тем, что не может продолжать свою поездку».
– Что за прелестное создание! – прибавила она. – Я уверена, что когда-то ее видела. Сдается мне, что она влюблена и бежала от своих родных. Кто знает, может быть, ее ждет молодой джентльмен, который тоже от нее без памяти.
При этих словах Джонс глубоко вздохнул. Хотя миссис Вотерс это заметила, она не подала виду, пока хозяйка была в комнате; однако после ухода этой почтенной женщины она не могла удержаться от некоторых намеков нашему герою, что подозревает существование очень сильной соперницы. Замешательство Джонса по этому случаю убедило ее в справедливости догадки, хотя он и не ответил прямо ни на один из ее вопросов. Впрочем, миссис Вотерс не была настолько щепетильна в любви, чтобы почувствовать большое огорчение от этого открытия: красота Джонса пленяла ее взоры, но так как сердце его она не могла видеть, то и не сокрушалась на этот счет. Она прекрасно могла пировать за трапезой любви, не думая о том, что за ней уже сидела или сядет впоследствии другая, – чувство, которое, правда, не гонится за изысканностью, зато не пренебрегает существенностью; оно менее прихотливо и, может быть, менее жестоко и эгоистично, чем желания женщин, способных без труда удержаться от обладания своим возлюбленным, если они достаточно убеждены, что им не обладают другие.