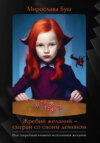Kitabı oku: «Рано. Поздно. Никогда»
© Ирина Самохина, 2021
ISBN 978-5-0053-8429-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава 1. Писатель
Он свято верил только в одно: в свой талант. Он уверовал в него еще в детстве и поклонялся своей избранности со слепым упорством истинного фанатика. Она же, «избранность», сверкая и ослепляя со своего пьедестала, гулким голосом матери твердила ему, что он не такой, как все. Все – это безликая толпа. Её авангард менялся: одноклассники, однокурсники, коллеги, – но по своей сути она была всё той же серой массой.
Он ждал так долго… так мучительно… Как томится в изгнании на чужбине наследник некогда великой династии, свергнутой и забытой. Ему обещала мама, что будущее будет принадлежать только ему. Но нет ничего хуже, чем жить жизнью, к которой ты не готов, которую не ждал и которую считаешь подлогом. Этакое чужое куцее пальтишко, выданное несговорчивым портье вместо твоего оставленного горностая.
Каждое утро, подходя к зеркалу, он видел что-то уродливое, мутное, заляпанное… Он видел свою жизнь, как она есть. И если вечером в дыму и винных парах всё наполнялось грядущим величием и смыслом, то утром – нет! Оно было безжалостно! Его копья-лучи прогоняли сладкий дурман, безжалостно коля глаза и высвечивая пылинки, кружащиеся в тишине.
Он был совсем один. Безусловно, не принимая всерьез тех редких женщин, которые разгоняли с ним пыльные хлопья его спальни. Они были объектами: не больше и не меньше пустых бокалов. Он был субъектом: не больше и не меньше своей избранности. Он был… Писателем.
* * *
Она смотрит на него с обожанием. Всплескивает руками и аплодирует каждый раз, когда он хочет внимания, будь то показ нарядов из штанин на голове или раскидистые разводы краски на листе. Особенно восторженно она хлопает в ладоши, когда он читает свои сочинения. Все они складываются в упругую потрепанную папку, чтобы следующим днем быть насильно представленными сотрудницам на работе. В этот крохотный обеденный перерыв в маленькой коморке для санитарок в уездной больнице города N.
Но она не всегда такая добрая и нежная… Он до сих пор помнит, как меняется ее взгляд, чувствует свистящие удары ремня, и по сей день он не может выносить темноту после многих часов, проведенных в душном чулане. Но он также бережно хранит в голове: каждое утро любовно сложенную и отутюженную одежду; изумительные подарки, купленные на последние сэкономленные деньги, и, конечно же, это громкое, зычное «мой сын – гений!». Мама…
Ей пришлось растить его одной. В этом забытом Богом и неинтересном даже черту городе N. Они жили друг для друга, словно на необитаемом острове, одни среди всех этих людей. Среди этой пустой и безликой массы. Казалось, все смеялись над ними, не уважали, не принимали. Разве знали они, что не стоят и клочка залатанного платья матери? Разве думали, что смеются в спину гению? Они не видели будущего таким, каким оно должно прийти для него. Сверкающим и всепобеждающим царственным возмездием за все годы лишений и унижений.
В этой крохотной коробке, которую язык не поворачивался назвать жильем, на последнем этаже покосившегося дома взращивался избранный. Особенный мальчик. Мамин сын, который вывезет их из этих нечистот на белом коне своей великой судьбы.
«Мой сын – гений!» – так начинались ее беседы с окружающими, и так заканчивался каждый его день, теплым шёпотом над самым ухом.
* * *
Писатель живет на пересечении двух миров: реального и создаваемого своей фантазией. Часто вынырнуть в действительность из потока мыслей, сюжетов и переливов фраз бывает очень сложно. Когда с ним происходит такое, он чувствует колоссальный прилив адреналина, он не может спать, есть, думать о чем-либо другом. Эта электрическая волна взвинчивает его разум до предела; всё кипит, бурлит! Голос внутри говорит стройными и красивыми фразами, рисуя причудливый узор из его мыслей. Писателю не остановиться, не разорвать эту связь. А после наступает тишина. Голос замолкает. От радостного возбуждения остается лишь головная боль. И эта немота может длиться неделями. И лист на компьютере всё так же пуст и неприлично бел.
Раньше голос вещал намного чаще. И что важнее – гораздо выразительнее и вдохновеннее. Всё ведь из-за того, что они не понимали его и не принимали. Эти сильные мира литературы. Каждую ночь он вел с ними молчаливый диалог. Он доказывал, убеждал, обличал! Его избранность побеждала их слепоту. Сколько порогов издательств было истоптано, сколько писем было отправлено. Половина маленького тиража его единственной изданной книги пряталась в пожелтевших коробках в углу спальни. Другая половина разошлась по книжным лавкам и осела где-то на антресолях невзыскательной публики.
На заляпанном журнальном столике – ослепительно белый конверт, как лебедь посреди грязного черного пруда. Каждый раз он замирает, прежде чем распечатать его. Если бы мама была жива, она бы сделала это за него. Такова была ее работа – быть громоотводом между ним и ими. Между гением и стервятниками. Но ее уже нет. Однако ее густой голос до сих пор живет в его голове – ее просторечие и неправильные ударения… Странно, что именно она была его матерью. Между тем белый конверт ждет своего часа. Удар сердца – трещит шелковистая бумага; еще удар – пальцы раскрывают лист; удар – буквы собрались в единый смысл. Бессмысленный, на редкость, смысл. Опять отказ. Он знает эти формулировки наизусть. Спертый воздух этой комнаты застывает перед ним, секунда потянулась, как пружина, и, наконец, схлопнулась. Происходит детонация: он в исступлении кричит, швыряет попавшиеся под руку предметы. Что-то бьется, что-то разлетается. Как вы могли?! Как?! Глупцы!
Уже после Писатель медленно втягивает едкий дым, и на долю секунды приходит утешение. Что бы сказала мама? Он закручивается в воронку своих воспоминаний.
* * *
Он всегда был среднестатистическим мальчиком, в меру рослым, в меру упитанным. Даже скорее приятным внешне. Неплохо учился. Но, несмотря на это, всегда был изгоем. Странно, нелогично, немыслимо! Его детскому разуму всегда казалось, что отвергать должны каких-то уродцев. Но за что его? Однако жестокие дети, а потом и целый жестокий мир не жалуют «других». Непохожесть и нестандартность пугают, а всё, что страшит, автоматически требует подавления. Нет оснований к вражде, но ты просто другой вид, непонятная особь, служащая напоминанием, что человек – самый опасный хищник. Его влечет не запах крови, а запах инакомыслия, точнее, его нестерпимый смрад. Писатель помнил каждодневные смешки и тычки в спину. Как же они так сразу узнали, что он особенный? Может, он дольше, чем другие, смотрел в окно? Может, медленнее понимал суть игры? Вероятно, был одет беднее многих и не поддерживал глупые разговоры большинства. Возможно, за это его как-то заперли в школьной подсобке, и мама, с боем проникшая вечером в школу, долго утешала его. И те слова до сих пор живут в нем: «Ты особенный! Избранный! Мой – гений! Они все пожалеют! Ты победишь всех этих ничтожеств!»
И он верил и ждал светлого дня. Мама отправляла его стихи и очерки во все местные газеты, на все олимпиады и конкурсы. Удача начала благоволить ему: много хороших отзывов и оценок получали его произведения. Но каждая его пусть и маленькая, но «победа» отдаляла его от окружающей жизни. Он шел вразрез со всем происходящим вокруг, как маленькое судно, идущее на таран большого корабля. Как-то его сочинение признали лучшим в школе, и он радостно спешил домой – поскорее похвастаться маме. На дворе правила золотая осень – этакая квинтэссенция цвета и света. Все эти спелые, сочные краски были подобны жирным мазкам мастихина: всё объемное, всё необъятное… Юный писатель шагал, любуясь красотой, в голове его, как листья, кружились мысли. Он сочинял что-то, не замечая ничего вокруг… Поэтому был ошарашен резким толчком в спину. Опять они! Эти тупые хулиганы из его класса. Им нравилось доставать его, ведь это было легко.
– Ну что, умник, опять отличился? Только вся твоя писанина – дерьмо!
Дружный гогот дружков подогревал в вожаке уверенность в своем остроумии.
– Слышь, а дай почитать! – скомандовал он.
Писатель, совсем мальчишка, стоял не шевелясь, крепко прижимая к себе рюкзак.
– Чё, глухой?! Дай! – и кто-то рванул его рюкзак.
Но он не отдавал. До белизны костяшек он сжал протертую ткань. Он, конечно, знал, чем закончится это противостояние, но не отпускал. Он не боялся, просто устал от всего этого. С третьим рывком рюкзак оказался у врагов. Они достали его сочинение, зачитали с тупым смехом несколько строк.
– Отдайте! – потребовал Писатель.
– А забери! – не унималась компания.
И опять он знал, что ничего из этого не выйдет. Жалкое зрелище – бегать и пытаться выхватить свое творение у этого стада.
И тут вожак достал зажигалку и поднес к исписанной ровным почерком бумаге, и она моментально вспыхнула. Пламя поползло вверх, пожирая его строки, его мысли, его чувства. Обида прорвалась, и он кинулся к этому здоровяку, попав кулаком ему в скулу. О, это он зря! Понимание этого пришло моментально. С первым ударом в живот и с другими ударами, сыплющимися один за другим.
– Что вы делаете?! Хулиганы! Безобразие! Оставьте мальчика! – донесся до него крик какой-то женщины. И они стремительно разбежались, как положено тараканам при резко включенном свете.
Пока сердобольная женщина поднимала его, он всё смотрел на пожар кленов над головой, на большие изрезанные яркие листья. Капля крови с губы упала на красный лист под ногами. Какая идеальная совместимость: алое на алом. Осень – квинтэссенция цвета, да.
Теперь он стал различать речь, обращенную к нему. Женщина хлопотала вокруг, отряхивала и приговаривала: «Бедный, бедный мальчик! За что они так с тобой?! Это нелюди, просто нелюди какие-то!»
Нелюди… он усмехнулся. Почему так называют каких-то отморозков? Не хотят иметь с ними ничего общего? Не льстите же себе – это именно люди. Такие же, как и вы: плоть, кровь, сеть нейронов… Посмотрите на животных – да, они не носят это гордое знамя «человек», но человечности в них бывает побольше, чем в некоторых из нас. Нелюди… нет, их не существует. Это такие же люди, ходящие на двух ногах по земле. Примите этот факт и живите с ним, боязливо выходя на улицу поздним вечером.
* * *
Он отучился в этой гадкой школе, поступил в университет и сбежал из этого захолустья. Денег катастрофически не хватало. И если раньше, понимая, что они бедны, он с долей нигилистической гордости отмечал, что не так уж и туго приходится беднякам, то сейчас, в этом большом городе, он в полной мере осознал, что значит засыпать и просыпаться голодным, считать каждую копейку, выбирая между едой и обувью. Тут стало не до образа мученика, король драмы был по-настоящему гол. Пришлось искать работу. Работа ночами, учеба днем – всё превратилось в какой-то дьявольский аттракцион, бешеная скорость которого, раскручивая до тошноты, не позволяла уже понять, кто ты и где. Он не мог писать, не мог учиться! Всё, чего он хотел – чтобы о нем позаботились. Он не мог выносить этот огромный мир, а мир не мог выносить его. И тут она, как всегда, пришла ему на помощь. Мама будто снова вызволила его из той темной и затхлой подсобки. Она продала всё, что было, и приехала к нему. В самый тяжкий час, в самый нужный миг, когда он не мог больше идти, когда его ноша вдавила его в землю, мама подхватила его и вытащила на свет.
Странная человеческая суть: почитать и одновременно ненавидеть своего вечного спасителя. Каждый раз быть меньше, слабее, беспомощнее, и это постоянное напоминание – лицо твоего защитника! Причудливый коктейль из благодарности, зависимости и раздражения разлился по венам Писателя. Он осознал, что без этой необразованной, толстой и неопрятной женщины он никто. И это знание причиняло ему боль, жгло внутренности непонятным ядом. Но каждому яду необходимо противоядие, и он нашел его… И заливал в горло, как только мысль о своей никчемности динамиком гудела в разгорячённой голове. Хмельные волны расслабляли и несли к обетованным берегам иллюзий. Так в его жизни появился третий, после себя и матери, значимый элемент – зеленый змей.
* * *
– Я – ночь… долгая полярная ночь… но как же хочется увидеть солнце… но разве может ночь встретиться со светилом? Вот и мне не дано обладать тем, чего я так хочу. Сколько бы я ни шел, всё равно ночь. И пустота.
Писатель едва заметно шевелил губами, повторяя эти строки. Что это? Мысли, рожденные для его книги, или мысли, рожденные для его жизни? Ему нравилось повторять эти строки снова и снова, сидя на широком подоконнике большого университетского окна. Весеннее солнце струилось через свежевымытые стекла, наполняя помещение мягким светом и утренней невинностью. А за окном уже пробудилось что-то волшебное, что скоро заставит и природу, и людей преобразиться. Воздух, сам того не желая, наполнялся какими-то нежными и чувственными феромонами, и юная трепетная кровь самая первая ощущала их приближение. Она подхватывала этот флёр, как своеобразный вирус, и несла его по всему телу в поисках выхода – объекта, на который можно было излиться. И эта горячая волна обдала его с ног до головы, когда он увидел ее. Огненные кудри непослушно падали ей на лицо, она откидывала их назад и громко смеялась. Писатель не мог расслышать разговор, но что-то очень веселило рыжеволосую девушку. Ее лицо было нельзя назвать красивым, но если бы он был художником, то непременно нарисовал ее портрет; если бы был скульптором – вылепил бы ее дерзкие черты. Ему казалось, что в теплом весеннем воздухе застыл и до сих пор звенит ее смех – пронзительная скрипка в сопровождении игривых бубенчиков. Странно, почему он не встречал ее раньше? Или попросту не замечал?
Весь день он не мог прогнать ее образ. Он думал о ней на лекциях, в метро, за прилавком ночного магазина. Он думал о ней так много, что решил: это настоящая жажда. Жажда видеть, слышать, обладать. Почему с ним не случалось этого раньше? Вся литература служит этому чувству. Лучшие умы восхваляют, исследуют, преклоняются, желают любви. Сколько слов написано. Любовь сотворила лучшие строки! Дала жизнь величайшим рукописям. Это необъяснимое чувство управляет всем, оно дает жизнь искусству. И только сейчас он по-настоящему понял, о чем так много читал. Но теперь он был потрясен, обескуражен, растерян! Что теперь делать с этой жаждой? И он поступил, как свойственно писателю, – стал творить. Никогда еще из-под его руки не выходили такие стройные и красивые строки! Он писал, как одержимый. Его захватило нечто новое, пугающее и управляющее им… Небывалый всплеск вдохновения поднял его до небес. Черт! И по сей день он считает, что лучшее, что было создано им, относится ко времени, когда он любил ее. Пусть недолго, пусть глупо, но любил.
Ее облик посылал импульсы во все клетки его тела; и они откликались и щекотали изнутри. Его бросало то в жар, то в холод от одной мысли о ней. Он не мог больше ждать. Ему уже недостаточно мыслей и взглядов. Теперь он не визуал, ему нужна кинестетика. Зачем эта рыжеволосая лиса проникла в его разум и сердце? Он много читал о том, как женщины заставляют мужчину забыть обо всем, как ломают его жизнь. Он знал всё это… Но знать и испытать самому – вещи совершенно разные. Теперь ему открылась сама суть, невидимая нить, пронизывающее всё сущее. Его талант обогатился невероятной новой силой. Словно невидимая муза нашептывала ему на ухо нескончаемый поток строк. Только вот вопрос, была ли это Эвтерпа или Мельпомена?
Ребячество – любить кого-то совершенно незнакомого. Однако это и есть сама любовь. Необъяснимо, нелогично, неосмотрительно. Зачарованный вымышленным образом, Писатель понял, что час настал. Учебный год заканчивался, а он так и не приблизился к объекту своего обожания ни на сантиметр. Он долго смотрел на нее в университетском саду. Пожалуй, он понял, что его так притягивало в ней, если, конечно, такому чувству вообще может быть объяснение. В ней бурлила жизнь! Она была эмоциональна, энергична, открыта. Полная противоположность ему самому. Хрупкая, порывистая, с этой копной огненных волос. Он прозвал ее Лисой. Крадучись, подобно охотнику, он подошел совсем близко. Небывалое сближение. Какой момент! Он не мог выдерживать это напряжение и поспешил ретироваться, как вдруг услышал это звонкое «привет!».
Писатель не мог вспомнить, что было потом. Спустя многие годы он старался восстановить в памяти их диалог, но как ни пытался – всё было тщетно. Он запомнил только ее глаза цвета молодой листвы.
Это было сказочно: общаться с ней, смеяться, просто делить одно пространство… Впервые ему показалось, что его жизнь не такая темная. Золотое свечение этой девушки прогоняло мрак, и всё вокруг принимало форму, очертание, цвет. И всё было чудесно, кроме одного: она не любила его. Его Лиса жила по каким-то другим биоритмам; чуждым картам и ориентирам. Его Лиса была не его.
Время шло, как обычно, предательски быстро. А он стоял на месте в своих стоптанных ботинках и заношенной куртке. Он был на пороге великого – завершения своей огромной рукописи. Лиса подарила ему столько вдохновения, что его труд стал объемным, живым, чувственным. Писатель дрожал от предвкушения. И в самый неподходящий момент, на пике творческого подъема, он с ужасом узнал: эта женщина никогда не будет ему принадлежать. Она сказала в свойственной ей легкой манере, что он не для нее, а она не для него. И исчезла. Что он мог? Он совсем не охотник, чтобы догнать эту рыжую плутовку. Кто говорит, что мужчинам легче? Кто утверждает, что им неведомы терзания неразделенной любви? Ложь! Его тонкая душа рвалась на лоскуты. Свет опять погас. Он знал, что больше подобного с ним уже не случится и ему придется всю жизнь обитать в потемках своей души.
Мама напрасно тормошила его, отпаивала горячим бульоном и хлестала по опухшему лицу журналом с его первыми изданными рассказами. Ему нужно было время оплакать свою потерю. Со свойственным творческим людям преувеличением, он упивался своим одиночеством. Раздувая свои печали, как пламя от слабых углей костра, писатель горел во всех этих эмоциях. А прогорев, он стал еще больше отстранен, зол и закрыт. Чтобы не встречаться с Лисой, он перевелся в другую группу. И, изредка столкнувшись с ней, даже не здоровался. В душе он так и оставался обиженным, отвергнутым всеми, себялюбивым мальчишкой. И снова только мать могла поддержать его. И он еще больше ценил ее и еще сильнее презирал.
* * *
Мечты могут завести человека далеко. Но следует понимать, что не всем мечтам суждено сбыться. Не все дороги, даже если тебе кажется, что ты идешь верным путем, приведут к заветному. Иногда мечта – только мираж: приближаясь к ней, ты понимаешь, как на самом деле бесконечно далек от нее. Но, к сожалению, не понимаешь главного – достигнуть ее так никогда и не удастся.
У Писателя была всего лишь одна единственная мечта. За всю жизнь – только одна. И он был верен ей. Он страстно желал, чтобы его творения заметили, чтобы его талант признали. Писатель знал, что он особенный; никто так не владеет словом, как он. Его сюжеты сложны, да, но разве это не показатель его ума? Его творчество не для всех, но оно смело может претендовать на литературную премию.
Его мучительное ожидание исполнения мечты затянулось, и теперь эта мечта превратилась в одержимость. Издательства либо отвечали отказом, либо не считали даже нужным дать ответ. Но хуже всех были те, кто предлагал внести коррективы, поменять стиль, концовку, сократить объем или убрать кого-то из героев. Это вызывало в Писателе гнев: как они могут предлагать то, чего совершенно не понимают?! Это он бессонными ночами создавал эти миры, почему кто-то чужой вправе решать, что и как будет лучше? Они предлагают превратить его детище в какой-то суррогат. Какой цинизм!
Мечта мечтой, но продукты сами не росли в холодильнике, а счета множились. Мама работала уборщицей, а его временные подработки не приносили достаточно денег. Теперь город, на который он возлагал столько надежд, стал не лучше его провинциального городишки. Вокруг всё сделалось таким же враждебным, мрачным и пустым. Он не понимал, что происходит с ним и почему он не может побороть самого себя. Давящая апатия парализовала его тело, разум и волю. Каждый день он вставал только к обеду, а потом… он сам не знал, что происходило потом. Просто каким-то странным образом стрелки часов уже показывали вечер, и он вдруг осознавал, что в комнате стало совсем темно. Он обнаруживал себя на продавленном диване, свернувшимся в позе эмбриона и уставившимся в мерцающее окно телевизора. Писатель, как ни старался, не мог объяснить себе, как так быстро прошел этот день и чем он был занят сегодня. К приходу мамы он заставлял себя подняться, умыться и сесть за компьютер. Когда уставшая, на больных ногах она вернется домой, он соврет ей, что весь день писал. Парадоксально, но когда он врал ей, он начинал сам верить в эту ложь. И ему становилось легче. Он уже не был неудачником в собственных глазах, он был кем-то проживающим сложную жизнь, непонятым творцом, непринятым гением. И в голове его крутился вымышленный роман уже про самого себя. Он мысленно говорил о себе в третьем лице, наделяя чертами антигероя и мученика одновременно. А ночью, работая продавцом на заправке, он украдкой в туалете пил крепкий напиток из бутылки для воды. И эта обжигающая жидкость исправно избавляла его от разочарования и боли.
Но в одну из ночей реальность все-таки прорвалась в этот спичечный короб пустынной заправки. Где-то за стеклом, плавно шурша шинами по влажному асфальту, припарковался дорогой автомобиль. Людей в таких машинах он особенно ненавидел. Он представлял, в какой кричаще-несправедливой роскоши они живут. И даже не думают, как живет он, да им это и ни к чему. Каждый раз эти люди смотрят куда-то сквозь него. Даже когда вежливо улыбаются, глаза их остаются безучастны. И если бы через минуту им пришлось вернуться, что-нибудь позабыв, а на его месте стоял бы уже другой молодой человек, то никакой разницы они бы и не заметили.
Из машины вышли двое и направились к нему на кассу. До того, как писатель увидел этих двоих, он узнал смех. Смех, который узнал бы из тысячи. Рядом с хорошо одетым мужчиной шла его Лиса. Она выглядела броско и модно. Держась, как обычно, непринужденно и игриво, она льнула к мужчине и что-то весело шептала ему на ухо.
Если бы можно было потратить за жизнь одно желание, всего одно, писатель бы тотчас этим воспользовался – исчезнув отсюда навсегда. Но увы… его фантазии всегда были благосклоннее к нему, чем действительность.
Лиса впилась в него своими миндалевидными глазами. Она явно стало красивее. Видимо, средства ее друга сыграли в этом не последнюю роль. Этот мужчина, лощенный и ухоженный от макушки до пяток, характерным невидящим взглядом смотрел через нашего героя. Небрежно расплачиваясь, он продолжал говорить с ней. Но Лиса уже потеряла нить этой непритязательной беседы. Она смотрела на насупившегося, злобного и потерянного юношу за кассой, на этого человека из другой жизни. Когда-то он был таким близким, а сейчас так бесконечно далек. И она не чувствовала, к своему стыду, ничего, кроме жалости и радости, что теперь она не из его мира. Что нет больше ничего общего между ее и его судьбой. Ее лицо было испуганное и напряженное. Писателю подумалось, что это из-за чувства неловкости и смущения перед ним. Но, как обычно, его фантазии были лучше реальности. Она и вправду испугалась, но испугалась мысли, что и по сей день могла быть женщиной вот такого потерянного, неопрятного и пьяного неудачника. А по истечении этой растянувшейся во времени и пространстве минуты ее спутник повернулся к ней и скомандовал «пойдем». И словно снова щелкнул невидимый тумблер, и время вновь потекло в своем привычном русле. Лицо девушки опять стало озорным и беззаботным. Они вышли из этих сжавшихся стен так же быстро, как и вошли, но, присмотревшись, можно было заметить, что она стала еще сильнее и крепче прижиматься к своему спутнику.
А после взвизга колес писатель еще долго стоял и смотрел перед собой. Будто эти двое еще стояли там. И он говорил, беззвучно говорил с нею.
– Внутри себя я несу что-то тяжелое, давящее, безысходное. Я пишу свою жизнь как драму и не восхищаюсь ею. Я почти умер, но вроде как жив. А ты – нет! Ты не драма, ты – песня! От тебя хочется танцевать и петь. Почему ты вся такая легкая и резвая? Как мелодия менестрелей. Только ты давала мне свет, доставала меня из пустоты и привносила хоть какой-то смысл. А теперь ты просто исчезла, так легкомысленно, почти весело. Ты ушла и даже не понимаешь, что сотворила. Ну зачем ты так со мной?! Почему моя жизнь так темна и пуста?
* * *
Все эти воспоминания оживали в его душной квартирке и, подобно призракам, слонялись из угла в угол, неприкаянные и стонущие. Они не исчезали, не рассеивались, а просто имели наглость постоянно жить здесь. Столько лет пронеслось, а он сам практически не сдвинулся с места.
Писатель помнил, как ему отчаянно захотелось денег. Да, вот так прямолинейно и дико. Просто денег. Чтобы можно было о них забыть и не воспоминать каждую минуту. Чтобы на него перестали смотреть как на пустоту. Чтобы он сам не чувствовал себя ею. Ему хватило воли собрать себя и пройти через ряд шаблонных собеседований. Ему так хотелось что-то изменить, что судьба, наконец, сжалилась над ним: ему предложили место ассистента репортера в скромной газете. Может, в этот момент ему стоило понять, что жизнь сама ведет его туда, куда он должен был прийти и где его место. Но он не мог отделаться от чувства, что снисходит до этой работы, что его миссия гораздо значимее, его предназначение во сто крат величественнее, и его мятежный гений обязан быть открыт этому миру.
Мама недовольно смотрела на него.
– Я не растила тебя для такой фигни! Эта газетенка – просто болото! Тебе самому не стыдно там просиживать штаны?! Ассистент… слово-то какое мерзкое! Ты ничего не пишешь! А ведь с таким талантом – это натуральное преступление! Где твоя голова, где?!
Странная женщина… Перебиваться копеечной работой, но писать для нее значимее, чем эта скромная, но стабильная работа? Но в душе он был с ней согласен. Да и как могло быть иначе? Это мнение он впитал с ее молоком; эта программа собственной исключительности закодирована в его голове. Постоянный повтор, изо дня в день, из года в год. Ему бы тогда задуматься и переформатировать себя, но… в его мозг прочно врезались бесконечные однотипные сигналы: особенный… избранный… гений.
И так хорошо начав на новой работе, он вскоре стал инертным и безучастным. Такая категория людей, которые даже не пытаются изобразить интерес к своей деятельности, они есть в любой организации. Невозможно понять, что у них в голове. Они как вчерашняя каша – неприглядная, заветренная, липкая, уже никому не нужная, но продолжающая занимать место в холодильнике. И в какой-то момент она становится настолько омерзительной, что никто не желает даже прикоснуться к ней, чтобы выкинуть. И эти «люди – вчерашние каши» оседают в офисах и закисают там. Так он и сидел ассистентом репортёра много лет. Репортеры менялись, а их ассистент был недвижим.
Писатель продолжал рассылать свои рукописи в издательства, пытался сам их напечатать и реализовать в маленьких книжных магазинах. Но всё это было похоже на движение в пустой комнате: ни для кого, ни для чего. КПД, близкий к нулевому… дырка по центру нуля… пустота.
* * *
А потом заболела мама. Нет, проблемы со здоровьем у нее были всегда. Сколько он себя помнил, она постоянно болела то одним, то другим. С высоким давлением она носила тяжести, на больных ногах бегала между работами, с аритмией дежурила ночами на работе. Ловко управлялась с инъекциями инсулина и опять спешила куда-то. Но больному сердцу уже перестало хватать приказа «надо», оно угасало ежедневно, будто в длинном коридоре постепенно и последовательно гасли лампы… одна за одной… одна за одной.
Ночью он слышал, как ей тяжело дышится, а днем видел ее отекшее лицо. И впервые ему стало страшно не за себя, а за кого-то другого. Столько лет он тайно презирал ее и еще дольше слепо повиновался ей; эти чувства смешались в причудливый коктейль, в котором доминировали то ноты шквальной ненависти, то вкус полной зависимости, то оттенки фанатичной любви. Писатель всегда воспринимал эту потрепанную жизнью женщину как данность, константу, от которой он, может быть, и хотел бы избавиться, но не мог. И тут его преисполнил ужас: мамин свет мерк! И это было неизбежно. А что будет без нее?! Как это вообще – жить «без нее»?
Да, они, конечно же, обивали пороги больниц. Там он выявил причудливые параллели: бесконечные коридоры – бесконечные очереди, злые и уставшие пациенты – злые и уставшие врачи, чем более неухоженные палаты – тем более неухоженные больные. У хронических пациентов есть черта – мериться своими диагнозами, вываливать их как боевые ордена на всеобщее обозрение. В этих нескончаемых часах ожиданий растворяются надежды людей, размывается их терпение и вера. Волна озлобленности готова захлестнуть любого, кто попытается встать между «болящим» и заветной дверью врача. Что происходит с этими людьми? Всё очень просто: они нестерпимо устали… нет, не от этих часов в очереди, а от собственной немочи; они не могут больше ждать… нет, не врача, а финала, любого уже финала. Ожидание и неведение всегда томительнее всего.
Но больше неопределенности нет. В маленьком кабинете с бледно-зелеными стенами бледный (еще одна параллель!) и уставший врач сообщил, что ее сердцу уже ничего не поможет. Разве что пересадка, но это невозможно, так как очередь похожа на великую китайскую стену, без конца и без начала, по сути.
Они вышли на морозный воздух и сели на скамью рядом со входом. Маме нужно было отдышаться. Он боялся, нет, он страшился повернуть к ней лицо и посмотреть на нее. Но неожиданно услышал спокойный и даже какой-то легкий голос матери:
– Ух, какой день сегодня морозный! Хорошо же!
Такой легкости в ее речи он давно не слышал. Он не понимал – она, наконец, освободилась. Нет больше мучительной неопределенности, нет капельниц, палат, очередей. Теперь всё просто и ясно.