Читал в школьные годы, по большей части, уже не помню детали сюжета. Однако, на всю жизнь запомнилась позиция автора по движению эмансипации. Целиком прочитать роман возможно удастся не всем, но стоит хотя бы попробовать.

Погружаться в эту книгу после советских книг о войне или мемуаров наших ветеранов было несколько сложно, ведь у американского автора совсем иное восприятие Второй мировой и поначалу это несоответствие сбивает с толку, особенно некая поверхностность и чуждые философствования о романтике армейской службы, которая должна придать смысл жизни, закалить характер и направить на истинный путь человека, погрязшего в голливудском "гламуре", выпивке и женщинах. Но потом именно эта чуждость и стала основным плюсом для меня, интересно было узнать, как воспринималась ВМВ на другом континенте, как относились к ней те, кого изначально "европейские разборки" вообще не касались, для кого записаться в армию именно что добровольный шаг, ведь речь о защите дома в начале истории (до нападения на Перл-Харбор) не шла.
«Вот я и здесь, — думал Майкл, чувствуя запах армейского одеяла у подбородка. — Свершилось. Мне нужно было давно пойти в армию, а я не сделал этого; я мог бы уклониться от нее, а я не уклонился. И вот я здесь, в палатке, под грубым одеялом. Я всегда знал, что так будет. Эта палатка, это одеяло, эти храпящие люди ждали меня тридцать три года, а теперь мы встретились. Пробил час искупления. Началась расплата — расплата за мои взгляды, расплата за легкую жизнь, за роскошную еду и мягкую постель, расплата за доступных девушек и за все легко добытые деньги, расплата за тридцатитрехлетнюю праздную жизнь, которая окончилась сегодня утром с окриком сержанта: „Эй, ты, подними-ка окурок“».
Что подумает русский солдат из Сталинграда, притаившийся с гранатой в руке за разрушенной стеной в ожидании приближающегося танка, об этом патриоте с мягким голосом, в пушистой шляпе, который называет его братом здесь, на шумной улице не тронутого войной американского города?
Но сейчас не время уходить в сторону, не время говорить «нет» или «может быть», сейчас настало время сказать во весь голос «да!». Правильно, что он решил вступить в армию. Он избавится от сверхчувствительных смиренников, поэтических паникеров и благородных самоубийц. Он вырос в век критики, в стране критиков. Каждый считал своим долгом критиковать книги, поэзию, пьесы, правительство, политику Англии, Франции, России. За последние двадцать лет Америка уподобилась обществу театральных критиков, непрерывно повторяющих одно и то же: «Да, я знаю, что в Барселоне погибло три тысячи, но как нелепо во втором акте…»
«Легче остаться умирать в пропитанной кровью траншее, зная, что неоткуда ждать помощи, чем войти в уборную для рядовых и… Современный мир, — с возмущением думал он, — очень плохо готовит нас к испытаниям, которым он нас подвергает».
Здесь, среди прихожан, я вижу несколько солдат и знаю, что они имеют право спросить: «Что такое любовь для солдата? Как должен солдат повиноваться слову Христову? Как может солдат любить своего врага?» И я отвечу так: убивай, щадя, скорбя, чувствуя, что совершаешь грех, который является в равной мере и грехом того, кто падает от руки твоей. Ибо не твое ли прежнее безразличие, слабость духа, жадность, глухота вооружили его и послали на поле брани убивать тебя? Он боролся, он плакал, он взывал к тебе, но ты ответил: «Я ничего не слышу. Через воду голоса не слышно». Тогда в отчаянии он взял винтовку, и лишь после этого ты, наконец, сказал: «Теперь я ясно слышу его. Давайте убьем его». — Не считайте, — продолжал старик тихим, слабеющим голосом, — что вы поступили справедливо, таким жестоким образом обратив на него свое запоздалое внимание. Убивайте, если вы вынуждены это делать, ибо из-за нашей слабости и наших ошибок мы не смогли найти другого пути к миру, но убивайте, испытывая чувство раскаяния и печали, сожалея о бессмертных душах, павших в бою, несите в своем патронташе милосердие, а в своем ранце — прощение, убивайте не из мести, потому что право мести принадлежит не вам, а богу, убивайте, сознавая,что каждая загубленная вами жизнь делает вашу собственную жизнь намного беднее.
Слова священника взволновали его, он почувствовал трепетную нежность к этому старику, к окружающим его людям, к солдатам, стоящим у орудий здесь и по ту сторону пролива, ко всему живущему и обреченному на смерть. Они вселили в него какую-то таинственную надежду. Логика не позволяла ему согласиться со словами старика. Обреченный убивать, будучи сам мишенью для врага, зная путаный характер войны, в которой он участвовал, Ной понимал, что во время атаки нельзя так строго придерживаться норм христианской морали, как желал этот старик, понимал, что такая попытка легла бы слишком тяжелым бременем на плечи армии, дала бы врагу слишком легко добытое преимущество, за что в один прекрасный день он, Ной, мог поплатиться жизнью. И все же проповедь священника вселила в него надежду. Если в такое время, в таком месте, где едва рассеялся дым от последних семи посланных в бесцельной злобе снарядов, в церкви,уже пострадавшей от войны, среди солдат, так страстно призывать к братству и милосердию, не опасаясь кары, значит, мир еще не погиб. Ной знал, что по ту сторону Ла-Манша никто не осмелился бы говорить подобным образом, и именно там, по ту сторону Ла-Манша, находятся люди, которым суждено в конечном счете потерпеть поражение. Владеть миром будут не они, а те чуть сонные и туповатые люди, которые сидят сейчас, кивая головой, перед своим старым проповедником. До тех пор, — размышлял Ной, — пока такие голоса, суровые, нелогичные и любящие, могут раздаваться в этом мире, его собственное чадо может жить в атмосфере уверенности и надежды…
Майкл заметил, что по мере приближения к фронту люди становились все лучше. Когда стал слышен нарастающий гул орудий, все отчетливее доносившийся с осенних немецких полей, каждый, казалось, старался говорить тихо, быть внимательным к другим, каждый был рад накормить, устроить на ночлег, поделиться вином, показать фотографию своей жены и вежливо спросить карточку вашей семьи. Казалось, что, входя в эту грохочущую полосу, люди оставляли позади эгоизм, раздражительность, недоверчивость, плохие манеры двадцатого века, которые до сих пор составляли неотъемлемую часть их существования и считались извечно присущими человечеству нормами поведения.
Грохот орудий на дальних хребтах становился все слышнее и слышнее, и Майкл чувствовал, что теперь, наконец, он найдет благородный дух равенства, открытые сердца, молчаливое согласие миллионов людей — все, о чем он мечтал, уходя в армию, и чего до сих пор ему не приходилось встречать. Ему чудилось, что где-то впереди, в непрерывном гуле артиллерии среди холмов, он найдет ту Америку, которую никогда не знал на континенте, пусть замученную и умирающую, но Америку друзей и близких, ту Америку, где человек может отбросить, наконец, свои интеллигентские сомнения, свой почерпнутый из книг цинизм, свое неподдельное отчаяние и смиренно и благодарно забыть себя… Ной, возвращающийся к своему другу Джонни Бернекеру, уже нашел такую страну; это видно по тому, как спокойно и уверенно он говорил и с сержантами и с генералами. Изгнанники, живущие в грязи и в страхе перед смертью, по крайней мере в одном отношении нашли лучший дом, чем тот, из которого их заставили уйти. Здесь, на краю немецкой земли, выросла кровью омытая Утопия, где нет ни богатых, ни бедных, рожденная в разрывах снарядов демократия, где средства существования принадлежат обществу, где пища распределяется по потребности, а не по карману,где освещение, отопление, квартира, транспорт, медицинское обслуживание и похороны оплачиваются государством и одинаково доступны белым и черным, евреям и не евреям, рабочим и хозяевам, где средства производства — винтовки, пулеметы, минометы, орудия, находятся в руках масс. Вот конечный христианский социализм,где все работают для общего блага и единственный праздный класс — мертвые.
В данном романе трое главных героев, хотя, на мой взгляд, Ирвину Шоу не удалось выписать три отдельные полноценные личности, например, австриец Христиан у него хоть и является солдатом иной армии, все же весьма сильно похож на американских персонажей. Мне кажется, автор плохо передал его мотивацию, причины, побудившие стать фашистом, но, может быть, такой цели и не было у писателя.
Ох, эти откормленные американцы — им не нужен никакой фольксштурм, все они молоды, все здоровы, у них исправная обувь и одежда, научно разработанное питание, самолеты, санитарные машины на бензине, перед ними не стоит вопрос, кому лучше сдаться… А когда все кончится, они вернутся в свою ожиревшую страну, нагруженные сувенирами: касками убитых немцев, «железными крестами», сорванными с мертвых тел, снимками, сделанными со стен разбитых бомбами домов, фотографиями возлюбленных погибших солдат… Вернутся в страну, не слыхавшую ни единого выстрела, в страну, где никогда не дрожали стены, где не было выбито ни одного стекла в окне… Ожиревшая страна, нетронутая, неуязвимая…
Возможно, эту похожесть надо воспринимать именно как общечеловеческую общность людей, которые из-за действий пропаганды и политиков оказались по разные стороны баррикад, но в реальности они мало чем отличаются друг от друга, в том числе и на войне.
…Бредут тысячи пленных немцев, и, когда смотришь на них, в душу начинает закрадываться неприятное чувство: судя по их лицам, никак нельзя сказать, что именно эти люди перевернули Европу вверх дном, отняли тридцать миллионов жизней, жгли население в газовых печах, вешали, калечили, пытали. Теперь их лица выражают лишь усталость и страх. Если бы их всех одеть в американскую форму, то они бы, честно говоря, выглядели так, как будто прибыли сюда из Цинциннати.
Ведь все персонажи являются "винтиками механизма", легко заменяемыми и оттого не сильно ценными для начальства, не случайно в книге много внимания уделяется порокам офицеров, которые посылают людей на смерть, при этом заботясь лишь о своей карьере.
Ребята, вы отправитесь на тот берег и будете бить фрицев. И с этой минуты вы должны думать только об одном: как лучше бить этих негодяев. Некоторые из вас будут ранены, ребята, некоторые будут убиты. Я не собираюсь скрывать это от вас и играть с вами в прятки. Может быть, многие из вас будут убиты… — Он говорил медленно, смакуя слова. — Ведь для этого вас и взяли в армию, ребята, для этого вы здесь и находитесь, для этого вас и высадят на побережье. Если вы еще не свыклись с этой мыслью, привыкайте к ней сейчас. Я не собираюсь произносить здесь патриотические речи. Некоторые из вас будут убиты, но и вы ухлопаете немало немцев. И если кто-нибудь из вас… — Тут он перевел взгляд на Ноя и холодно уставился на него. — И если кто-нибудь думает, что ему удастся смыться или как-нибудь увильнуть от выполнения своего долга, чтобы спасти свою шкуру, тот пусть помнит, что я буду всегда с вами и позабочусь о том, чтобы каждый из вас выполнил свой долг. Наша рота будет самой лучшей в дивизии, черт меня побери. Я так и порешил, ребята. Когда мы победим, я надеюсь получить чин майора. И вы, ребята, поможете мне этого добиться. Я для вас трудился, теперь вы потрудитесь для меня. Отныне для вас будет существовать только одна заповедь: наша рота должна убить больше фрицев, чем любая другая рота в дивизии, а я должен стать майором к четвертому июля. Если для этого нам придется понести больше потерь, чем другим, — ничего не поделаешь.
— Боже мой! — воскликнул Спир. — Что у нас творится: человека со сломанной ногой направляют в пехоту. — Она уже не сломана, — сказал Майкл. — Она работает. Хотя внешне моя нога выглядит плохо, но доктора гарантируют, что она будет действовать, особенно в сухую погоду. — Пусть даже так, — продолжал Спир, — почему бы тебе не вернуться в свою гражданскую администрацию? — Если ты в звании сержанта и ниже, — монотонно проговорил Кренек, — никто не станет беспокоиться, чтобы послать тебя обратно в свою часть. От сержанта и ниже — это все взаимозаменяемые детали.
— Должны же быть дивизии, в которых служить легче, чем в других, — настаивал Спир, озабоченный своей будущей судьбой.
— Убить могут в любой дивизии американской армии, — резонно заметил Кренек. — Я имею в виду, — пояснил Спир, — дивизию, где превращают человека в солдата постепенно, не сразу. — Видно, тебя, братец, крепко учили в Гарвардском университете, — сказал Кренек, наклоняясь над винтовкой. — Тебе там наговорили кучу всякой ерунды о службе в армии.
Майкл вспомнил двух солдат, медленно марширующих с полной выкладкой взад и вперед перед канцелярией роты в Форт-Диксе за то, что самовольно уехали в Трентон выпить пару кружек пива. В армии идет вечная, непрерывная борьба: загнанные в клетку животные упорно стремятся вырваться на свободу, хоть на день, на час, ради кружки пива, ради девушки, и в ответ следует жестокое наказание.
— Я уже давно работаю с пополнениями, — говорил сержант. — На моих глазах через этот лагерь прошли пятьдесят, может быть семьдесят тысяч солдат, и я знаю все, что у вас на уме. Вы читаете газеты, слушаете разные речи, и все повторяют: «Ах, наши храбрые солдаты, наши герои в защитной форме!» И вы думаете, что раз вы герои, то можете, черт побери, делать все, что вам взбредет в башку: ходить в самовольные отлучки в Париж, напиваться пьяными, за пятьсот франков подцепить триппер от французской проститутки у клуба Красного Креста. Вот что я вам скажу, ребята. Забудьте то, что вы читали в газетах. Это пишется для штатских, а не для вас. Для тех, кто зарабатывает по четыре доллара в час на авиационных заводах, для уполномоченных местной противовоздушной обороны, которые сидят где-нибудь в Миннеаполисе, хлещут вино и обнимают любимую жену какого-нибудь пехотинца. Вы не герои, ребята. Вы забракованная скотина. Вот почему вы здесь. Вы никому больше не нужны. Вы не умеете печатать, не можете починить радио или сложить колонку цифр. Вас никто не захочет держать в канцелярии, вас негде использовать на работе в Штатах. Вы подонки армии, я-то очень хорошо знаю это, хоть и не читаю газет. Там, в Вашингтоне, вздохнули с облегчением, когда вас погрузили на пароход, и им наплевать, вернетесь вы домой или нет. Вы — пополнение. И нет ничего ниже в армии, чем пополнение, кроме, разве, следующего пополнения. Каждый день хоронят тысячи таких, как вы, а такие парни, как я, просматривают списки и посылают на фронт новые тысячи подобных вам. Вот как обстоит дело в этом лагере, ребята, и я говорю все это в ваших же интересах, чтобы вы знали, где находитесь и что из себя представляете. Сейчас в лагере много новых парней, у которых еще не высохло пиво на губах, и я хочу сказать им прямо: выбросьте из головы всякую мысль о Париже, ничего не выйдет, ребятки.
Он не стал рассказывать об унылых днях, проведенных в английском госпитале в окружении искалеченных людей, поставляемых полями сражений Франции, во власти умелых, но бессердечных докторов и сиделок, которые не разрешили ему даже на сутки съездить в Лондон. Они смотрели на него не как на человеческое существо, нуждающееся в утешении и помощи, а как на плохо заживающую ногу, которую нужно кое-как починить, чтобы как можно скорее отправить ее хозяина обратно на фронт.
В романе ярко противопоставляется жизнь в тылу, на захваченных территориях, в штабах армий и на передовой. Достаточно мирное соседство немцев с покоренными французами, если не считать отдельные неумелые выпады "лягушатников" (хотя подобные акции весьма жестоко и показательно подавлялись), развлечения с местными барышнями и процветающий черный рынок - одна стороны немецкой службы в армии, которая сменяется отпуском в Берлин, где спиртное льется рекой и столы ломятся от деликатесов, конфискованных у побежденных (но это если попасть в особый круг высшего начальства или дамочек, их развлекающих).
Квартира была набита разным награбленным имуществом. Экономист вполне мог бы написать историю захвата немцами Европы и Африки только по вещам, небрежно разбросанным по квартире Гретхен и доставленным туда вереницей чинных, обвешанных наградами офицеров в начищенных до блеска сапогах. Иногда они привозили Гретхен домой в больших служебных машинах, и Христиан видел их у главного подъезда, когда ревниво выглядывал из окна квартиры. Помимо богатого запаса вин, которые Христиан обнаружил в первый же день, здесь были сыры из Голландии, несколько десятков пар французских шелковых чулок, бесконечное множество флаконов с духами, осыпанные драгоценными камнями застежки и старинные кинжалы с Балкан, парчовые туфли из Марокко, корзины с виноградом и персиками, доставленные самолетами из Алжира, три меховых манто из России, небольшой эскиз Тициана из Рима, два свиных окорока из Дании, висевшие в кладовой возле кухни, целая полка с французскими шляпками (хотя Христиан никогда не видел, чтобы Гретхен носила шляпу), прелестный серебряный кофейник из Белграда, массивный, отделанный кожей письменный стол (некий предприимчивый лейтенант ухитрился выкрасть его из загородного особняка в Норвегии и переправить сюда).
Но затем следуют жестокие бои в жарких песках Африки, где солдаты могут как успешно атаковать растерявшегося противника, так и сами попасть в ловушку и быть оставленными на смерть, ведь начальство приказывает "ни шагу назад" или же просто бросает обреченных на смерть бойцов, вынуждая прикрывать свое отступление.
Читая о сражениях на передовой, о нехватке людей, о быстрой гибели пополнения, понимаешь, что какой бы разной не была война, все же там, где речь идет о боях "не на жизнь, а на смерть", различия между участниками боевых действий стираются, вот и в книге американского писателя можно встретить те же темы, что и у советских авторов. Тут и тяжелая доля пехотинцев, и бесправие личности в условиях полного подчинения вышестоящему начальству, и та пропасть, что разделяет лежащих в окопах солдат и генералов, которые в чистых мундирах планируют наступления по картам.
…На разрушенной улице к Пейвону и Майклу подходят два пьяных старика с букетиками анютиных глазок и герани. Они приветствуют в их лице американскую армию, хотя вправе были бы спросить, почему четвертого июля, когда в деревне уже не было ни одного немца, американцы сочли нужным обрушить на нее бомбы и за тридцать минут превратить деревню в груду развалин.
— Ты попадешь на фронт как пополнение, — сказал Ной, — и твое положение будет ужасным. Все старые солдаты — друзья, они чувствуют ответственность друг за друга и сделают все возможное, чтобы спасти товарища. Это означает, что всю грязную, опасную работу поручают пополнению. Сержанты даже не удосуживаются запомнить твою фамилию. Они ничего не хотят о тебе знать. Они просто выжимают из тебя все, что возможно, ради своих друзей, а потом ждут следующего пополнения. Ты пойдешь в новую роту один, без друзей, и тебя будут посылать в каждый патруль, совать в каждую дырку. Если ты попадешь в какой-нибудь переплет и встанет вопрос, спасать ли тебя или одного из старых солдат, как ты думаешь, что они станут делать? ... — Ты должен иметь друзей, — горячо убеждал Ной. — Ты не должен допустить, чтобы тебя послали туда, где нет друзей, которые сумеют тебя защитить…
Майкл с удивлением вспоминал необычайную суету, которую он видел на пути к фронту: непрерывное движение людей и машин, тысячи солдат, занятые по горло офицеры, джипы, грузовики, поезда, деловито снующие по дорогам только для того, чтобы обеспечивать кучку несчастных, полусонных, медлительных солдат, надежно окопавшихся на забытой полоске фронта. «Повсюду в армии, — подумал Майкл, вспомнив, как Грин требовал сорок человек пополнения, — на каждой должности сидит по два-три человека; на складах, в канцеляриях, в службе организации отдыха и развлечений, в госпиталях, в обозах. Только здесь, в непосредственной близости от противника, не хватает людей. Только здесь в тоскливую осеннюю погоду в сырых узких траншеях кажется, будто эта армия принадлежит обескровленной, истощенной обнищавшей стране. Одна треть населения, смутно припомнились ему слова, сказанные когда-то давно президентом, живет в отвратительных условиях и плохо питается. Армия, сидящая в окопах, по какому-то непонятному капризу системы распределения, стала, видимо, представлять собой именно эту злосчастную треть Америки…»
Гости из тыла говорили громко и уверенно, а их энергичные движения составляли резкий контраст с поведением усталых, скупых на слова солдат, которые вырвались на несколько часов с передовой, чтобы впервые за три дня съесть горячий обед. «Если бы понадобилось укомплектовать отборный полк, которому предстояло бы захватывать города, удерживать плацдармы и отражать танки, выбор, несомненно, пал бы на этих трех красивых жизнерадостных парней», — подумал Майкл. Но в армии, конечно, вопрос решается по-другому. Эти самодовольные, уверенные в себе мускулистые парни служили в уютных канцеляриях в пятидесяти милях от передовой, перепечатывали разные формы и время от времени подбрасывали уголь в докрасна раскаленную железную печку, установленную посередине комнаты. Майкл вспомнил слова сержанта Хулигена из 2-го взвода, которыми тот всегда приветствовал новое пополнение. «Эх, — говорил Хулиген, — почему в пехоту всегда посылают таких замухрышек? Почему в тылы всегда попадают тяжелоатлеты, толкатели ядра и футболисты из сборной США? Скажите мне, ребята, кто из вас весит больше ста тридцати фунтов?» Это была, конечно, выдумка, и у Хулигена был свой расчет: он знал, что такая речь развеселит новичков, поможет ему завоевать их расположение; но была в этих словах и доля горькой правды.
На различных уровнях война воспринимается по-разному. На передовых позициях ее ощущают физически. В совершенно ином свете она предстает на уровне штаба верховного командования, расположенного, скажем, в восьмидесяти милях от линии фронта, где не слышно грохота орудий, где в кабинетах по утрам чисто вытирают пыль, где царит атмосфера спокойствия и деловитости, где несут свою службу солдаты, которые не сделали ни единого выстрела сами и в которых никогда не стреляли, где высокопоставленные генералы восседают в своих выутюженных мундирах и сочиняют заявления о том, что-де сделано все, что в человеческих силах, во всем же остальном приходится уповать на господа бога, который, как известно, всегда встает рано, чтобы совершить свою дневную работу. Пристрастным, критическим взором он смотрит на корабли, на тонущих в море людей, следит за полетом снарядов, за точностью работы наводчиков, за умелыми действиями морских офицеров, смотрит, как взлетают в воздух тела подорвавшихся на минах, как разбиваются волны о стальные надолбы, установленные у берега, как заряжают орудия на огневых позициях, как строят укрепления в тылу, далеко позади узкой бурлящей полоски, разделяющей две армии.А по ту сторону этой полоски по утрам так же вытирают пыль в кабинетах, где сидят вражеские генералы в иного покроя выутюженных мундирах, смотрят на очень похожие карты, читают очень похожие донесения, соревнуясь моральной силой и изобретательностью ума со своими коллегами и противниками, находящимися за сотню миль от них. Там, в кабинетах, стены которых увешаны огромными картами с тщательно нанесенной обстановкой и множеством красных и черных пометок карандашом, война принимает методичный и деловой характер.На картах непрерывно разрабатываются планы операций. Если проваливается план № 1, его заменяют планом № 2. Если план № 2 удается осуществить лишь частично, вступает в силу заранее подготовленный план № 3. Все генералы учились по одним и тем же учебникам в Уэст-Пойнте, Шпандау или Сандхерсте, многие из них сами писали книги, они читали труды друг друга и хорошо знают, как поступил Цезарь в аналогичной ситуации, какую ошибку совершил Наполеон в Италии, как Людендорф не смог использовать прорыв фронта в 1915 году; все они, находясь по разные стороны Ла-Манша, надеются, что никогда не наступит тот решающий момент, когда придется сказать свое «да» или «нет», слово, от которого может зависеть судьба сражения, а возможно и нации, слово, которое лишает человека последней крупицы мужества, слово, которое может искалечить и погубить его на всю жизнь, лишить почета и репутации. Поэтому они преспокойно сидят в своих кабинетах, напоминающих контору «Дженерал моторс» или контору «И.Г.Фарбен индустри» во Франкфурте, со стенографистками и машинистками, флиртующими в коридорах, **30/06/2023 20:43, 66,57%, / **"Молодые львы" • Шоу Ирвин смотрят на карты, читают донесения и молят бога, чтобы осуществление планов № 1, 2 и 3 проходило так, как было предрешено на Гросвенор-сквер и на Вильгельмштрассе, лишь с незначительными, не очень существенными изменениями, которые могут быть внесены на местах теми, кто сражается на поле брани. Но тем, кто сражается, все представляется иначе. Их не спрашивают о том, каким образом изолировать фронт противника от его тыла. С ними не советуются о продолжительности артиллерийской подготовки. Метеорологи не докладывают им о высоте приливов и отливов в июне или о вероятности штормов.Они не присутствуют на совещаниях, где обсуждается вопрос о том, сколько дивизий придется потерять, чтобы к 16:00 продвинуться на одну милю в глубь побережья. На десантных баржах нет ни кабинетов, ни стенографисток, с которыми можно было бы пофлиртовать, ни карт, на которых действия каждого солдата, умноженные на два миллиона, выливаются в ясную, стройную, понятную систему условных знаков, пригодную и для опубликования в сводках и для таблиц ученых-историков. Они видят каски, блевотину, зеленую воду, разрывы снарядов, дым, сбитые самолеты, кровь, скрытые под водой заграждения, орудия бледные, бессмысленные лица, беспорядочную, тонущую толпу, бегущих и падающих солдат, которые, кажется, совершенно позабыли все, чему их обучали с тех пор, как они оставили свою работу и своих жен и облачились в военную форму. Для
Роман получился очень многоплановым, ведь сюжет посвящен не только армейским будням, тут есть и рассказы о мирной жизни героев, да и в целом военные действия занимают менее половины произведения. Запоминаются отдельные яркие эпизоды, например, зарисовка об отступлении немецких войск, как австрийский сержант вместе со своим приятелем бежит в Париж, на какое-то время испытывая желание дезертировать из армии. Или, наоборот, когда американские солдаты уходят в самоволку, чтобы добраться к своим товарищам на передовую, ведь по мнению одного из героев - без друзей на войне мало шансов выжить. Конечно, не обошлось и без описания концлагеря, освобожденного подоспевшей армией США.
Подводя итог, это приятно написанный роман, знакомящий нас с американским виденьем войны, с буднями простых солдат, с разными моральными дилеммами, которые испытывают герои.
— Доктор! — взывал немец с мостовой… — Прикончить его, — настаивал кто-то за спиной мадам Дюмулен. — Если американцы жалеют патроны, — раздался другой голос, — я прикончу его камнем. — Да что с вами? — закричал Майкл. — Ведь вы же не звери! Чтобы все поняли, он говорил по-французски, и ему было трудно с помощью почерпнутых в школе знаний выразить весь свой гнев и отвращение. Майкл снова взглянул на мадам Дюмулен. «Непостижимо, — подумал он, — маленькая, толстая домохозяйка, ирландка, оказавшаяся почему-то среди воюющих французов, жаждущая крови и не испытывающая ни малейшего сострадания». — Он же ранен и не может причинить вам вреда! — продолжал Майкл, злясь, что так медленно подбирает нужные слова. — Какой в этом смысл? — Пойдите и взгляните на Жаклину, — холодно ответила мадам Дюмулен. — Взгляните на месье Александра, вот он лежит с простреленным легким, тогда вы лучше поймете… — Но ведь трое из них мертвы, — взывал Майкл к мадам Дюмулен. — Разве этого не достаточно? — Нет, не достаточно! — Лицо женщины побелело от гнева, темные глаза сверкали безумным огнем. — Может быть, для вас и достаточно, молодой человек. Вы не жили при них целых четыре года! Ваших сыновей не угоняли и не убивали! Жаклина — не ваша соседка.
Вы — американец. Вам легко быть гуманным! А нам это далеко не так легко! — Теперь она кричала диким, пронзительным голосом, размахивая кулаками у Майкла под носом. — Мы не американцы и не хотим быть гуманными. Мы хотим убить его. А если вы такой жалостливый — отвернитесь. Без вас сделаем. Пусть ваша американская совесть будет чиста… — Доктора… — стонал раненый на мостовой. — Но послушайте, нельзя же так, — продолжал Майкл, просительно вглядываясь в непроницаемые лица горожан, толпившихся позади мадам Дюмулен, чувствуя себя виноватым в том, что он, посторонний человек, иностранец, который любит их, уважает их мужество, сочувствует их страданиям, любит их страну,осмеливается мешать им в таком важном деле на улице их собственного города. Может быть, она права, может быть, в нем говорит свойственная ему мягкотелость, нерешительность, которые и заставляют его возражать. — Нельзя так расправляться с раненым, каковы бы…
Американцы остались у трупа немца вдвоем. Майкл наблюдал, как подняли и унесли в гостиницу человека с простреленным легким, потом повернулся к Кину. Тот нагнулся над трупом и шарил по карманам. Когда он выпрямился, в руках у него был бумажник. Раскрыв его, он вытащил сложенную вдвое карточку. — Расчетная книжка, — сказал он. — Иоахим Риттер, девятнадцати лет. Денежного содержания ему не выплачивали три месяца. — Кин усмехнулся. — Совсем как в американской армии. Затем он обнаружил фотографию. — Иоахим со своей кралей, — сказал он, протягивая фотографию Майклу. — Погляди-ка, аппетитная малышка. ... — «Вечно в твоих объятиях. Эльза», — прочитал Кин. — Вот что она написала. Пошлю своей жене, пусть хранит. Будет интересный сувенир. Руки у Майкла дрожали. Он чуть не разорвал фотографию. Он ненавидел Кина, с отвращением думал о том, что когда-нибудь, через много лет, у себя дома в Соединенных Штатах этот длиннолицый человек с желтыми зубами, разглядывая фотографию, будет с удовольствием вспоминать это утро. Но Майкл не имел никакого права рвать фотографию. При всей своей ненависти к Кину он сознавал, что тот заслужил свой сувенир.В то время как он, Майкл, медлил и колебался, Кин поступил как настоящий солдат. Без колебания и страха он быстро оценил обстановку и уничтожил противника, тогда как все другие, застигнутые врасплох, растерялись. И может быть, убив раненого, он тоже поступил правильно. Возиться с раненым они не могли, его пришлось бы оставить местным жителям, а те все равно размозжили бы ему голову, стоило Майклу скрыться из вида. Кин, этот унылый садист, в конце концов выполнял волю народа, служить которому их, собственно говоря, и послали сюда в Европу. Своим единственным выстрелом Кин дал возможность почувствовать угнетенному, запуганному населению города, что правосудие свершилось, что в это утро они, наконец, сполна расплатились с врагом за все то зло, которое он причинял им целых четыре года. Ему, Майклу, нужно радоваться, что с ним оказался Кин. Вероятно, все равно пришлось бы убивать, а сам Майкл ни за что бы не решился…
Тут достаточно неспешное действие, много размышлений о происходящем вдали от передовой, этакая "Война и мир", написанная пару столетий спустя, так что любителям классики можно смело рекомендовать эту книгу.

Хорошо бы еë почитать тем, кто сейчас рассказывает о роли «союзников» в разгроме фашистской Германии…
На мой взгляд, гораздо более сильная, и более драматичная, чем «Уловка 22» Хеллера…, и оставляет более тяжëлое впечатление…
Yorum gönderin












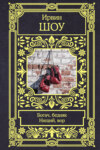







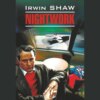






«Молодые львы» kitabının incelemeleri, sayfa 9