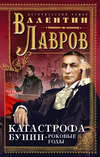Kitabı oku: «Проклятый род», sayfa 3
На Василия Феня, сестрина горничная зашипела:
– Ах, барчук! Ах, барчук! Какие слова выговаривает! Горбатый. Можно ли? И никакого горба нет. Ни этого горбика. Грех-то какой. Про братца-то.
– А тебе бы сейчас горб с комод с этот. Подожди. Вырастет Корнут, и горб вырастет. Дура, зеленая лошадь!
– Грех-то какой! Накликаете.
– Не мне грех. Я, что ли, его с лестницы спустил?
– Ну, будет вам. А ты, Вася, не скучай. Только мы и уезжаем. Все здесь. И Вяча, и Федя, и Дормидоша. А Семен с Макаром хоть тоже замуж выходят, только здесь останутся.
– Что это вы, барышни, какое говорите: замуж выходят! Это вы замуж выходите, а братцы женятся.
Засмеялась комната сестриным смехом.
– Про Семена думала. Он мне невестой представился.
– Да. Семен…
Смолчала Анна. Смешон брат. Но люб он ей.
– И что за барышни, за пересмешницы. Чем не жених Семен Яковлевич? А и то сказать: Макару Яковлевичу уступить. Да, ведь Макар-то Яковлевич…
– А знаешь, Феня, ночью мы говорили, решили не брать тебя. Ни в Петербург, ни в Москву. И узелки тянуть не будем. Здесь оставайся. С мамашей. Или Васю причесывать будешь. Уж больно он тебя любит.
– Тьфу!
А Феня застрекотала. И искренен был испуг ее, и более того притворен, для угождения.
– И что это вы, барышни? Обещались-обещались, да и на попятный. Так, значит, мне столичной жизни и не увидеть.
– Как ушей своих.
– Здесь погибай, зеленая лошадь.
Это Васька злобствует на судьбу.
– Чем же я провинилась, барышни? Только и вам трудно будет спервоначалу. Привыкши.
– Нет. Решили уж. Оставайся. Скучно будет. Новую жизнь начинаем. Так пусть уж все новое. А от тебя домом пахнет.
– Уж и скажут. Каким таким домом пахнет? От меня духами вашими пахнет. Вся дворня дразнится.
Растолковывали, смеялись, Васька язык высовывал, над зеленой лошадью издевался. Утренне-солнечные стены пахли девичьими снами и весело улыбались, шептали:
– Скоро, скоро весна придет.
А лики в божнице в угловой что-то темны. Или потому это, что издавна вобрали они в себя скорби глаз человеческих. От прабабушки иконы. А кто она была, уж и забыли все. И когда.
И Любовь с Анной, когда веселы, на иконы не взглянут. А часто по ночам обе глядят, друг дружку не видя. И однолико-скорбны думы их тогда. Будто что-то неразумное и, как судьба, сильное, будто что-то скучное, желтое, как Фенино лицо, когда та будет в гробу лежать. И помолятся ночные сестры без слов. Страшна словесная молитва: вдруг не того попросишь, а оно и сбудется. И плакаться не на кого. Помолятся сестры и уснут. Засыпая, обе душами шепчут:
– Пусть хорошее случится. Пусть хорошо нам будет.
Проснутся утренние сестры, в глаза друг дружке взглянут, улыбнутся. О будущем молча побеседуют. А потом и словами. И о разном помечтают. Ни плохого, ни страшного на путях жизни найти не могут.
– Только бы не скука эта.
– Да, уж хуже не будет.
Замуж выходят сестры. Любовь, старшая, за Брыкалова. Мануфактурное дело в Москве большое. С братьями. У Брыкалова осанка солидная, сюртук на нем длинный. Влюблен – не влюблен, а смотрит ласково. Усы белокурые, пушистые, большие. Руками чинно поводит. Слов в меру знает.
А про Шебаршина, про Аниного жениха, Феня говорит, пальцы свои желтые целуя:
– Не жених, а картинка.
У Кузьмы Кузьмича Шебаршина в Петербурге завод какой-то. Слышно, денег много. Ходит – ноги не связаны. Разговор обо всем. Приехал на Волгу, говорили о нем:
– Петербургская штучка.
– Да, они, заводчики, калачи тертые.
– Ума достаточно.
– Да и капиталу тоже.
– Да, уж это тебе не Сампсонов.
Обручены сестры. Без торжества: траур. Женихи требовали. По делам уехали. Так спокойнее.
А про тех, про других женихов, уж и не слышно. Говорит Анна:
– А я, Люба, в Кузьму влюблена. Не веришь?
– Да уж верю, Аня.
XIII
Горюет вдова железного старика. Сердце ее по ночам разрывается. Любит она Корнута. Младшенького своего. Вот ведь девять их с дочерьми. Живы бы все остались, было бы тринадцать. А кого любит? Люба с Аней ближе были. Но то давно. Ну, Семен тоже доныне почтителен. На него с Макаром надежды материнские полегли. Стариком-главой бессловно отмечены. Но Макара не полюбишь. Смолоду колючий, к старости железный тоже будет. Доримедонт? У того ласка – не ласка. Придурь какая-то. И еще: с рожденьем второго в старухиной памяти спутано нехорошее. Те двое, Федор с Вячеславом, за стенами, как кони, ржут, как кони по городу носятся. Страшится помыслить о них материно сердце. А Вася к ним давно, к тем двум, льнет. Ну, пока еще сестры отклоняют. А замуж повыскочат… Эх! Разве Любе отдать – упросить? Не уберечь его здесь… И чует-мыслит старуха жутко-раскаянно:
– Моя вина. Мой грех, мой грех материнский.
И еще чует-шепчет:
– Поздно теперь… Или не поздно? В хорошие бы руки отдать Васю. И Вячеслава можно еще. А то что на стороне-то? При матери-то все лучше, ан при матери-то худо. А может, не худо? Выправятся: вон Сема да Макарушка каковы. Хоть и разные, а что про них худого скажешь.
И обманывает себя вдова, на краткий час тешит. Думы закружатся по Счастливым кругам. И опять к прежнему страху-ужасу подойдут.
– Феня! – кричит. – Или Матреша! Кто там? Поди сюда. Позови ты ко мне Агафангела Иваныча.
– Слушаю-с. Сию минуту.
И ушла ли та, не ушла ли, не видит мать, думы свои словами раздумчивыми комнате отдает; комнате, далеким гулом гудящей.
– С Рожновым опять поговорить. Пусть старик рассудит. Ох, сыны, сыны… Трое вас опасных у меня.
А с опасных думы-шепот на любимого.
– Корнут. Корнутушка не то. Маленький он. Последненький. Как хочу, так и поверну. Семь годочков мальчику милому. Подождать бы немножко, да и за ученье. Денег теперь сколько хочешь. Спрашиваться не у кого. Учителей бы разных, профессоров из Москвы. И здесь, при себе. Генералом сделаем, губернатором, или чем сам там захочет. Ох, Корнутушка. Горбик у Корнутушки растет. Домна, нянька проклятая. Всех вынянчила-выкормила. А любименького моего Корнутушку… Что бы тебе, дура, Федора разбойника… О Господи, прости согрешение невольное.
– Вот и я. Кликать изволили?
Это Рожнов, мудрейший Агафангел Иваныч. И пойдет у них беседа про Федора да про Вячеслава. И поговорят о строгости и о почитании. И железного старика вспомянут. Но не долго обо всем этом. Старик Рожнов к делу привык, настоящее дело любит. И переведет он беседу на Семена Яковлевича и на Макара Яковлевича. Далеко им до отца, но все же люди не пропащие. А о пропащих не стоит ни говорить, ни думать. В семье не без урода. Так, из почтения ко вдове можно слова раздумчивые произнести.
«А мы на Семене да на Макаре Яковлевичах речь задержим. Пусть привыкнет, что у нее только двое сынов, а у фирмы двое столбов, на ком стоять будет. Впрочем, женщина она не деловая, не приученая. Ну да все-таки».
XIV
Уехали Семен и Макар, женихи женихаться. Федор с Вячеславом давно пропали-провалились. Васька – где он? Да и к чему? Сестры?.. А, ну их!
Скука мухой неугомонной звенит в дому.
И ходит-бродит Доримедонт по комнатам. Царство заколдованное. Кое-где лампы светят, обои стен и мебель обманно озаряют.
Но то не лампы. И то не комнаты дома на Торговой, Маяки на синем море-окияне. Где маяк, там скала. Где скала, там смерть неминучая. Плывет корабль-парусник по морю-окияну. Бродит Доримедонт по отцовскому дому вечернему. Во тьме отмель чуется. Наплывешь на отмель – беда. И обошел пушистый ковер гостиной. Держись! Узкий пролив. В залу дверь чуть приоткрыта. А в зале ночь на море. И в залу проплыл корабль осторожно. Не дай Бог о скалы отвесные поломаешься. Фу-ты! В Ледовитый океан заехали.
И стал корабль-парусник воздушным кораблем. Через отмели, скал отвесных не страшась, в коридор побежал.
– Феня, Матреша! Кто там! Дров сюда несите. Холод какой!
Дрова березовые. Лучин не надо. Кору сдирает, радуется. Поленья разобрал. Вперед помельче, а те сюда. Любит Доримедонт печи топить.
Затрещало. Отошел. Не любит печь духа человечьего поначалу. И пошел корабль по Ледовитому морю-окияну. Крейсирует. Мало ли где что нужно. Невидимые ждут Доримедонта. Причаливай!
Растрещалось, разгорелось. Сидит Доримедонт на полу у печи отверзтой, кочергой разумно пошевеливает.
– Вот Федя с Вячей курят. Хорошо бы и мне: у печи хорошо бы. Ух, здорово разгорается.
Пошевеливает когда нужно. Любит Доримедонт печи топить. И вдруг замолкло. Опять серебряной мухой надоедливой скука прожужжала.
– Да. Скучно.
И поглядел в огонь печи, туда, далеко, где нет ни дома, ни людей.
– Скучно… А я тоже женюсь. Вот-те и весело будет. Коли я дурак, то и они дураки. Брат я ведь. Возьму жену самую лучшую. Из Петербурга, так из Петербурга. Хорошо бы жениться, право.
А в печке изразцовой дрова разгорались.
– Женюсь и я! И весело же будет. Те и не догадываются. Женюсь раньше их всех, невесту выдумаю. У, какая невеста моя! Только где такую достать? Чтобы вся в золоте и в парче золоченой. Уж найдем.
А печной огонь пуще с жертвенными дровами играл. И видит Доримедонт будто судьбу свою в печном пламени. И встала-предстала девица-красавица. И пропала. И смарагд-камень расплавился в печи, и вся пасть печи отверзтой стала смарагдовой. Скучно и страшно Доримедонту. Но у печки весело.
– Женюсь-ка и я.
А смарагд-камень – Доримедонтов месячный камень. И про то Доримедонт знает.
XV
Горюновых дом, где Макарова невеста живет, Горюновых дом с мезонином у церкви, скучен сегодня. Страстная неделя, может быть, потому.
Весь пост постное ели. На первой и на четвертой и рыбы нельзя. А Страстная неделя голодная. И в церкви стоят по многу часов. От постного масла желты лица стариков богомольных. Ноги дрожат. И безвольно злы старики. И так души непокойны.
Но старший сын Михаилы Филипповича Горюнова, Савелий, однажды, два года тому, под Пасху ушел. И теперь нет его. И в ладане, и в звоне колокольном, и в ожидающей тихости Страстной – вспоминается Савелий, старший сын. Где-то он? На дому купеческом, на деревянной крыше его громадный камень лежит. И камень тот – скорбь родительская. И еще камень тот – позор, по городу шепчущийся. Грешно в такие дни злобе волю давать. Но сильно в человеках человеческое. Сбираются старики в церковь, шипящими словами перебраниваются, Савелия вспоминают, упрекают остро друг друга. И часто в речах их слышится:
– Ведь ты отец-то ему.
– А нешто ты не мать?
И Раиса, невеста, в церковь сбирается. Тиха она ныне.
Пелагея же давно вышла. Она в церкви до службы. Как сторож пройдет, ключи перебирая, – ей видно.
А из дальней комнаты, маленькой, голоса детские бегут, плач ли. То Сергей и Дорофея. Последышей старики породили, Сереженьке четвертый пошел, Дорофеюшке и году нет. Ну, да уж больше не будет.
Над церковью Святого Георгия тяжелый звон. Редкий, ударный. И повсюду над городом звоны. И из заволжских сел. В черных ризах по церкви тихо-скорбно ходят, в руках свечи желтые, огонечки их скорбно-молитвенны. Молится Раиса о будущем своем. Душа ее тиха и разумна, как человек. Решение приняла девица. Старики ее поклоны кладут усердно. И тщатся мыслить лишь о воспоминаемых ныне великих страстях. И шепчут-повторяют слова молитв. И качаются их желтые лица.
Из церкви пришли. Письмо их ждет. Словно чудо какое. С Афона письмо от сына Савелия. Да не тот же ли день был? Так и есть. Вот к чему вспоминался. Словно чудо какое. Ну да и ранее вспоминался. Конверт под печатью белою, бумага серая.
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Благодать Господня на вас».
И оповещает Савелий родителей почтительнейше о том, что решение его непреклонно, что останется он в Святом месте сем Господу Богу служителем, за них, за отца с матерью, по гроб молитвенником, а когда срок минет, а срок не за горами уж, и чин примет. А ранее не писал по причине слабости духа, соблазнов мирских боясь, а паче родительских отговоров. Но ныне Господь ему, непоколебимо решившемуся, словами старцев разрешил.
Письмо умилительное. И при письме карточка под лаком: «Святая гора Афон».
И тихо плакали старики. И призванная в зальцу Пелагея шептала-говорила, крестясь:
– Слава богу! Слава богу! Братец сподобился! И меня теперь благословите.
Раиса молчала.
И хлынула в души стариков благодать.
И дрожащими руками передавали они кругом сыновнее письмо и святую картинку. А сидели все у преддиванного стола. И когда в руках одного была картинка, другой тянулся за письмом. А когда долго ни письма, ни картинки не давали Пелагее, она держала конверт, молитвенно глядя на белый сургуч печати.
А к святой картинке все прикладывались устами.
И велика была благодать того дня в душах трех. И упрекали себя старики за дурные мысли о сыне, и вспоминали все тот день, когда увидел кто-то на груди Савелия большой медный крест, ремнем через спину к телу прикрепленный.
– И тогда вериги носил.
И думали все трое о божественном.
Раиса же, потрясенная, гневалась на далекого брата. Зачем отвел мысли от повседневного.
И так прошел день. В ночь впервые хлынула горлом кровь у Пелагеи. И тихо стонала в мезонине и не звала. И утром бледную ее увидели. И увидели кровь. И была Пелагея в забытьи.
XVI
Радостными пасхальными звонами веселилась малая церковь сельская деревянная. Волга лед свой сломала. Дружная весна. Послеполуденное солнце в останный снег ударяет. Звенят ручьи.
В кирпичном флигельке именьица Лазарева проснулись Федор с Вячеславом.
– Здорово, помещик!
– Здорово, помещик!
Похохотали хриплым смехом каменным, похмельным.
– Важно мы вчера. А этот поп Иван – не дурак.
– Да уж не даром на старости лет из самарского собора в медвежий угол попал.
– Эх, жизнь помещичья.
Похохотали.
– А что, Вяча, сказать, что ли?
– Это про что?
– Ну? А про письмо-то?
– Да что письмо? Не хочешь сказывать – от кого, и не надо. Вот невидаль.
– Ну да уж скажу, Вяча. Вчера не хотел, сегодня скажу, порадую братца.
И голос свой Федор на хриплый шепот перевел:
– От Веры, от Таракановой, письмо. К нам едет, уж выехала. Сегодня к ночи здесь.
– Ну? Не врешь?
– И не одна. А с кем, сам догадывайся.
И хихикнул Федор. Закраснелся Вячеслав, на кровати привстал.
– С Машей? Да не томи ты.
– А то с кем же? То-то гульнем!
И начали братья вставать-одеваться. Хохочет Федор каменно. И глаза его открыто хищно красны. Вячеслав влюбленно взоры отводит, сам брата стыдится, что перед ним, перед молодцом, он как девчонка.
А Федор по комнате шагает, со стана своего могучего сон стряхивает.
– Эй! Кто там ножищами шлепает? Закусить приготовь. Помещики от сна встали. Слышь, что ль…
– Сию минуту.
– А только, Федя, ничего это? Не нагорит нам?
– Это про что?
– Дома бы не узнали.
– Вот трус. Не семилетние мы. Помещики называемся.
В комнату радостный свет рвется, радостный звон в стены каменные кидает.
Третью неделю братья в Лазареве живут. Это то именьице, которое железный старик у Сампсонова купил. Имение раньше большое было, давно, при Шереметевых еще, из рук в руки переходя, урезалось; Сампсонов уже малым клочком земли владел. Но усадьба с большим домом недостроенным, со службами разрушающимися, со всякими угодьями забытыми, велика. И велик и красив парк прихотливый, с рытыми озерами.
Переселение братьев произошло так: страшны стали матери старухе-вдове доносы на сыновей ее, на Федора и Вячеслава. А доносы шли отовсюду.
Почтенный купец-старик, в сторону глядя и покашливая, слово закинет про Заречье. Рахиль, монашенка молодая, но степенная, чай пия, на дверь оглядываясь, благодетельнице про ужасные ужасы шепчет, головой кивает, руками разводит.
– Только вы очень-то не пугайтесь, матушка. Дело молодое, может Бог-то еще и вразумит. Пантелеймону-угоднику молиться, матушка, надо. Ну а в народе, точно, плохо говорят. За что купила, за то продаю. А на Тараканиху-ехидну эту губернатору пожаловаться надо. Разные дела за ней числятся.
И еще доносы от разных людей верных бывали. Про пьянство, про дебоши, да про долги. С пути Федор сбивается, Вячеслава за собой в яму черную тянет.
Страх в душе материнской беспрерывный поселился. А ни сил, ни уменья нет. Федора грубого и злого сама давно боится, а Вячеслава призовет, начнет выговаривать, а он:
– Да что вы, мамаша? Кто это вам наговорил-нажаловался? Когда это вы меня пьяным видали?
И точно, не видала. Но ложь чует. И страхи материнские, и предчувствия растут. А Рожнов, умнейший старик, огорчает:
– Нет уж, увольте. В конторе у нас им дела найти не сумею.
На Благовещенье в посту отец Лев, протопоп, пришел. Старец мудрый и душевный. Давно бы отцу Льву архиереем быть, но матушка его безумная жива. Много лет несет старец крест свой. Безумную жену свою, слов не говорящую, подобие божеское утратившую, не отдает отец Лев в сумасшедший дом. Сам за ней присматривает, молитвы читает. И глубокая грусть навсегда в любящих, в тихих, в запавших очах старца.
И разговорилась мать огорченная с протопопом искренне. И присоветовал протопоп, размысливши, жить блудным сынам в имении Сампсоновском. От соблазнов вавилонских подалее, к землице поближе, а следовательно, и к Божьей правде ближе.
И добавил протопоп:
– Можно бы средства и подействительнее выискать. Но то лекарства горькие, и сильную руку от Бога иметь надо, чтобы лекарства те чад своих выпить принудить могла.
И взглянул отец Лев мудрейший на стенной портрет железного старика. И тотчас послал ласковые взоры свои грустные в глаза вдовы-матери.
И поняла. И почуяла стыд упрека, и почуяла радостную надежду. А к ночи успокоение затихла, когда, после беседы с Вячеславом, прошептала:
– Вот и слава Богу. Слава Богу. Без борьбы приняли. А я-то, неразумная, боялась. Недаром отец Лев восьмой десяток доживает.
А с Федором говорить боялась. Вячеслав бегал.
Была еще беседа втроем. Она, Семен и Рожнов в кабинете заперлись на час. О деньгах беседа. Успокоил Рожнов:
– Тянуть еще можно. И после совершеннолетия Федора Яковлевича. Так, малыми суммами снабжать будем. Отписаться сумеем. Но до крайности прижимать не резон: там близко Обжорин. Как бы не подманил на векселя. А этот почище Тараканихи. Он хоть сто тысяч Федору Яковлевичу даст. Только нам они в полмильончика обойдутся.
Семен слушал, молчал, конфузился. Макар на совещание не пошел. Узнав в чем дело, Рожнову сказал:
– А ну их к черту! Сократите вы этих балбесов. Умеючи, их вот как скрутить можно. И не пикнут. Что тут долго разговаривать…
И поехал в невестин дом, наполнясь своими мыслями.
XVII
Был у Макара с матерью разговор. Старуха одна после обеда в спальной сидела, на иконы глядя, тоскливо о Корнуте мыслила. Вошел-вбежал Макар деловито.
– Я, мамаша, день свадьбы уж назначил. Тринадцатого венчаюсь. Так вот, сообщить пришел. Времени уж немного. Всего неделя. Вы уж, пожалуйста, что вас касается, оборудуйте, похлопочите.
Заморгала мать часто-часто. Напугал ее сын. И не сразу заговорила.
– Тринадцатого? Что ты? Что ты, Макарушка? Ведь двенадцатого, в Преполовение, батюшка наш скончался. Двенадцатого только срок траура. А ты…
– Так ведь я тринадцатого…
– Бога ты побойся, Макар. Шутишь, что ль!
– Толком вам, мамаша, говорю: не одиннадцатого и не двенадцатого, а тринадцатого венчаюсь.
– Да что это ты, Макарушка, сразу. Напугал-то меня как. Почитай, два месяца о свадьбе не заговаривал. Я уж думала, дурь-то вышла. А тут – тринадцатого.
– Я бы просил, мамаша, о невесте моей такие слова не говорить. А то привыкнуть можете и через неделю опять такое скажете. Тогда оно совсем нехорошо будет. О моей супруге, своей невестке, скажете. Так-то.
– Не мучь ты меня, Макар. Какие слова?
– Про дурь сказали. А ранее того, помните, тогда и еще разное. Так вот и говорю, что пора от этого отвыкнуть.
– Макар!
– Что, мамаша?
– А то, что нет тебе моего благословения.
– Как угодно. Но только дозвольте сказать, что это глупости.
И страшное лицо стало у матери. И за поручни кресла ухватилась.
– Конечно, мамаша, лучше все по-хорошему. Ну, что такое: нет на то благословения вашего? Все равно попы повенчают. А по городу слухи пойдут. Мне на слухи эти, простите, наплевать, потому что ведь вас же осудят. Ведь Раиса Михайловна не нищая какая-нибудь, не изуверка, и дурного про нее никто не скажет. Я тоже не шарлатан. На Федора, братца моего, а на вашего сына непохож. Кого люди осудят? Как полагаете, мамаша?
– А тринадцатого-то? Тринадцатого-то как же?
– Очень просто. Ни траура не будет, ни поста. И день даже не постный.
– Макар! В Преполовенье година.
– Так ведь тринадцатого.
– Грех-то какой. Никто так не женится. Людей постыдись. Ну, к осени еще можно бы. Ну, даже летом можно. Хоть месяц подожди.
– Я так вам скажу, мамаша. Ни одного дня ждать не буду. Если бы нужно было год с месяцем трауру быть, так бы на соборах и установили.
– А усердие… А печаль твоя сыновняя…
– Но не будете же вы, усердия ради, Страстную неделю в двадцать дней считать. Все по закону.
– Ах, Макар.
– Вы лучше, мамаша, все это дело спокойно обсудите. И похлопочите, прошу вас, насчет всего, что от вас, как от матери, требуется.
– Слушай, Макар. Первая свадьба Александрина назначена. А второй бы лучше Семеновой быть. Старший он.
– Ну, уж это, мамаша, пустяки. Даже слушать странно. Так вы, пожалуйста, мамаша. Обед и билеты – это уж я похлопочу. Ну, церковь тоже. Но и вы тоже, как мать…
И вышел Макар, ласково матери улыбаясь.
– Да где ты жить-то с женой будешь? Здесь, что ли?
В догон сыну слова.
– Позаботился, мамаша. О том не беспокойтесь. Мы в Москву сначала.
XVIII
Горе-то какое. И можно ли пережить такое горе. Сидит Александра, сестра железного старика, девица старая сидит на неприбранной кровати, так, кое во что одетая, глаза в стену глядят. Ни о жизни, ни о смерти не думает, людей не сторонится, но людей не замечает.
Странное случилось. Умер Сампсон Сампсонов, франт петербургский, смешной тети Саши жених молодящийся. Из клуба в гостиницу к себе ночью приехал часа в три. Утром мертвого увидели. Близ кровати, на полу. Только сюртук снят, на стуле висит. И дверь не заперта.
Родные тетю Сашу жалеют.
Легко ли ей, бедной.
По паспорту Сампсонова адрес петербургский разыскали, депешу послали, оттуда ответная: «Земле не предавайте повезу тело Петербург свинцовый гроб выезжаю Глафира Иванова».
Какая Глафира Иванова? Кто у него там? Но все, как приказано, исполнили. Ждут. И приехала. Женщина пожилая, тихая. Из простых, верно. С тетей Сашей говорила-плакала. Несчастная невеста к тому дню не успокоилась, нет – но говорить начала разумно. И выяснилось, что у Сампсонова с Глафирой в Петербурге трое детей. Десять лет семьей живут. Только не венчаны, но как муж и жена. Об Александре покойник ей говорил, и что свататься едет говорил. Для поправления дел. Тогда про семью и про Глафиру решил молчать.
– Ну а теперь что лгать, грех на душу брать. А покойник меня с детками несколько обеспечил. В банк на мое имя давно положил. Когда были деньги. Но немного, конечно. А покойника я очень любила, и память по нем сохраню. И тело в Петербург повезу. Чтобы у деток отец был покойничек. А детки хорошенькие да умненькие. В отца.
И беседовали. И плакали обе. И Глафира жалела Александру. А были они одних лет. И, взявшись за руки, на диване сидели, на клеенчатом, в дому Александры, на горе. Только что отделали домик. Краской пахнет. Хотя окна открыты. Воздух весенний, сладко-горестный. Вороны суетливо по деревьям кричат-мечутся. И из сада землей пахнет.
Александра, как очнулась, в свой домик переехала. Не то чтобы переехала, как люди переезжают, а из церкви с панихиды выйдя, на извозчичью линейку села, на гору поехала, в домик свой вошла. А там никого. Лишь в саду, во флигельке, – сторож. Присылали за Александрой Матрешу-трясогузку, в дом звать. Та говорит:
– Нет. Я здесь.
Тогда Матрешу к ней определили. Пусть присматривает. Любовь с Анной, племянницы, тоже наведываются.
И уехала Глафира, Сампсона своего в свинцовом гробу повезла. И Александра ехать хотела, но расхворалась, слегла. Двинуться не может. Но плачет мало.
Накануне свадьбы своей Макар утром к тете Саше в шарабане, в новом, на Ветрогоне приехал, а свадьбы своей Макар не откладывает.
– Мы Сампсонова без году неделю знаем. А с домом нашим он еще не породнился. Тут и спору быть не может.
Приехал Макар к тете Саше. Та лежит. И не плачущая, не грустная, а как бы неживая. Поговорил, пособолезновал племянник, ответила она ему словом каким-то. И молчит. И слушает ли? А потом перебила речь Макарову.
– Привези ты мне канареечку.
– Какую канареечку, тетя?
– Канареечку-птичку. Пусть поет. Тихо здесь очень.
Говорит однотонно. И шепелявить меньше стала. Внятно так:
– Привезу, тетя. Непременно привезу. А я с вами поговорить хотел, тетя.
Молчит.
– Продайте, тетя, мне этот дом. Не будете же век здесь жить, одна-то.
– Нет. Я здесь.
– Ну, сначала здесь. А потом ведь к нам в дом переедете, назад? Что вам здесь делать одной?
– Здесь буду.
– Здесь, здесь. Не всегда же, говорю, здесь, черт возьми… Продайте, говорю, дом. Мне продайте.
Молчит тетка. Тусклыми глазами поводит. А Макар ей:
– Я вам денег дам.
– Не нужно мне.
– Ну, даром отдайте. Но ведь я не прошу даром. По расценке. А вам дом теперь не нужен.
– Нужен мне. Я ведь здесь.
– Тетя! Я понимаю. Вам грустно. Вы с ним хотели здесь жить. А он помер. Потому вам и кажется, что нужно вам здесь жить. Но ведь это пройдет. Грусть-то ваша пройдет. Тогда к чему вам дом? Уступите, тетя.
Испуганно забегали-замигали глаза Александры. В постели она заворочалась.
– Оставь ты меня. Я здесь.
И губы дернулись, как перед плачем.
Едет Макар злой в шарабане. Ветрогона вожжой бьет, а ходу не дает. Храпит тот, красным глазом косит. До Георгиевской церкви доехал Макар. Рассмеялся.
– Вот оно что.
И круто повернул. Назад погнал. Пальто не снимает. Шляпа-кепи в руке.
– Вот что я, тетя, надумал. Конечно, лучше вам здесь жить, коли желание ваше таково. Память и все такое. Но вот что я вам предложу: остальное место вы мне продайте. Я тут дом хочу строить. Вам же приятнее. Соседи будут. Родня. А вы здесь. Вы здесь. Не беспокойтесь. Здесь. Всегда здесь.
– Я здесь. Да.
– Вот и хорошо. Согласны? А я вам денег дам.
– Не нужно мне. Только я здесь.
– Зачем даром? Расценка. Я к вам Агафангела Иваныча на минутку пришлю. Согласны, тетя? Право, в ваших выгодах.
– Как хочешь. Только здесь я буду.
– Здесь, здесь, тетя. До свидания. К вам на минуточку Рожновзаедет. Поправляйтесь, тетя.
И весело рысил Ветрогон, и насвистывал Макар:
– Я цыганский барон…
XIX
Скука серебряной мухой в дому звенит. Лето давно. Волгу могучие пароходы баламутят, встречаясь, свистом протяжным ревут. Барки черны, мачты на них высокие. Беляны белые, веселые. Коноводки брюхастые, тихоходные. Плоты сплавные, бесшабашные, всем мешающие люди на них хриплыми криками кричащие. Того гляди наплывут.
Берег луговой зелено-весел. Далеко-далеко видно. И все там зелено. Церкви белые. Десятка два насчитать можно.
Вася по берегу бродил. По своему, по нагорному. Суету пристаней любит Вася. На кули сядет. Присматривается. Ловко татары носят. Но и русских силачей не мало. Сгонят Васю, на другое место перейдет. Но уж прискучило. С весны ходит. Домой!
«Вот дворяне, те на дачу летом уезжают, коли у кого имений своих не осталось. Раздолье. В Лазареве не пускают. Знаю: боятся. Да хоть бы с нянькой. И Корнута бы взять. Подлецы. Дачу бы наняли, что ли. Ну, дача денег стоит. Скучно здесь. Маета одна».
Посмотрел Вася на Заволжье долгим взглядом, сонным.
– Туда махнуть? Можно бы до обеда. И деньги есть. Восемь гривен. Вот они. Да не то это.
И зевнул. И домой через сад. Сад не маленький. И деревья-старики есть в нем. К реке мало не доходит. Дорога там набережная. Забор дощатый. За забором товары везут, покрикивают по-городскому. Дальше к дому пройти – не слышно, правда. А у дома террасу плотники строят. Большую. Это Макар сказал:
– Здесь террасу нужно.
Женился Макар. И сестры замуж вышли. Недавно. Уехали, Васю не взяли.
«Просил их серьезно. А они за шутку поняли. В шутку и вышло. Здесь, что ли, посидеть?»
Но в дом прошел. Плотники – занятно. А не хочется. И вчера видел. Скучно. Скучно. И по пустым комнатам прошел. И наверх.
– Что окон, нянька, не открываешь? Духота.
Домна Ефремовна, нянька, с Корнутом беседует. Вася к ним. А Корнут маленький няньке:
– И мне такую свадьбу, как у Макара. И красный ковер.
– И Корнутушке красный ковер. Корнутушке мы ковер золотом обошьем. Вот как. У Корнутушки невеста принцесса будет.
Что-то шерстяное Домна на спицах плетет.
– А обед у меня на свадьбе какой будет?
– А обед на Корнутушкиной свадьбе будет…
И сочиняет нянька разное, счастливо дремлет, спицами водит, спину на солнышке через стекла оконные греет. Ревматизмы.
Не дослушал Корнут. Лошадь картонная без кучера. И упал, на бок повалился павлин с настоящими павлиньими перьями.
А похороны у меня, как у папаши, чтоб были. И медали чтоб несли. И много народу.
– Что ты, что ты, Корнутушка, Бог с тобой.
– Нянька, а ты сзади иди. В черном платье. И платок черный. А на твоих похоронах я пойду. Шуба у меня большая будет. И везде медали-ордена. Пойдешь, нянька?
Голова нянькина из стороны в сторону закачалась. Улыбка раздумчивая спицы запутала.
– Ах, Корнутушка. Ангелочек ты Божий. С орденами, говоришь, пойдешь? Вот-то мне радостно, грешной, будет.
– Глупости вы болтаете. Тьфу.
Это Вася.
– Нянька, скучно мне.
– И что за скука. Делом займись.
– Каким делом?
– Не маленький. Нам игрушки, тебе учеба. Книжку нам читни. Послушаем. Вон там книжки лежат.
Скучно Васе. Серебряная муха по дому летает. В окна бьет, звенит. От няньки ушел, от Корнута больного, бледного. Сел где-то недалеко. И ушли думы. Ушли думы из головы Васиной в стены отцовского дома. И нехорошо им там. Птицы молодые, веселые, известкой залиты, кирпичом заложены. И биться им нельзя. И вспоминает. Юный вспоминает. Не живший еще, как говорят люди. Близко темные углы. Разные. И в темноту пошел. И вот невидимым видна его гримаса сладострастная. Невидимым силам дома железного старика. И не слышал Вася бормотанья няньки, и не слышал звенящего голоса Корнута… И ослабел Вася. И закачался. И были ли видения женские?.. И стало скучнее еще. И тягостно стало. Но во тьме засверкало. Шары огненные.
XX
Женился Макар тринадцатого. По красному ковру из приходской церкви своей прошел с молодой женой в дом отцовский.
И за обедом музыканты играли. И к вечеру уехали молодые в Москву на поезде. Не по-купечески. Тогда еще многие старики боялись чугунки; даже если и по делам ехать. А едучи, крестились все.
И много цветов нанесли в Макаров вагон. И улыбался Макар. И еще разное нанесли. И была улыбка Макарова загадочна. Но не думал никто о загадках. Повенчались. И едут.
И поехали. Долго не выходил из вагона, толкался в мягких диванах его шум-говор людской.
Но полустанок дачный. Людей немного. Новые, незнакомые. Недолго. И засвистел, и туда вдаль заскользил, помчал. И победило свадебное одиночество. И рад был Макар. Но не был он рад счастьем, радовался он поцелуями, во тьме рожденными объятиями и думами, думами своими. А были думы его не о молодой жене только. О дворце своем думает Макар, о дворце на Александрином месте.