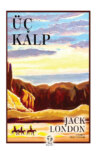Kitabı oku: «Мартин Иден», sayfa 26
– Ну, у него деньги долго не удержатся, – сказал вечером жене Герман Шмидт. – Он так и вскипел, когда я заговорил о процентах! Знаешь, что он мне сказал? Ему и капитала не нужно, не то что процентов. И если я еще раз заговорю об этом, он расшибет мою немецкую башку. Так и сказал: «немецкую башку». Но он все-таки молодец, хотя и не деловой человек. А главное – он здорово выручил меня!
Приглашения к обеду не прекращались, и чем больше их было, тем сильнее изумлялся Мартин. Он был почетным гостем на банкете одного старейшего клуба, сидел окруженный людьми, о которых слышал и читал почти всю свою жизнь. Эти люди говорили ему, что прочтя в «Трансконтинентальном ежемесячнике» «Колокольный звон», а в «Шершне» «Пэри и жемчуг», они сразу поняли, что появился великий писатель. «Боже мой, – думал Мартин, – а я тогда голодал и ходил оборванцем! Почему они меня тогда не пригласили обедать? Тогда это пришлось бы как раз кстати. Ведь это были вещи, написанные давным-давно. Если вы теперь кормите меня за то, что я сделал давным-давно, то почему вы не кормили меня тогда, когда я действительно в этом нуждался? Ведь ни в „Колокольном звоне“, ни в „Пери и жемчуге“ я не изменил ни одного слова. Нет, вы меня угощаете вовсе не за мою работу, а потому, что меня угощают все, и потому, что угощать меня считается признаком хорошего тона. Вы меня угощаете потому, что вы грубые животные, стадные животные! Потому, что вы повинуетесь слепому и тупому стадному чувству, а это чувство сейчас подсказывает одно, надо угостить обедом Мартина Идена. Но никому из вас нет дела до самого Мартина Идена и до его работы», – печально говорил он себе и вставал, чтобы остроумно и блестяще ответить на остроумный и блестящий тост.
И так было везде. Где бы он ни был: в клубах, на литературных вечерах, – всюду ему говорили, что, когда вышли из печати «Колокольный звон» и «Пери и жемчуг», всем сразу стало ясно, что появился великий писатель. И всегда в глубине души Мартина копошился все тот же неотвязный вопрос: «Почему же вы меня тогда не накормили? Ведь все эти вещи написаны давным-давно. „Колокольный звон“ и „Пери и жемчуг“ не изменились ни на йоту. Они тогда были так же хороши и так же мастерски написаны, как и теперь. Но вы угощаете меня не за эти и не за другие мои произведения. Вы меня угощаете потому, что это теперь в моде; потому, что все стадо помешалось на одном: угощать Мартина Идена».
И часто среди блестящего общества перед ним внезапно вырастал молодой хулиган в двубортной куртке и надвинутом стетсоне. Так случилось однажды в Окленде, на большом литературном утреннике. Встав со стула и выйдя на эстраду, Мартин вдруг увидел вдали, в глубине зала, молодого хулигана, все в той же куртке и все в той же шляпе. Пятьсот разодетых женщин сразу оглянулись, чтобы посмотреть, что такое увидел вдруг Мартин Иден. Но они ничего не увидели в пустом проходе. А Мартин все смотрел и думал, догадается ли молодой бродяга снять шляпу, которая словно приросла к его голове. Призрак направился к эстраде и взошел на нее. Мартин чуть не расплакался от тоски, глядя на эту тень своей юности, думая о том, чем он мог стать и чем стал. Призрак прошел по эстраде, подошел вплотную к Мартину и исчез, словно растворился в нем. Пятьсот элегантных женщин зааплодировали своими изящными, затянутыми в перчатки ручками. Они хотели подбодрить знаменитого гостя, вдруг проявившего такую застенчивость. Мартин усилием воли отогнал от себя призрак, улыбнулся и начал говорить.
Директор школы, почтенный добродушный человек, встретив однажды Мартина на улице, напомнил ему, какие сцены происходили в его канцелярии, когда Мартина выгнали из школы за буйство и драки.
– Я читал ваш «Колокольный звон», – сказал он, – еще когда он первый раз был напечатан. Прекрасно! Это не хуже Эдгара По! Я и тогда, прочтя, сказал: прекрасно!
«Да? А вы в ту пору раза два встретились со мною на улице и даже не узнали меня, – чуть-чуть не сказал Мартин. – Оба раза я, голодный, бежал закладывать свой единственный костюм! Вы меня не узнавали! А все мои вещи были уже тогда написаны. Почему же вы только теперь признали меня?»
– Я на днях сказал жене, что было бы очень хорошо, если бы вы зашли к нам пообедать, – продолжал директор, – и она очень просила меня пригласить вас. Да, очень просила.
– Обедать? – неожиданно резко выкрикнул Мартин.
– Да… да… обедать, – забормотал тот растерянно, – запросто, знаете… со старым учителем… Ах вы, плут этакий! – Он робко похлопал Мартина по плечу, стараясь придать этому вид дружеской шутки.
Мартин сделал несколько шагов, остановился и поглядел вслед старику.
– Чёрт знает что! – пробормотал он. – Я, кажется, здорово напугал его!
Глава 45
Однажды к Мартину пришел Крейз – тот самый Крейз, из числа «настоящих людей». Мартин искренно обрадовался ему и выслушал проект необычайного по фантастичности предприятия, которое могло заинтересовать его как писателя, но отнюдь не как финансиста. Крейз среди изложения проекта вдруг заговорил о «Позоре солнца» и сказал, что это сплошной вздор.
– Впрочем, я пришел сюда не философствовать, – прервал он сам себя. – Все, что я хочу знать – это, вложите вы, тысячу долларов в мое предприятие или нет?
– Нет, для этого я недостаточно глуп, – сказал Мартин, – но я сделаю другое. Вы дали мне возможность провести интереснейший вечер в моей жизни. Вы дали мне то, чего нельзя купить ни за какие деньги. Теперь деньги для меня ничего не значат. Я с удовольствием просто так дам тысячу долларов, в благодарность за тот незабываемый вечер. Вам нужны деньги, а у меня их слишком много. Вы хотите их получить? Не нужно никаких ухищрений. Получайте!
Крейз не проявил ни малейшего удивления. Он сунул чек себе в карман.
– На таких условиях я готов вам устраивать подобные вечера каждую неделю.
– Слишком поздно, – покачал головой Мартин, – это был для меня первый и последний такой вечер. Я словно очутился в другом мире. Для вас в этом не было ничего особенного, я знаю. Но для меня все было особенное. Это уже не повторится. Я покончил с философией. Я больше не желаю о ней слышать.
– Первый раз в жизни я получил деньги за философию, – заметил Крейз, направляясь к двери, – и то рынок сразу закрылся.
Однажды на улице мимо Мартина проехала в коляске миссис Морз и с улыбкой поклонилась ему. Он тоже улыбнулся и сиял шляпу. Случай этот не произвел на него никакого впечатления. Еще месяц назад он показался бы ему неприятным, а может быть, забавным, и он старался бы представить, как чувствовала себя при этом миссис Морз. Но теперь эта встреча прошла мимо его сознания. Он сейчас же забыл о ней, как забыл бы, например, о том, что проходил мимо здания центрального банка или городской ратуши. А между тем в его мозгу шла непрерывная, сверхнапряженная работа. Все та же неотступная мысль сверлила его: «давным-давно». С этой мыслью Мартин просыпался по утрам, эта мысль преследовала его во сне. Чем бы ни начинал он заниматься, он тотчас же говорил себе: «Все было давным-давно сделано». Логически рассуждая, Мартин пришел к печальному выводу, что теперь он никто, ничто Март Иден-хулиган и Март Иден-моряк были реальными лицами, они существовали на самом деле. Но Мартин Иден – великий писатель никогда не существовал. Мартин Иден – великий писатель был измышлением многоголовой толпы, которая воплотила его в телесной оболочке Марта Идена, хулигана и моряка. Но он-то знал, что это все – обман. Он совсем не был сыном солнца, перед которым преклонялась и благоговела толпа. Ему-то было, разумеется, виднее.
Мартин читал о себе в журналах, рассматривал свои портреты, которые печатались в огромном количестве, и не узнавал себя. Это он вырос в рабочем предместье, жил, любил и радовался жизни. Это он хорошо относился к людям и с легким сердцем встречал превратности судьбы. Это он странствовал по чужим краям, изъездил вдоль и поперек Тихий океан и предводительствовал шайкой таких же, как он, сорванцов. Это он был ошеломлен и подавлен бесконечными рядами книг, когда впервые пришел в библиотеку, а потом прочел эти книги и научился понимать их. Это он, до глубокой ночи не гасил лампы, клал гвозди в постель, чтобы не спать, и сам писал книги. Но тот ненасытный обжора, которого люди наперерыв спешили теперь накормить, – был не он.
Некоторые вещи все же забавляли его. Все журналы оспаривали честь открытия Мартина Идена. «Ежемесячник Уоррена» пространно объявил своим подписчикам, что, ища новых талантов, он первый набрел на Мартина Идена. «Белая Мышь» приписывала эту заслугу себе; то же делало «Северное обозрение», пока, наконец, не выступил «Глобус» и не указал с торжеством на искаженные «Песни моря», которые впервые были напечатаны им, «Глобусом». Журнал «Юность и зрелость», который, ухитрившись отделаться от кредиторов, снова начал выходить, тоже предъявил свои права на Мартина Идена. Впрочем, кроме фермерских ребятишек, никто не читал этого журнала. «Трансконтинентальный ежемесячник», «Шершень» наперебой требовали признания за ними первенства. Скромный голос Синглтри, Дарнлея и Ко вовсе не был слышен за шумом. У издательства не было своего органа, в котором оно могло бы громко заявить о своих правах.
Все газеты подсчитывали гонорары Мартина. Каким-то образом щедрые условия, предложенные ему некоторыми журналами, сделались достоянием гласности: оклендские проповедники, а также и частные просители наперерыв осаждали его устными и письменными просьбами. Но хуже всего вели себя женщины. Его фотографии имели огромное распространение, а репортеры постарались поярче расписать его «бронзовое лицо», «могучие плечи», «ясный, спокойный взгляд», «впалые щеки аскета». Эти «щеки аскета» особенно рассмешили Мартина, когда он припомнил бурные годы своей юности. Очень часто, бывая на людях, он видел, как то одна, то другая женщина смотрит на него так, словно оценивает его и выбирает. Мартин смеялся, вспоминая предостережения Бриссендена. Нет, женщины не заставят его страдать. С этим покончено.
Однажды, когда Мартин провожал Лиззи в вечернюю школу, Лиззи заметила взгляд, брошенный на Mapтина проходившей мимо красивой, хорошо одетой и, по-видимому, богатой дамой. Во взгляде не было ничего непристойного или двусмысленного, но Лиззи затрепетала от гнева, так как сразу поняла, что значит этот взгляд. Мартин, узнав причину ее гнева, сказал ей, что он давно привык уже к таким взглядам и равнодушен к нам.
– Этого быть не может! – вскричала она, сверкнув глазами. – Значит, вы больны!
– Никогда еще я не был так здоров. Я прибавил в весе на пять фунтов.
– Я не говорю, что вы телом больны; я говорю про ваш мозг. У вас в голове что-то неладно! Я и то вижу! А что я такое!
Мартин задумчиво шел рядом.
– Я бы очень хотела, чтобы это у вас поскорее прошло! – воскликнула она вдруг, – Вы не можете относиться равнодушно к женщинам. Да еще когда они на вас так смотрят. Это неестественно. Вы ведь не маленький мальчик. Честное слово, я была бы рада, если бы явилась, наконец, женщина, которая расшевелила бы вас.
Проводив Лиззи, Мартин вернулся в «Метрополь».
Он опустился в кресло и устремил взгляд в пространство, не двигаясь и ни о чем не думая. Только время от времени перед ним возникали и вновь исчезали призраки далекого прошлого. Он равнодушно созерцал видения, казавшиеся ему каким-то смутным сном. Но Мартин не спал. Вдруг он очнулся и посмотрел на часы. Было ровно восемь. Делать ему было нечего, а ложиться спать было рано. И опять он погрузился в мечтательное, полудремотное состояние, видения опять поплыли перед ним длинной вереницей. Ничего примечательного в этих видениях не было. Постоянно повторялся один образ: густая листва, пронизанная солнечными лучами.
Стук в дверь заставил его опомниться. Он не спал, и стук тотчас вызвал в его мозгу представление о телеграмме, письме, слуге, принесшем белье из прачечной. Ему вспомнился Джо, и, спрашивая себя, где сейчас может быть Джо, Мартин крикнул:
– Войдите!
Продолжая думать о Джо, он даже не оглянулся на дверь. Она тихо отворилась, но Мартин уже забыл о стуке, и опять видения поплыли перед ним. Вдруг сзади явственно послышалось женское рыдание. Рыдание было подавленное и сдержанное. Мартин мгновенно вскочил.
– Руфь! – воскликнул он с удивлением и почти с испугом.
Лицо ее было бледно и печально. Она стояла у двери, одной рукой держалась за нее, а другую руку прижимала к груди. Вдруг она с мольбой протянула обе руки к нему и шагнула вперед. Усаживая ее в кресло, Мартин заметил, как холодны ее пальцы. Сам он подвинул себе другое кресло и присел на его ручку. От смятения он не мог говорить. Весь его роман с Руфью был давно уже похоронен в его сердце. Он испытывал такое же чувство, как если бы вдруг на месте отеля «Метрополь» оказалась бы прачечная «Горячих Ключей» и ему предложили бы заняться недельной стиркой. Несколько раз он хотел заговорить, но всякий раз не решался.
– Никто не знает, что я здесь, – сказала Руфь тихо, с молящей улыбкой.
– Что вы сказали? – спросил он Его самого удивил звук его голоса. Руфь повторила свои слова.
– О! – сказал он; это было все, что он нашелся сказать.
– Я видела, как вы вошли в гостиницу, и, подождав немного, последовала за вами.
– О! – повторил он.
Никогда еще язык его не был таким скованным. Положительно все мысли сразу выскочили у него из головы. Он чувствовал, что молчание начинает становиться неловким, но даже под угрозой смерти он не придумал бы, с чего начать разговор. Уж лучше бы в самом деле он очутился в прачечной «Горячих Ключей», – он бы молча засучил рукава и принялся за работу.
– Итак, вы последовали за мной, – наконец проговорил он.
Руфь кивнула головой с некоторым лукавством и развязала на груди шарф.
– Я сначала видела вас на улице с той девушкой.
– Да, – сказал он просто, – я провожал ее в вечернюю школу.
– Разве вы не рады меня видеть? – спросила она после новой паузы.
– О да, – отвечал он поспешно, – но благоразумно ли, что вы пришли сюда одна?
– Я проскользнула незаметно. Никто не знает, что я здесь. Мне очень хотелось вас видеть. Я пришла сказать вам, что я понимаю, как я была глупа. Я пришла, потому что я не могла больше, потому что мое сердце приказывало мне прийти, потому что я хотела прийти!
Руфь встала и подошла к Мартину. Она положила ему руку на плечо и мгновение стояла так, глубоко и часто дыша, потом быстрым движением прижалась к нему. Добрый и отзывчивый по природе, Мартин понял, что он должен тоже обнять ее, что иначе он оскорбит ее так глубоко, как только может мужчина оскорбить женщину. Но в его объятиях не было ни теплоты, ни ласки. Он просто обхватил ее руками, но тело его не трепетало, как бывало прежде, и ему было лишь неловко и стыдно.
– Почему вы так дрожите? – спросил он. – Вам холодно? Не затопить ли камин?
Мартин сделал движение, как бы желая освободиться, но она еще крепче прильнула к нему.
– Это нервное, – отвечала она, стуча зубами, – я сейчас овладею собой. Мне уже лучше.
Ее дрожь мало-помалу прекратилась. Он продолжал держать ее в объятиях, но уже больше не удивлялся. Он теперь знал уже, для чего она пришла.
– Мама хотела, чтобы я вышла за Чарли Хэпгуда, – объявила она.
– Чарли Хэпгуда? Это тот самый молодой человек, который всегда говорит пошлости? – пробормотал Мартин. Помолчав, он прибавил: – А теперь ваша мама хочет, чтобы вы вышли за меня…
Он сказал это без вопросительной интонации. Он сказал это совершенно уверенно, и перед его глазами прошли длинные столбцы цифр полученных им гонораров.
– Мама не будет теперь противиться, – сказала Руфь.
– Она считает меня подходящим мужем для вас? – Руфь наклонила голову.
– А ведь я не стал лучше с тех пор, как она расторгла нашу помолвку, – задумчиво проговорил он. – Я не переменился. Я все тот же Мартин Иден. Я даже стал хуже, я курю теперь. Вы чувствуете запах дыма?
Вместо ответа она весело и кокетливо приложила ладонь к его губам, ожидая привычного поцелуя. Но губы Мартина не дрогнули. Он подождал, пока Руфь опустила руку, и потом продолжал:
– Я не переменился. Я не поступил на службу. Я и не намерен поступить на службу. И я по-прежнему утверждаю, что Герберт Спенсер – великий и благородный человек, а судья Блоунт – пошлый осел. Я вчера обедал у него и знаю это наверное.
– А почему вы не приняли папиного приглашения? – спросила Руфь.
– Откуда вы знаете? Кто подослал его? Ваша мать? – Руфь молчала.
– Ну конечно, она! Я так и думал. Да и теперь вы, наверно, пришли по ее настоянию.
– Никто не знает, что я здесь, – горячо возразила Руфь. – Неужели вы думаете, что моя мать позволила бы мне это?
– Ну, что она позволила бы вам выйти за меня замуж, в этом я не сомневаюсь.
Руфь жалобно вскрикнула:
– О Мартин, не будьте жестоким! Вы даже ни разу не поцеловали меня. Вы точно камень. А подумайте, на что я решилась!
Она оглянулась со страхом, но в то же время и с любопытством.
– Подумайте, куда я пришла!
«Я могла бы умереть за вас», – вспомнились ему слова Лиззи.
– Отчего же вы раньше на это не решились? – спросил он сурово. – Когда я жил в каморке. Когда я голодал. Ведь тогда я был тем же самым Мартином Иденом – и как человек, и как писатель. Этот вопрос я задавал себе за последнее время очень часто, и не только по отношению к вам, но и по отношению ко всем. Вы видите, я не переменился, хотя мое внезапное возвышение может навести на эту мысль. Я сам стараюсь убедить себя в том, что я переменился. Но я тот же! Никаких новых талантов, никаких новых добродетелей у меня нет. Мой мозг остался таким же, как был. У меня даже не появилось никаких новых взглядов на литературу или на философию. Ценность моей личности не увеличилась с тех пор, как я жил безвестным и одиноким. Я только удивляюсь, почему я вдруг стал всюду желанным гостем? Несомненно, что нужен людям не я сам по себе, – потому что я тот же Мартин Иден, которого они прежде знать не хотели. Значит, они ценят во мне нечто другое, нечто такое, что вовсе не относится к моим качествам, что не имеет со мной ничего общего. Сказать вам, что во мне ценится? То, что я получил всеобщее признание. Но ведь это признание вне меня. Оно существует в чужих умах. Кроме того, меня уважают за деньги, которые я теперь имею. Но и деньги эти тоже вне меня. Они лежат в банках, в карманах всяких Джонов, Томов и Джеков. А между тем и вам я тоже стал нужен из-за славы и денег.
– Вы надрываете мне сердце, – простонала Руфь. – Вы знаете, что я люблю вас, что я пришла сюда только потому, что люблю вас!
– Я боюсь, что вы меня не совсем поняли, – мягко заметил Мартин, – Скажите мне вот что: почему вы любите меня теперь сильнее, чем в те дни, когда у вас хватило решимости от меня отказаться?
– Простите и забудьте! – пылко вскричала она. – Я все время любила вас! Слышите – все время! Вот почему я здесь и вот почему обнимаю вас.
– Я теперь стал очень недоверчив, все взвешиваю на весах. Вот и вашу любовь я хочу взвесить и узнать, что это такое.
Руфь вдруг освободилась из его объятий, выпрямилась и внимательно посмотрела на него. Она словно хотела что-то сказать, но промолчала.
– Хотите знать, что я об этом думаю? – продолжал он, – Когда я был таким же, каким остался и до сих пор, никто не хотел знать меня, кроме людей моего класса. Когда книги мои были уже написаны, никто из читавших мои рукописи не сказал мне ни одного слова одобрения. Наоборот, меня бранили за то, что я вообще пишу, считая, что я занимаюсь чем-то постыдным и достойным осуждения. Все мне говорили только одно: иди работать.
Руфь сделала протестующее движение.
– Да, да, – продолжал он, – вы, правда, говорили не о работе, а о «карьере». Слово «работа», так же как и то, что я писал, не нравилось вам. Оно, правда, грубовато! Но, уверяю вас, еще грубее было, с моей точки зрения, то, что все вокруг убеждали меня приняться за работу, словно хотели направить на путь истинный какого-то закоренелого преступника. И что же? Появление моих произведений в печати и одобрение публики вызвали перемену в ваших чувствах. Вы отказались выйти замуж за Мартина Идена, хотя все, что теперь увидел свет, было написано уже тогда. Ваша любовь к нему была недостаточно сильна, чтобы вы вышли за него в то время. А теперь ваша любовь оказалась достаточно сильна, и, очевидно, объяснения этому удивительному факту надо искать именно в моей известности. О моих доходах в данном случае я не говорю, вы, может быть, не думали о них, хотя для ваших родителей, вероятно, и это имеет очень большое значение. Все это не слишком для меня лестно! Но хуже всего, что это заставляет меня усомниться в любви, в священной любви! Неужели и любовь должна питаться славой и признанием толпы? Очевидно, да! Я так много думал об этом, что у меня, наконец, голова закружилась.
– Бедная голова! – Руфь нежно провела рукой по его волосам. – Пусть она больше не кружится. Пусть она отдохнет наконец. Начнем сначала, Мартин! Я знаю, что проявила слабость, уступив настояниям мамы. Мне бы не следовало этого делать. Но ведь вы так часто говорили о всепрощении и снисхождении к человеческим слабостям. Будьте же ко мне снисходительны. Простите меня!
– О, я прощаю! – воскликнул он нетерпеливо. – Легко простить, когда нечего прощать! Ваш поступок не нуждается в прощении. Вы поступили согласно вашим взглядам. Так ведь и я могу просить у вас прощения за то, что своевременно не избрал служебную карьеру.
– Я ведь хотела вам добра, – возразила она с живостью. – Я не могла не желать вам добра, раз я любила вас!
– Верно, но вы чуть не погубили меня, желая мне добра. Да, да! Чуть не погубили мое творчество, мое будущее! Я по натуре реалист, а буржуазная культура не выносит реализма. Буржуазия труслива. Она боится жизни. И вы хотели и меня заставить бояться жизни. Вы стремились запереть меня в тесную клетку. Вы хотели заставить меня преклоняться перед ложными ценностями, навязать мне условную, пошлую мораль.
Мартин увидел, что Руфь хочет возразить.
– Я признаю, что вся эта пошлость вполне искренна, но тем не менее она есть основа буржуазной культуры классовых идеалов, классовой морали, классовых предрассудков.
Он печально покачал головой.
– Вы и теперь меня не понимаете. Вы придаете моим словам совсем не тот смысл, который я в них вкладываю. Для вас все, что я говорю, – чистая фантазия. А для меня это настоящая реальность. В лучшем случае вас забавляет и изумляет, что вот неотесанный малый, вылезший из грязи, вдруг дошел до того, что даже осмеливается критиковать ваш класс и называть его пошлым.
Руфь устало прислонилась головой к его плечу, и ее опять охватила нервная дрожь. Он выждал минуту, не заговорит ли она, и затем продолжал:
– А теперь вы хотите возродить вашу любовь! Вы хотите выйти за меня замуж. Вы хотите меня! А ведь могло случиться так – постарайтесь понять меня, – могло случиться, что мои книги не увидели бы свет и не заслужили бы признания, и тем не менее, я был бы тем, что я есть! Но вы бы никогда не пришли ко мне! Только эти книги… чтоб их чёрт…
– Не бранитесь, – прервала она его. Мартин язвительно рассмеялся.
– Вот, вот! – сказал он. – В тот миг, когда на карту поставлено все счастье вашей жизни, вы боитесь услыхать грубое слово. Вы по-прежнему боитесь жизни.
Руфь вздрогнула при этих словах, как бы обесценивавших всю сущность ее поступка; но все же ей показалось, что Мартин несправедлив к ней, и она почувствовала обиду.
Некоторое время они сидели молча; она – предаваясь грустным размышлениям и не зная, что делать; а он – вспоминая былую свою любовь. Он теперь ясно понял, что никогда не любил Руфь на самом деле. Он любил некую идеальную Руфь, небесное существо, созданное его воображением, светлого и лучезарного духа, воспетого им в поэмах любви. Настоящую Руфь, буржуазную девушку с буржуазной психологией и ограниченным кругозором, он не любил никогда! Внезапно она заговорила:
– Я признаю, что многое из того, что вы говорите, совершенно справедливо. Я действительно боялась жизни. Я недостаточно сильно любила вас. Но теперь я научилась сильнее любить. Я люблю вас таким, какой вы есть, таким, каким вы были раньше. Я люблю вас за все то, чем вы отличаетесь от людей моего класса. Пусть ваши взгляды иногда непонятны мне. Я научусь их понимать. Я должна научиться их понимать! Ваше курение, ваша брань – все это часть вашего существа, и я люблю вас и за это. Я многому научусь. За последние десять минут я уже многому научилась. Разве когда-нибудь раньше я бы решилась прийти сюда к вам? О Мартин!..
Руфь заплакала, спрятала лицо у него на груди. Она почувствовала вдруг, что он ласково обнял ее, впервые после разлуки. Она почувствовала это и подняла на него просиявшие глаза.
– Слишком поздно, – сказал он. Он вспомнил слова Лиззи. – Я болен, Руфь… нет, не телом. Душа у меня больная, мозг. Все для меня потеряло ценность. Я ничего не хочу. Если бы вы пришли полгода тому назад, все могло быть по-другому. Но теперь уже поздно, слишком поздно!
– Нет, не поздно! – вскричала она. – Я докажу вам это. Я вам докажу, что моя любовь сильнее классовых предрассудков. Я готова отречься от всего, что так дорого буржуазии. Я больше не боюсь жизни. Я покину отца и мать, отдам свое имя на поношение. Я готова остаться с вами сейчас же навсегда, если вы хотите, и я сумею найти в этом гордость и радость. Если я раньше предала любовь, сейчас я готова ради любви предать то, что тогда толкнуло меня на измену.
Руфь стояла перед Мартином со сверкающими глазами.
– Я жду! – прошептала она. – Я жду, Мартин, чтобы вы сказали «да». Взгляните на меня.
«Как это прекрасно, – подумал он, глядя на нее: она искупила все свои прежние ошибки, она сделалась настоящей женщиной, сорвала с себя, наконец, железные цепи буржуазных условностей. Все это прекрасно, великолепно, благородно… Но что же такое со мной?»
Ее поступок оставлял его совершенно холодным. Он только умом оценивал ее. Вместо пожара – холодное одобрение. Сердце его оставалось нетронутым, и желание не загорелось в крови. Ему снова вспомнились слова Лиззи.
– Я болен, очень болен, – сказал Мартин, безнадежно махнув рукой. – Я даже не подозревал до сих пор, что так сильно болен. Что-то случилось со мной. Я никогда не боялся жизни, и я никогда не мог себе представить, что потеряю вкус к жизни. Но теперь я оказался пресыщен жизнью. Во мне не осталось никаких желаний Я даже вас не хочу! Вы видите, как я болен!
Он откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза; и подобно тому, как плачущий ребенок сразу забывает все свои горести, глядя сквозь слезы на игру солнечного луча, так забыл Мартин и болезнь, и присутствие Руфи, и все на свете, созерцая внезапно возникшее видение – густую листву, пронизанную солнечными лучами. Она была слишком зелена и ослепительна, эта листва. Ему было больно смотреть на эту зелень, но он, сам не зная почему, смотрел.
Мартин очнулся, услыхав скрип дверной ручки, Руфь стояла у двери.
– Как мне выйти отсюда? – жалобно спросила она, – Я боюсь.
– О, простите меня, – вскричал он вскакивая. – Я сам не знаю, что со мною! Я забыл, что вы здесь.
Он провел рукою по лбу.
– Вы видите, я совсем не здоров. Я вас провожу до дому. Мы можем пройти черным ходом. Никто нас не заметит. Только опустите вуаль.
Руфь крепко держалась за его руку, они шли по узким коридорам и полутемным лестницам.
– Ну, теперь я в безопасности, – сказала она, выйдя на улицу, и хотела высвободить руку.
– Я провожу вас до дому, – сказал он.
– Нет, нет, – возразила она, – не нужно!
Она снова сделала попытку высвободить руку. На мгновение это возбудило его любопытство. Казалось она боится чего-то именно теперь, когда всякая опасность для нее миновала. Ей словно хотелось поскорее отделаться от него, и Мартин приписывал это просто нервной реакции. Поэтому он удержал ее руку и повел Руфь по направлению к дому. Когда они подходили к углу, Мартин вдруг увидел человека в длинном пальто, который поспешно нырнул в подъезд. Проходя мимо, Мартин заглянул туда и, несмотря на поднятый воротник незнакомца, узнал брата Руфи – Нормана.
По дороге Мартин и Руфь почти не разговаривали. Она была грустна, а он был равнодушен. Он сказал ей, что уезжает на острова Тихого океана, а она в свою очередь попросила у него прощения за свой неожиданный приход. Вот и все. Они расстались у дверей ее дома. Они пожали друг другу руки, пожелали спокойной ночи, причем он церемонно приподнял шляпу. Дверь захлопнулась. Мартин закурил папиросу и пошел обратно в гостиницу. Проходя мимо пустого теперь подъезда, в котором прятался Норман, Мартин остановился и с минуту постоял в раздумье.
– Она солгала, – сказал он вслух. – Она хотела уверить меня, что поступила решительно и смело, а между тем ее брат все время ожидал ее, чтобы проводить обратно домой, – Он расхохотался. – Ах, эти буржуа! Когда я был беден, я не смел даже приблизиться к его сестре. А когда у меня завелся текущий счет в банке, он сам приводит ее ко мне!
Мартин хотел продолжать свой путь, как вдруг какой-то бродяга, поравнявшись с ним, тронул его за локоть.
– Одолжите четвертак, сударь! За ночлег заплатить, – сказал он.
Голос заставил Мартина мгновенно оглянуться. В следующий миг он уже крепко пожимал руку Джо.
– Помнишь, я тебе говорил, что мы встретимся, – говорил Джо. – Я предчувствовал это. Вот мы и встретились!
– Ты смотришь молодцом! – сказал Мартин с восхищением. – Даже как будто пополнел.
– Так оно и есть, – подтвердил Джо сияя. – С тех пор как я стал бродягой, я понял, что значит жить! Тридцать фунтов прибавил и чувствую себя великолепно! Ведь в прежние времена я так заработался, что от меня остались кожа да кости. А такая жизнь прямо по мне!
– Однако ты просишь на ночлег, – поддразнил его Мартин, – а ночь не очень теплая!
– Гм! Прошу на ночлег! – Джо вытащил из кармана горсть мелочи – Мне бы этого хватило, – признался он, – да у тебя был очень уж располагающий вид. Вот я тебя и взял на прицел.
Мартин расхохотался.
– Да тут у тебя еще и на выпивку хватит, – заметил он.
Джо важно спрятал деньги в карман.
– Не по моей части! – объявил он. – Я теперь не пью. Нет охоты. Я только раз был пьян после того, как мы с тобой расстались, да и то потому, что сдуру хлебнул на пустой желудок. Когда я зверски работал, я и пил зверски. Теперь, когда я живу по-человечески, я и пью по-человечески! Иногда перехвачу стаканчик – и баста!
Мартин условился встретиться с ним на другой день и пошел в гостиницу. В вестибюле он взглянул на расписание пароходов. Через пять дней на Таити отправлялась «Марипоза».