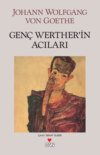Kitabı oku: «Страдания юного Вертера», sayfa 5
6 июля
Она всё ещё у своей умирающей подруги; всё та же добрая душа, всё то же милое существо. Куда ни посмотрит – горе смягчает, счастливцев творит!
Вчера отправилась она с сёстрами Мальхен и Марианной на прогулку; я узнал об этом и встретил их. После полуторачасовой ходьбы, дошли мы почти до города и пошли к колодезю, который мне стал теперь ещё дороже. Лотта присела на стенку, и я вспоминал то время, когда сердце моё было ещё свободно; недавно прошедшее ожило. С той поры, колодезь, не знаю я твоей прохлады – я даже забыл о тебе!
Я оглянулся и увидел Мальхен с полным стаканом в обеих руках; она медленно взбиралась наверх и вся занята была одною мыслью, как бы не пролить воду. Я взглянул на Шарлотту и разом сознал всё, чем она стала мне. Между тем подошла Мальхен. Марианна протянула руку, но та отвернулась. «Нет, – говорит с выражением, которого описать не умею: – Нет, Лотточка, ты будешь прежде пить!» – Это выражение детской доброты, детской привязанности тронуло меня. Я схватил девочку, поднял её и несколько раз крепко поцеловал. Она начала кричать и плакать: «Вы поступили не хорошо», – сказала Шарлотта. Я был поражен. – «Пойдём, Мальхен», – сказала она и, взяв её за руку, спустилась с лестницы. «Умой себя в свежем источнике; живо, живо – и борода не вырастет!» Я только стоял и смотрел. С каким старанием малютка тёрла себя щёки мокрыми ручонками! С каким верованием в чудесную силу источника лилась она даже и после того, как Лотта сказала: «Довольно!» – Как усердно, всё крепче и крепче тёрла она свой подбородок как будто тут много значило больше, нежели мало. Право, Вильгельм, я ни на каких крестинах не испытывал такого чувства. Когда Шарлотта поднялась наверх, я готов был упасть перед ней, как перед пророком, омывшим грехи народа!
Вечером я не мог воздержаться, чтоб не рассказать этого одному из знакомых. Я думал, что он имеет светлый взгляд, потому что он разумен – и вот попался! Представь, что он отвечал: «Шарлотта, – говорит, – поступила не хорошо; детям не надо внушать таких мыслей – это ведёт к заблуждениям и предрассудкам, от которых надо их сызмала оберегать». Ну, знает же он! Тут я вспомнил, что за неделю он у себя ребёнка крестил. Будемте же, подумал я, с детьми поступать так, как Бог поступает с нами, когда оставляет нас в приятном заблуждении.
3 июля
Какие мы дети! Как дорожим иногда одним взглядом! О, какие мы дети!
Общество наше отправилось вчера в Вальгейм. Во время прогулки я думал прочесть в черных глазах Лотты… Простак я – прости мне это! Если бы ты знал эти глаза! Короче сказать (глаза смыкаются от усталости) – возвращаясь домой, дамы снова уселись в шарабан; а мы, братья Одраны, я, Зальстрем И*, провожаем им.
Товарищи мои болтали скоро и много; она отвечала всем. Я ловлю взгляд, которым она наделяет каждого, кроме меня; но он переходит от одного к другому, а на меня, как нарочно, не надает. Сердце мое шепнет ей тысячу прости! Напрасно! Так-таки она и не взглянула на меня. Шарабан отъехал; смотрю вслед; у меня навернулись слёзы. Шляпка, головка ее свесилась – и вот она оглянулась. Не на меня ли? Друг, надежда, неуверенность! Между ними-то колеблюсь, а И* – всё утешенье моё: быть может, на меня? быть может! Доброй ночи, Вильгельм! О, какие мы дети!
10 июля
Посмотрел бы ты на нелепую мою фигуру, когда подчас заговорят о ней! И что забавнее – бывают же такие люди! Когда спросят меня: как она нравится мне? – вот бы ты посмотрел! Нравится? Кто мог выдумать это глупое слово? И что это за человек, хотел бы я знать, который знает Лотту и которому она может нравиться, которого всей душой она не овладела? Недавно кто-то спросил меня: как мне правится Оссиан?
11 июля
Госпожа М* очень плоха; боюсь за ее жизнь, потому что Лотта страждет за неё. Иногда мы встречаемся – и сегодня она рассказала мне прекурьезный случай.
Ее муж М*, старый, протухлый гриб, довольно на свой век насолил жене и порядочно её помучил. Несколько дней тому, когда медики отказались от нее, она позвала мужа (Лотта была тут же) и сказала ему: «Я должна признаться тебе в том, что может быть причиной многих огорчений и наделать после моей смерти больших хлопот. Я вела хозяйство в порядке и с бережливостью возможной; но ты извинишь меня, если скажу, что я тридцать лет обманывала тебя. В начале твоей женитьбы, ты назначил мне по семь гульденов в неделю на кухню и вообще на содержание дома. Когда торговля наша расширилась, хозяйство увеличилось, я и тогда не могла уговорить тебя улучшить мои средства; словом, когда дела наши были в самом цветущем положении, я и тогда должна была обходиться теми же семью гульденами в неделю. Я решилась пополнять недостаток из выручки. Не скажут же, думала я – если б на то пошло – что жена обкрадывает мужа. Я ничего лишнего не истратила и без всякого зазрения совести отошла бы в вечность, если б меня не тревожила мысль, что та, которой придётся после меня хозяйничать, не догадается делать того, что делала я, и что ты всё-таки будешь настаивать на своём, да ещё меня же приводить в пример!»
Эта история подала мне повод к разговору с Лоттой о невероятном иногда ослеплении человеческого рассудка. Не сердись, принимай всё к лучшему, когда требуешь за семь гульденов того, чего нельзя иметь и за четырнадцать! И то сказать, не впервые было мне видеть человека, который и вечную кружку пророка охотно бы перетащил в свой дом.
15 июля
Нет, я не обманываю себя; я читаю в ее глазах участие ко мне и к моей участи! Да, я чувствую и верю моему сердцу, что она – о, посмею ли выразить небо словом простым? – что она любит меня!
Любит меня! Как росту я в своих глазах! – тебе могу это сказать; ты довольно развит, чтобы понять меня – как высоко ценю себя с той поры, как она любит меня!
Дерзость это или сознание настоящих отношений? Не знаю себе соперника в сердце Шарлотты, а всё-таки, когда она заговорит о своём суженом, заговорит с таким жаром, с такою любовью – я не знаю – со мною как с человеком, лишенным чести и доброго имени – я словно шпагу отдаю!
16 июля
Случится ли, что рука моя коснётся ее руки, что ноги наши встретятся под столом – какая дрожь по мне пробежит! Спешишь отсторониться как от огня, а между тем неведомая, таинственная сила подмывает, и кружится голова, и как будто – о, ее невинность, ее доверчивость не знает, как мучат меня иногда ее маленькие фамильярности! Бывает, что в разговоре она свою руку положит на мою, увлечённая рассказом станет ближе ко мне и ее небесное дыхание коснётся моей щеки – тогда, как громом пораженный, теряю всякое сознанье. И если я когда-нибудь – ты понимаешь меня, Вильгельм – осмелюсь это небо, эту доверчивость – ты понимаешь меня… Нет! на столько сердце моё не испорчено; но всё ж оно слабо, довольно слабо – и разве это уже не порча?
Она мне свята. Вожделения немы при ней. Когда я с нею, душа как будто совершает свой тихий полёт по нервам. Она знает мелодию, которую исполняет на фортепиано с силою ангела – так просто и так одушевлённо! Это ее задушевная песенка, и ей стоит только взять первую ноту – куда девались сомненья, страх и тоска?
Верю в чары волшебной флейты! Как трогает меня простой напев Лотты! и как он бывает впопад! Иной раз готов всадить себе пулю в лоб… Мгла редеет, туман рассеялся – любишь – и я снова дышу свободно.
18 июля
Чем, скажи, была бы жизнь без любви? Без свету фонарь волшебный? Гола, мертва белая стена; но едва лампочка её озарит – она ожила, запестрела картинками! весело! Призраки мимолётные? Пусть так. Да когда мы, бывало, свежие, краснощёкие ребята ей радуемся, ее чудесам дивимся – разве мы тогда менее счастливы? Сегодня одно неотвратимое обстоятельство задержало меня; что было делать? Я придумал предлог и послал к Лотте слугу, чтоб иметь около себя живое существо, с которым бы виделась она. С каким нетерпением я его ждал, и как обрадовался, когда увидел его! Схватил бы, расцеловал бы его, если б не было стыдно при чужих.
Говорят, болонский камень, полежав на солнце, имеет свойство воспринимать его лучи и потом на мгновение светится ночью. С моим малым, кажется, тоже случилось. Мысль, что взгляд Лотты падал на его лицо, на воротник и пуговицы его камзола, эта мысль давала ему в моих глазах какое-то особенное значение; в ту минуту, за тысячу талеров не уступил бы его; словом, его присутствие успокоило меня. Избави тебя Бог, Вильгельм, посмеяться над этим! Призраки? Чудак; да если я ими счастлив!
19 июля
Я увижу её! говорю себе ежедневно, просыпаясь утром, и бодро и весело смотрю на солнце. Я увижу её! и нет для меня другого желанья, другой мысли на целый день; всё, всё в этом одном!
20 июля
С вашим желанием – чтоб я отправился с посланником В* – не могу согласиться; субординация не очень-то мне по нутру, да к тому же мы все знаем, что этот человек – противный человек! Ты говоришь, что матушка хлопочет о моей деятельности. Это насмешило меня. Разве я недеятелен? Разве не всё равно – горох чистить или чечевицу считать? Ведь в сущности-то на что все метать? На тряпки! И тот, кто помимо призвания или собственной страсти, только в угоду другим надевает хомут и о богатстве, почестях и тому подобных пустяках хлопочет, тот, по-моему, как был, так и останется глупцом.
24 июля
Ты заботишься о моих успехах в живописи? С некоторого времени они так плохи, что лучше бы мне не говорить об этом.
Странно; никогда мои понимания природы, никогда моё счастье, способность читать ее явления до последнего камешка, до малейшей травки, не стояли на такой степени – и что же? Не умею даже выразиться – так ослабела моя представительная сила, так всё расплывается и колеблется передо иной; я простейшего контура схватить не могу. Но утешаю себя тем, что если скульптором сделаюсь – чудес натворю. Вот увидишь, непременно глиной и воском запасусь; лепить, лепить буду – и если б из этого вышли пироги!
Три раза начинал я портрет Лотты, и три раза опростоволосился. Это мне тем обиднее, что с некоторого времени сходство давалось мне. Я снял ее контур – и этого мне покуда довольно.