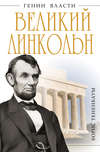Kitabı oku: «Истины в моем сердце. Личная история», sayfa 3
Я придерживалась этого принципа, работая с потерпевшими, чьи достоинство и безопасность всегда были для меня превыше всего. Требуется огромное мужество, чтобы поделиться своей историей и выдержать перекрестный допрос, зная, что авторитету личности и подробностям личной жизни будет уделяться пристальное внимание. Но когда потерпевшие выступают, они делают это на благо всех нас – чтобы привлечь к ответственности тех, кто нарушает закон.
Формула «от имени народа» была моим компасом – и не было ничего, что я воспринимала бы более серьезно, чем власть, которой теперь обладала. Находясь в своей должности, я имела право решать, выдвигать ли против кого-либо обвинения, и если да, то какие и сколько. Я могла договариваться о соглашениях относительно признания вины и предоставлять суду рекомендации по вынесению приговора и освобождению под залог. Я только начинала работать прокурором, и все же у меня была власть лишить человека свободы одним взмахом пера.
Когда пришло время заключительной речи, я подошла к скамье присяжных. Я решила говорить без записей, чтобы не заглядывать в бумажку, зачитывая свои лучшие аргументы в пользу того, почему присяжные должны осудить обвиняемого. Мне хотелось посмотреть им в глаза. Я считала, что должна знать свое дело вдоль и поперек, чтобы суметь воспроизвести его детали даже с закрытыми глазами.
Закончив свою речь и направившись обратно к столу прокурора, я мельком взглянула на аудиторию. Эми Резнер, моя подруга с первого дня профориентации, сидела с широкой улыбкой на лице, подбадривая меня. Теперь мы обе были в деле.
Ежедневная работа была напряженной. В любой момент времени прокурор может жонглировать более чем сотней дел. Мы начали с работы на более низком уровне: спорили о предварительных слушаниях, проводили судебные процессы по таким проступкам, как вождение в пьяном виде и мелкие кражи. С годами я набирала все больше и больше опыта и продвигалась вверх по служебной лестнице. Настал момент, когда я начала заниматься тяжкими преступлениями, что вывело работу на совершенно новый уровень.
Я изучала полицейские отчеты и опрашивала свидетелей. Вместе с судмедэкспертом я просматривала фотографии вскрытия, всегда осознавая, что вижу чьего-то ребенка или родителя. Когда полиция арестовывала подозреваемого, я приходила в полицейский участок, становилась по другую сторону стекла в комнате для допросов и передавала записки следователям, проводившим допрос.
Как только я начала заниматься уголовными преступлениями, меня назначили в отдел убийств. В пятницу днем мне выдавали портфель с пейджером (хай-тек начала девяностых), ручкой и блокнотом, копией Уголовного кодекса и списком важных номеров для звонков. В течение следующей недели, когда бы ни зазвонил пейджер, это означало, что произошло убийство и я нужна на месте преступления. Обычно приходилось вскакивать с постели между полуночью и шестью часами утра. Моя задача состояла в том, чтобы убедиться, что доказательства собраны надлежащим образом, со всеми соответствующими конституционными гарантиями, чтобы они были применимы в суде. Мне часто приходилось объяснять потерпевшим и их семьям, что есть разница между тем, что мы знаем, и тем, что мы можем доказать. Существует гигантская пропасть между арестом и осуждением, и если вы хотите перейти от одного к другому, вам нужны доказательства, полученные законным путем.
В зале суда я была как дома. Я чувствовала ритм всего процесса. Мне было комфортно с его особенностями. В конце концов я перешла в подразделение, которое занималось расследованием сексуальных преступлений – сажало за решетку насильников и растлителей малолетних. Это была трудная, мучительная и крайне важная работа. Я встречала много девочек, а иногда и мальчиков, подвергавшихся насилию, нападениям, испытывавших на себе пренебрежение со стороны людей, с которыми они находились в доверительных отношениях.
Особая сложность таких дел состояла в том, что для вынесения обвинительного приговора часто требовалось, чтобы человек, переживший нападение, дал показания. Я провела много дней в Оклендской больнице, встречаясь с выжившими и рассказывая им о том, что значит выступить в суде, на что будет похож этот опыт. Для некоторых из них было просто немыслимо встать на трибуну и во всеуслышание рассказать о том, о чем они не хотели говорить даже в частном порядке.
В переживании сексуального насилия так много боли и муки. Сдерживание такого рода эмоциональной травмы для того, чтобы дать показания, требует необычайного мужества и стойкости. Особенно это трудно, когда обидчик также находится в зале суда, когда этот обидчик член семьи или друг, и человек знает, что будет подвергнут перекрестному допросу защитником, чья работа состоит в том, чтобы поставить под сомнение слова потерпевшего. Я никогда не осуждала тех, кто не смог заставить себя пройти через это.
Часто, особенно в случаях с самыми маленькими детьми, проблема получения обвинительного приговора сводилась к способности и готовности ребенка давать показания. Такие дела терзали меня больше всего. Никогда не забуду крошечную, тихую шестилетнюю девочку, к которой приставал ее шестнадцатилетний брат. Моя работа состояла в том, чтобы сидеть с этим милым маленьким ребенком и выяснять, смогу ли я убедить ее рассказать мне свою историю – и сможет ли она повторить ее снова перед присяжными. Я проводила с ней много времени, играя с игрушками, играя в игры, пытаясь построить доверительные отношения. Но как бы я ни старалась, я знала (просто знала), что она никак не сможет объяснить присяжным, что ей пришлось пережить. Помню, как вышла из помещения, не выдержав, пошла в туалет и расплакалась. Без ее показаний, вне всяких сомнений, я ни за что не смогла бы доказать обвинения. Несмотря на всю свою прокурорскую власть, мне кажется, я никогда не чувствовала себя настолько беспомощной.
Это были лишь некоторые из проблем защиты детей от насильников. Сами присяжные иногда, казалось, были более склонны верить взрослым, чем детям. Это особенно проявлялось в делах о сексуальной эксплуатации подростков. Часто мне вспоминается случай с четырнадцатилетней девочкой, которая сбежала из приемной семьи с группой молодых людей из своего района.
Вместо того чтобы быть ее союзниками и защитниками, они отвели ее в пустую квартиру и изнасиловали. Было видно, что в раннем возрасте она научилась не доверять взрослым; отношение скептицизма и враждебности она носила как доспехи. Я сочувствовала этой бедной девочке, у нее было ужасное детство, которое стало началом пути по наклонной. Но я также хорошо понимала, как она будет выглядеть перед присяжными, когда войдет в зал суда, жуя жвачку, и, возможно, будет демонстрировать презрительное отношение к процессу.
Я переживала: увидят ли присяжные в ней ребенка, которым она была, невинную жертву серийного насилия? Или просто вычеркнут ее из жизни, потому что она одета «неподобающе» и сама все это заслужила?
Присяжные – это люди, им свойственны человеческие отклики и реакции. Я понимала, что должна учитывать их отношение, если хочу иметь хоть какой-то шанс подтолкнуть их к более справедливой интерпретации фактов.
Я видела, что они плохо реагируют на нее. Было заметно, она им не нравится. «Уголовный кодекс был создан не для того, чтобы защитить кого-то из нас, – напомнила я присяжным. – Он для всех. Эта девочка – ребенок. Она нуждается в защите от хищников, которые собираются наброситься на нее. И одна из причин, по которой обвиняемые выбрали ее в качестве своей жертвы, заключается в том, что они думали, что вы не отнесетесь к ней серьезно и не поверите ей». В конце концов мы добились обвинительного приговора, но не уверена, что он много значил для этой девочки. После суда она исчезла. Я просила некоторых следователей помочь мне найти ее. Мы получили обрывочные сведения о том, что ее продают на улицах Сан-Франциско, но так и не смогли подтвердить этого. Больше я ее никогда не видела.
Трудно было не чувствовать тяжести системных проблем, с которыми мы столкнулись. Посадить насильников этой девочки в тюрьму означало, что они не смогут причинить вред другим детям. Но как насчет той, которой они уже успели нанести вред? Как наша система помогла ей?
Приговор не дал ей исцеления, приговора было недостаточно, чтобы вырвать ее из порочного круга насилия, в котором она оказалась. Такова реальность, и вопрос о том, что с ней делать, не выходил у меня из головы. Иногда он отходил на второй план, иногда возникал снова. Прошло еще несколько лет, прежде чем я смогла заняться им вплотную.
В 1998 году, после девяти лет работы в прокуратуре округа Аламеда, меня пригласили поработать на другой стороне залива, в окружной прокуратуре Сан-Франциско. Мне предложили возглавить подразделение, которое занималось делами насильников и серийных преступников. Поначалу я не решалась, и не только потому, что мне нравилось работать в Аламеде. В то время окружная прокуратура Сан-Франциско имела сомнительную репутацию.
Меня беспокоили истории о нарушениях. В то же время это было повышение: я буду руководить подразделением, курировать команду прокуроров. Это была возможность роста. Кроме того, мой друг и наставник Дик Иглхарт, который тогда был главным помощником окружного прокурора Сан-Франциско, активно звал меня к себе. С некоторым трепетом я все же приняла предложение – и вскоре обнаружила, что мои опасения были не напрасны.
В офисе царил беспорядок. По одному компьютеру на двоих, никакой картотеки и базы данных для отслеживания дел. Ходили слухи, что, когда адвокаты заканчивали дело, некоторые из них выбрасывали папки в мусорное ведро. Это было в конце 1990-х, а в прокуратуре все еще не было электронной почты.
Кроме того, накопилось огромное количество дел, которые просто лежали, не расследовались, не передавались в суд. Адвокаты были недовольны тем, что полиция не расследует дела. Полиция была разочарована действиями окружного прокурора, потому что его офис не мог добиться обвинительных приговоров. Решения, принимаемые на самом верху, казались произвольными и случайными, а моральный дух персонала упал практически до нуля. Положение усугубила серия увольнений. Однажды в пятницу четырнадцать адвокатов вернулись с обеда и обнаружили на своих стульях розовые листки. Это было ужасно. Люди плакали и кричали, и вскоре их страх превратился в паранойю. Юристы боялись друг друга – боялись предательства со стороны коллег, пытающихся сохранить место. Некоторые начали пропускать прощальные вечеринки своих уволенных друзей, опасаясь, что из-за этого будут следующими на выход.
Это было невероятно неприятно, и не только с точки зрения повседневной работы. Я считала, что окружной прокурор подрывает саму идею о том, каким должен быть прогрессивный человек, занимающий эту должность. В моем представлении прогрессивный прокурор – это тот, кто использует власть с чувством справедливости и видением перспективы, кто обладает достаточным опытом, ясно понимает необходимость привлечения к ответственности серьезных преступников и осознает, что лучший способ обеспечить безопасность общества – это в первую очередь предотвратить преступность. Чтобы сделать это эффективно, надо в первую очередь быть профессионалом.
Через полтора года у меня появился шанс. Прокурор Сан-Франциско Луиза Ренн позвонила мне и предложила работу. Луиза была первой женщиной, занявшей этот пост. Она была первопроходцем, и она была бесстрашна. Ей предстояло противостоять интересам производителей оружия и табака, членам клубов только для мужчин. В ее офисе была вакансия руководителя отдела по работе с семьей и детьми; она хотела знать, интересно ли мне это. Я ответила, что возьмусь за эту работу, но хочу заниматься не просто отдельными делами, а общей политикой, которая помогла бы улучшить систему в целом. Слишком часто молодые люди, которые воспитывались в приемных семьях, мигрировали в места заключения несовершеннолетних, а затем и взрослых уголовных преступников. Я хотела пересмотреть общие принципы, что позволило бы остановить этот разрушительный поток. Луиза была только «за».
Два года я проработала в городской прокуратуре. Начала я с того, что стала соучредителем целевой группы по изучению проблем сексуальной эксплуатации молодежи. Мы собрали группу из экспертов, потерпевших и общественных деятелей, которые помогли нам составить руководство – ряд рекомендаций, которые мы затем представили Наблюдательному совету Сан-Франциско.
Моим партнером по этой работе была Норма Хоталинг. Она не понаслышке была знакома с проблемами, которые мы решали. В детстве она подвергалась жестокому обращению и в конце концов стала бездомной и пристрастилась к героину. Ее арестовывали за проституцию более 30 раз. Но ее история была одной из немногих историй со счастливым концом. Норма выбралась с самого дна. Она окончила колледж и получила степень в области медицинского образования. Сразу по окончании колледжа она применила свои знания, создав программу, которая сегодня широко используется. Целью этой программы было спасение женщин от проституции. Более подходящего человека для совместной работы было найти трудно, и я восхищаюсь ею, потому что у нее хватило смелости рассказать свою историю и использовать ее на благо множества других людей.
Одним из наших приоритетов было создание безопасного места для молодых людей, вовлеченных в проституцию, где они могли бы получить любовь, поддержку и лечение. По многолетнему опыту я знала, что жертвам, которым мы пытались помочь, обычно некуда было идти. В большинстве случаев родителей у них не было. Многие сбежали из приемных семей. Люди часто задавались вопросом, почему эксплуатируемые дети, подобранные полицией, впоследствии сразу же возвращаются к сутенерам или пожилым проституткам, которые «заботятся о них». Мне это не казалось таким уж странным – куда еще могли обратиться эти дети?
Наша группа предложила создать безопасный дом для молодых людей, подвергавшихся сексуальной эксплуатации, – убежище, в котором бы проводились лечение наркомании и восстановление психического здоровья. Здесь должно было происходить обеспечение молодых людей ресурсами, необходимыми для возвращения в школу. Здесь предпринимался комплекс мер по охране безопасности и здоровья уязвимых молодых людей и удержанию их на правильном пути. Мы выступали за финансирование такого надежного места, где сохранялась бы анонимность обратившихся, а также за проведение кампании по просвещению населения. Мы развесили плакаты в автобусах и общественных туалетах, где молодые люди из группы риска могли бы получить необходимую информацию, избегая вмешательства сутенеров.
Мы также считали важным закрыть сеть борделей, маскирующихся под массажные салоны, где сексуальной эксплуатации подвергается множество людей. Мы попросили Наблюдательный совет поставить правоохранительным органам приоритетную задачу расследования таких случаев.
К счастью, Наблюдательный совет принял к сведению наши рекомендации и выделил финансирование. За первые два года нам удалось спасти десятки беглецов. Правоохранительные органы тем временем закрыли почти три десятка борделей в городе.
Эта работа много значила для меня, вдохновляла и доказывала, что я могу заниматься серьезной политической деятельностью, не будучи законодателем. Она также укрепила мою уверенность в том, что когда я вижу проблемы, то способна продумать их решение. Все те случаи, когда мама настойчиво спрашивала: «Ну и что ты сделала?» – внезапно обрели гораздо больше смысла. Я поняла, что мне не нужно ждать, пока кто-то другой возьмет на себя инициативу; я могла начать все делать сама.
Думаю, именно осознание этого заставило меня задуматься о выборной должности. Из всех проблем, которые я наблюдала, незамедлительного вмешательства требовала именно ситуация в окружной прокуратуре. В то время как мы добивались больших успехов в городской прокуратуре, офис окружного прокурора саморазрушался. Талантливые профессиональные прокуроры видели, что их усилия недооцениваются, и чувствовали себя загнанными в тупик в той жизненно важной работе, которой они посвятили свою жизнь. Тем временем жестокие преступники разгуливали на свободе. И я знала это. Мы все знали это. Однако вдруг оказалось, что это не просто важный вопрос, который нужно решить. Это был важный вопрос, который могла решить я.
Я хотела поддержать окружную прокуратуру, усилить ее влияние, вернуть уважение к ней. Но для того, чтобы управлять ею, я должна была баллотироваться на должность. Политическая кампания – это грандиозное мероприятие, и очевидно, что мне не так-то легко было взяться за это. Я обратилась к своим друзьям, семье, коллегам, наставникам. У нас возникли долгие, оживленные споры (как будто я опять защищала дипломную работу). Мы снова и снова взвешивали все «за» и «против».
Люди, как правило, поддерживали эту идею, но они также беспокоились за меня. Мой потенциальный противник и бывший босс уже стал притчей во языцех. Однако он имел репутацию бойца: его даже прозвали Кей-Оу28, отдавая дань уважения многим нокаутам, которыми заканчивались в юности его поединки с противниками на ринге. Кампания была бы не только «травмоопасной», но и дорогостоящей, а у меня не было опыта сбора средств.
Действительно ли для меня настало время участвовать в выборах? У меня не было возможности это узнать. Но я все сильнее и сильнее начинала чувствовать, что тактика «подожди и увидишь» – это не вариант. Я вспоминала о Джеймсе Болдуине, чьи слова так много значили в борьбе за гражданские права. «В будущем никогда не наступит время, когда мы сможем осуществить наше спасение, – написал он. – Вызов находится в настоящем моменте; время всегда сейчас».
Глава 2. Голос за справедливость
«Камала, пойдем. Пойдем, мы опоздаем». Мама теряла терпение. «Одну секунду, мамуля», – откликнулась я. (Да, моя мама была и всегда останется для меня «мамулей».) Мы ехали в предвыборный штаб, где собирались добровольцы. Мама часто брала на себя руководство волонтерами, и она не тратила время на пустую болтовню. Все знали, что, когда Шамала говорит, надо слушать.
Мы ехали от моего дома, расположенного недалеко от Маркет-стрит, мимо достопримечательностей и красот центра Сан-Франциско в Бэйвью-Хантерс-Пойнт, преимущественно черный район в юго-восточной части города. В Бэйвью находилась военно-морская верфь Хантерс-Пойнт, на которой в середине XX века была построена значительная часть боевого флота Америки. В 1940-х годах перспектива хорошей работы и доступного жилья вокруг верфи привлекала тысячи чернокожих американцев, которые искали для себя лучшей доли и пытались избежать болезненной и несправедливой сегрегации. Эти рабочие гнули сталь и сваривали пластины, помогая нашей стране победить во Второй мировой войне.
Но, как и многие другие подобные районы в Америке, в послевоенную эпоху Бэйвью оказался забыт. Когда верфь закрылась, на ее месте ничего не возникло. Красивые старые дома были заколочены досками; токсичные отходы загрязняли почву, воду и воздух; наркотики и насилие отравляли улицы; и самая настоящая бедность надолго поселилась здесь. Район был непропорционально широко представлен в системе уголовного делопроизводства, его население страдало от низкой раскрываемости преступлений. Семьи в Бэйвью, многие поколения которых жили в Сан-Франциско, были отрезаны (в прямом и переносном смысле) от перспективы жизни в процветающем городе, который они называли своим домом. Бэйвью был таким местом, куда никто не заезжал, если только не нужно было ехать по делу. Чтобы попасть из одной части города в другую, через этот район проезжать было не нужно. Он был, в глубоком трагическом смысле, невидим для остального мира. Я хотела это изменить. Поэтому я разместила штаб-квартиру своей кампании в самом сердце Бэйвью, на углу 3-й авеню и улицы Гальвез.
Политконсультанты решили, что я спятила. Они заявили, что никакие волонтеры ни за что не поедут в Бэйвью из других частей города. Но именно такие места, как Бэйвью, в первую очередь вдохновляли меня на участие в выборах. Я принимала участие в выборах не для того, чтобы иметь шикарный офис в центре. Я боролась за возможность представлять людей, чьи голоса не были услышаны, и дать обещание общественной безопасности каждому району, а не только избранным. Кроме того, я не была согласна с тем, что люди не придут в Бэйвью. И я оказалась права: они пришли. Десятками.
Состав населения Сан-Франциско, как и нашей страны в целом, очень разнообразен. Однако Сан-Франциско глубоко сегрегирован, образно говоря, это скорее мозаика, чем «плавильный котел». И наша кампания привлекла людей, представлявших это пестрое общество. Добровольцы и единомышленники хлынули из Чайнатауна, Кастро, Пасифик-Хайтс, района Миссии: белые и черные, азиаты и латиноамериканцы, богатые и работяги, мужчины и женщины, старые и молодые, геи и натуралы. Группа подростков-граффитистов украсила заднюю стену предвыборного штаба, написав на ней гигантскими буквами: «Справедливость». Штаб гудел от наплыва волонтеров: одни звонили избирателям, другие собирались за столом и вкладывали листовки в конверты, третьи брали планшеты и ходили по квартирам, рассказывая жителям района о том, что мы пытаемся сделать.
Мы подъехали к штабу вовремя. Я выпустила маму из машины.
– Ты не забыла гладильную доску? – спросила она.
– Нет, конечно. Она на заднем сиденье.
– Хорошо. Люблю тебя, – отозвалась мама, захлопывая дверь машины.
Отъезжая, я услышала, как она кричит мне вслед: «Камала, а клейкую ленту?»
У меня была клейкая лента.
Я вернулась на дорогу и поехала к ближайшему супермаркету. Было субботнее утро, час пик в продуктовых отделах. Я вырулила на стоянку, поставила машину на одно из немногих свободных мест и схватила гладильную доску, ленту и рекламный плакат, который выглядел немного потрепанным из-за того, что его все время таскали туда-сюда.
Если вы думаете, что баллотироваться в окружную прокуратуру – это гламурно, жаль, что вы не видели, как я шагаю через парковку с гладильной доской под мышкой. Помню детей, которые с любопытством смотрели на эту доску и показывали пальцем, и мам, которые подталкивали их, чтобы они шагали вперед. Я не обижалась. Должно быть, я выглядела неуместно – а то и вовсе как человек не в своем уме.
Но гладильная доска – это идеальный столик для работы стоя. Я поставила ее чуть в стороне от входа в супермаркет, рядом с тележками, и повесила плакат с надписью «Камала Харрис, голос за справедливость». Когда кампания только начиналась, мы с моей подругой Андреа Дью Стил придумали мою первую черно-белую агитационную листовку: краткую, на одну страничку, в ней были биография и сжатое изложение моих позиций. Позже Андреа основала Emerge America – организацию, которая ищет женщин-демократов и обучает их выдвижению своих кандидатур на выборные должности по всей стране. Я положила несколько стопок листовок на гладильную доску, а рядом с ними – планшет с подписным листом и приступила к работе.
Покупатели проходили со своими тележками через раздвижные двери, щурясь от солнца, пытались вспомнить, где они припарковали машину, и тут слева от них раздавалось: «Привет! Я Камала Харрис. Я баллотируюсь на пост окружного прокурора и надеюсь на вашу поддержку».
По правде говоря, меня бы вполне устроило, если бы они просто запомнили мое имя. В начале кампании мы провели опрос, чтобы узнать, сколько человек в округе Сан-Франциско слышали обо мне. Выяснилось, что целых шесть процентов опрошенных. То есть шестеро из каждых ста человек слышали обо мне раньше. Я не могла не задаться вопросом: не попала ли моя мама в список тех людей, которых волонтеры обзвонили наугад?
Я не питала иллюзий, что все пройдет легко. Я понимала: для того чтобы правильно представить себя и свои идеи множеству людей, которые понятия не имели, кто я такая, придется потрудиться.
У некоторых кандидатов-новичков необходимость взаимодействия с незнакомыми людьми вызывает неловкость, и это можно понять. Нелегко завязать разговор с прохожим на улице, или заговорить на автобусной остановке с людьми, которые едут домой после работы, или зайти в первый попавшийся магазинчик и попытаться вступить в беседу с владельцем. Я получила свою долю вежливых – а иногда и не очень вежливых – отказов, как телемаркетолог, звонящий во время обеда. Но чаще всего я встречала людей, которые были приветливы, открыты и охотно говорили о проблемах, влияющих на их повседневную жизнь, о надеждах на улучшение жизни в своей семье и в своем сообществе – будь то борьба с домашним насилием или предоставление лучших возможностей детям из группы риска. Прошло много лет, а я все еще сталкиваюсь с людьми, которые помнят наше общение на тех автобусных остановках.
Это может показаться странным, но больше всего это взаимодействие напоминало отбор присяжных. Работая прокурором, в зале суда я часто беседовала с людьми из всех слоев общества, которых вызывали в качестве присяжных. Моя работа состояла в том, чтобы задавать им вопросы в течение нескольких минут и, исходя из ответов, пытаться определить их приоритеты. Агитация во время кампании была похожа на этот процесс, разве что не было адвоката противной стороны, пытавшегося прервать меня. Мне нравилось, что у меня получается увлекать людей. Иногда из продуктового магазина выходила мамочка с малышом на сиденье тележки, и добрых двадцать минут мы разговаривали о ее жизни, проблемах и костюме ее дочери на Хэллоуин. Прежде чем расстаться, я смотрела собеседнице в глаза и произносила: «Надеюсь, что могу рассчитывать на вашу поддержку». Удивительно, как часто люди признавались мне, что никто и никогда не задавал им таких прямых вопросов.
Тем не менее процесс агитации давался мне не так уж легко. Я всегда с готовностью рассказывала о той работе, которую мы собираемся проделать. Но избиратели хотели слышать не только о политике. Они хотели знать обо мне лично – кто я, какой была моя жизнь, какие переживания сформировали меня. Они хотели понять, что я представляю собой на самом глубинном уровне. Но меня с детства учили не говорить о себе. Меня воспитывали с убеждением, что в разговорах о себе есть нечто нарциссическое, это тщеславие. И хотя я понимала, почему у собеседников возникают вопросы, прошло некоторое время, прежде чем я к ним привыкла.
В той моей первой предвыборной кампании участвовало множество кандидатов, и второй тур был неизбежен. Однако наши опросы (техника проведения которых со временем заметно совершенствовалась) показали, что если нам удастся выйти во второй тур, то через пять недель мы сможем победить.
День выборов я провела на улицах, пожимая руки, с утра и до вечера, до закрытия избирательных участков. Крисет, одна из моих самых близких подруг, подключилась, чтобы помочь мне в самый последний момент. Это было похоже на заключительный спринтерский рывок на четверть мили в конце марафона – по-своему захватывающе. Мы с семьей, друзьями, старшими сотрудниками предвыборной кампании уже отправились ужинать, когда начали поступать результаты. Руководитель кампании, Джим Стернс, сидел в избирательном бюро, наблюдая за подсчетом голосов и сообщая нам цифры по телефону. Во время ужина мой дорогой друг Марк Лено, который в то время был членом Ассамблеи штата Калифорния, следил за итогами вместе с Майей, моим консультантом Джимом Ривалдо и моим другом Мэтью Ротшильдом. Каждый раз, когда отчитывался очередной участок, наскоро перехватив пасты, они обновляли подсчеты на бумажной скатерти.
Современные кампании оперируют объемными данными, аналитикой и сложными моделями явки избирателей. Но мой опыт показывает, что участие друга, ручка и тарелка спагетти помогают добиться результата не хуже.
Мы уже собирались уходить, когда Майя схватила меня за руку. Пришло очередное обновление.
«О боже, ты сделала это! – воскликнула она. – Ты прошла во второй тур!» Я пересчитала все сама, чтобы убедиться, что она не ошибается. Помню, как мы с Майей смотрели друг на друга и хором повторяли: «Ты можешь в это поверить – нам правда удалось!»
Второй тур состоялся через пять недель. Шел дождь, и весь день, промокнув насквозь, я пожимала руки избирателям на автобусных остановках. Вечером, как я и надеялась, мы одержали решающую победу.
Мы устроили вечеринку в предвыборном штабе, и когда я вышла вперед, чтобы произнести речь, комнату взорвала песня «We Are the Champions». Оглядывая собравшихся – друзей, родственников, наставников, волонтеров, – я видела одно сообщество. Здесь были люди как из беднейших, так и из богатейших районов. Полицейские, которые вместе с адвокатами выступали за реформу полиции. Молодые люди рядом с пожилыми. Эта картина была отражением того, во что я всегда верила: когда дело касается самых важных вещей, у нас гораздо больше общего, чем того, что нас разделяет.
Сейчас, когда я пишу эти строки, прошло почти пятнадцать лет с момента моего вступления в должность окружного прокурора. С тех пор практически ежедневно я так или иначе занимаюсь реформированием системы уголовного правосудия. Этой цели я добивалась в должности окружного прокурора, которую я занимала два срока, и на протяжении почти двух сроков в качестве генерального прокурора. В течение первых же шести недель работы сенатором Соединенных Штатов я внесла на рассмотрение законопроект о реформе уголовного правосудия. И хотя в то утро 2004 года во время инаугурации я полностью осознавала, насколько важны для меня вопросы реформирования системы уголовного правосудия, мне и в голову не могло прийти, что они приведут меня из Сан-Франциско в Сакраменто, а затем и в Вашингтон.
Церемония моего вступления в должность окружного прокурора состоялась в театре Хербста, в Военном мемориале и Центре исполнительских искусств Сан-Франциско – на той самой сцене, где в 1945 году был подписан Устав Организации Объединенных Наций. Теперь мы творили другую историю, но главной темой дня по-прежнему было единство. Мама стояла между мной и Рональдом Джорджем, главным судьей Верховного суда Калифорнии от республиканской партии, которого я выбрала, чтобы он привел меня к присяге. Это мое самое яркое воспоминание – чистейшая гордость на ее лице.
Зал был набит до отказа, сотни людей собрались со всех уголков города. Били барабаны. Пел детский хор. Один из моих пасторов произнес прекрасную молитву. В проходах исполняли китайский танец дракона. Хор геев Сан-Франциско спел нам всем серенаду. Это был мультикультурный, мультирасовый, немного безумный в лучшем смысле этого слова праздник.