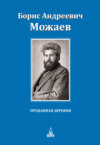Kitabı oku: «Города и годы», sayfa 2
Окопный профессор
– Послушайте, послушайте, стучат!
Старцов попробовал поднять веки. Они были тяжелы, как крышка оцинкованного сундука.
– Андрей Геннадьевич, стучат!
Не шевелясь, Старцов сказал:
– Ну что же.
– Я думаю, если обыск…
И опять так же произнес Старцов:
– Пускайте, пусть…
Он слышал, как торопливо зашмыгали по полу туфли. Дальше, дальше. Остановились. Вновь зашмыгали. Ближе, ближе.
– Андрей Геннадьевич, ведь вы не прописаны!
– У меня бумаги. Объясню…
По стенам покатился гулкий стон. Туфли заторопились. Но тотчас, словно отшмыгнув небольшой круг, шлепнулись опять под самым ухом.
– А если налет… налетчики… знаете…
– У меня маузер, – сказал Старцов и открыл глаза.
Сергей Львович стоял перед ним, накинув на плечи шубу, в длинной, до колен, ночной рубахе и трикотажных полинялых кальсонах, обтягивавших худосочные икры. В руке у него дрожала лампочка, обдавая тепленькими всплесками света то подбородок, то нос, и лицо Сергея Львовича казалось то жирным, то странно худым.
– А разрешение есть? – тихо спросил он.
Стены застонали гулче. Сергей Львович кинулся отпирать. Неясные звуки коротко переплелись и затарахтели по комнатам. Потом вдруг зажалобился тонкий голос:
– Я шестнадцать часов в сутки работаю! Шесть на службе, шесть дома, четыре в очередях стою, да дежурства, да трудовая повинность! Мне пятьдесят два…
Кто-то издалека и глухо, как топором по пустой бочке:
– Не задерживайте, гражданин!..
У Сергея Львовича скатилась с плеч шуба, и он старался поймать ее одной рукой, крутясь, точно молодой неуклюжий дог, ловящий свой хвост.
– Среди ночи гонят к чертовой матери рыть окопы! С ножом к горлу! Мало, что мы выгребные ямы чистим, дрова рубим, черт-е-знает, в очередях стоим… За желатин землю копать? Да на кой мне…
– Сколько сейчас времени? – спросил Старцов.
– Три часа. Три часа ночи. Разве…
– Знаете что? Я пойду вместо вас. Я выспался.
Сергей Львович поднес лампочку к лицу Старцова.
– Ступайте скажите, что вместо вас идет другой человек, помоложе и…
– Посильней, конечно посильней! Вон у вас плечи-то, – перехватил Сергей Львович.
Он выпалил эти слова на ходу, запахивая шубу и устремившись к двери.
Провожая гостя, благодарно и умильно напутствовал:
– Желаю вам, желаю… Заходите. Если задержитесь – переночевать, пожить даже: я ведь совсем один. Очень рад…
У самой двери он придержал Старцова за рукав, встал на цыпочки и шепнул:
– Видно, там плохо!
– Где?
– А там…
– Вот посмотрю, – ответил Андрей и сбежал по лестнице в темноту.
На дворе, под мутным пятном закопченного фонаря, шла перекличка.
– Квартира двадцать седьмая?
– Есть! – крикнул Андрей.
И глухо, как топором по пустой бочке, ударил голос:
– Откупился!
Потом темная глыба заслонила от Андрея фонарь, и тот же голос ухнул над головой:
– Документ!..
В мокрый, глухой туннель, в черную прорву холода ввалились немым скученным табуном. По шелухе железа, где-то над головами татакали, как цепы по току, быстрые шаги. Подняв воротники, руки – в рукава, спины – горбами, лицами в землю, под ноги – вперед, неизменно вперед, только вперед, в черную прорву холода.
И вдруг – в спины, в затылки, в шеи, под ноги – носами, животами, коленями, друг в друга – все до одного, до последнего. И спереди:
– Стой, сто-ой, сто-о-о-ооо!
Потихоньку, на ощупь, щурясь, пяля вперед, в бока, назад локти, руки, пальцы – толпа начала растекаться вправо и влево. А спереди:
– Че-ррр-т! Напоролись!
– Куда ты перла-то, прости господи?
– Да ведь товарищ ведет; я думала, он знает дорогу…
– Думают петухи… Вон у меня полы-то как не было!
– Вы бы сами…
– Ха-ха!
– С левой руки, граждане, вот на спичку, отсюда!
– Не воевали, а ранились!
Обходили, как слепцы – не табуном – человеческой толпой, с человеческим смехом, – невидный деревянный козел, запутанный проволокой. Чиркали спичками, выбивали беленькие искорки из зажигалок на потеху ветру.
За поворотом, в пространстве, нежданно высветился восходящей луною часовой циферблат. Был он гладок, чист, четок, окружен беспредельной чернотой ночи, светился, не давая свету, и показывал три четверти восьмого.
От этого циферблата люди пошли бойко и гомонили не унимаясь.
– Престранные бывают ассоциации, – услышал Старцов негромкий голосок. Он вгляделся в темень. Рядом с ним поспешал силуэтик ростом ему по плечо.
– Престранные. У меня знакомый один, хранитель музея. Владелец единственной коллекции миниатюр восемнадцатого века и библиотеки по истории миниатюры. Теперь впал, конечно, в нужду, распродал мебель, утварь, пустяки всякие. Дошел до последнего: с чего начать – с миниатюр или с библиотеки? Помучился, помучился – начал с библиотеки. И знаете, с этого дня все позабыл, все, что в книгах было, и вообще хронологию, эпохи, стили – всё. Только смотрит на свои медальоны, фарфор да эмаль, улыбается, светится – и все. А о чем ни начнет вспоминать – путает.
– О какой ассоциации вы? – спросил Андрей.
Тихонький голосок из непроглядной тьмы, из-за гомона людей, из-за свиста железной шелухи, точно извиняясь, посмеялся над самим собой.
– Это я про электрические часы. Вот светятся еще, и всё еще будто часы, а стрелки уже остановились, стоят, не шелохнутся. Светятся, а потухнут, непременно потухнут…
– Ерунда! – вдруг вырвалось у Андрея, и он тут же вспомнил, что это слово – не его и что Голосов произносил его по-другому.
– Они на прямом кабелю, оттого горят! – донеслось сзади.
Остановились все в той же холодной прорве, казалось без причины; казалось, можно было остановиться много раньше, а можно было идти еще. Красненькая воронка света из пригоршни ткнулась в широкое лицо, исполосованное морщинами, рябое. Потом на месте лица заалел огонек папиросы. К огоньку подобрался рукав, огонек раздулся, осветил ремешок часов.
– Без десяти, – ухнула глыба.
Где-то заклохтала темнота, дорога вздрогнула, заколебалась; шагах в двухстах из земли выросла белая колокольня, рядом с ней – развалины, мертвенно-холодные в дрожи прожектора; потом клохтанье перешло в гул, в гвалт, в гром, в грохот, и, метнув саваном по домам – от церкви, через развалины, с дома на дом, чем дальше, тем скорее, – прямой разящий рупор света ударил в лица и ослепил.
С громыхающего гороподобного грузовика, преодолевая треск и трепыханье, пронзительно проорали:
– Сколь-ко люде-ей?
– Тридцать.
С визгом и звоном посыпались лопаты, подскакивая, привставая на мостовой.
– Четыр-надца-ать! Валяй еще-о-о!
– Хватит!
И опять заходила земля под ногами, опять зацапал мертвенно-холодный прожектор дома, руины, заборы; потом сразу опрокинулась и наглухо прихлопнула людей черная прорва, и все ослепли.
– Разбейтесь напополам.
Ходили на развалины кучками, взявшись за руки. Там изводили спички, искали балок. Невидимо откуда наволокли со всех сторон щеп, досок, дранок, рам, фанеры, подкатили мокрое бревно. У концов его, упрятанных в щепы, распалили костры.
Гулкая глотка ухнула нетерпеливо:
– Ну что же, граждане, встали?
Тогда чья-то большая рука, дрогнув в робком свете костров, тяжело поднялась ко лбу, опустилась на живот, махнула от плеча к плечу, и спокойный голос позвал:
– С богом, товарищи!
И тогда десяток-другой спин медленно пригнулись к земле.
У забора, сколоченного из вывесок, куда отошла смена, разворотив мостовую, гукало и шуршало железо. Андрей распахнулся, вытер рукой потную шею, присел на асфальт. Женщина, перетянутая ремешком, неловкая, тучная, отдуваясь, счищая обрывком ржавой жести липкую грязь с ладоней, спросила:
– Ну как, профессор, камни-то ворочать?
Человек ростом Старцову по плечо потянулся, точно просыпаясь, и рассмеялся:
– А знаете – хорошо! Я не могу вам точно передать, что я чувствую. Иногда идешь по улице, поднимешь невзначай голову, вдруг – небо! Так станет на душе удивительно. Годами не видишь, не замечаешь, как будто нет ничего. И вдруг прикоснешься. Оказывается – небо!.. Вот что-то такое…
– Оказывается – назём.
– Совершенно верно – назём, грязь. А прикоснуться – радость.
– Я понял бы, если бы – пафос, – раздалось прерывисто, с одышкой.
Тучная, неловкая спохватилась:
– Вот именно! В феврале баррикады строились сами. А сейчас – казарма.
Одышка добавила:
– Главное, защищаем что? Право на разрушение.
– Разрушение, – отдалось сзади.
– Разрушение, – колыхнулось спереди.
– Пафос, – сказал профессор, вглядываясь в Андрея, – пафос – это час, день, неделя. Пафос – это припадок. Нельзя, чтобы народ бился в припадке целые годы.
– А зачем нужно, чтобы бился?
– Профессор, ведь культура…
– Культура, – отдалось сзади.
– Культура, – колыхнулось спереди.
И опять, точно посмеиваясь над самим собой, извинился профессор:
– Я, знаете ли, изучая историю, не мог обнаружить, чтобы какая-нибудь идея бесследно исчезала под развалинами академии, города или государства. Не мог. И я совершенно спокоен: биологии, истории, искусству, физике, вообще знанию, накопленному человечеством, сейчас ничто не угрожает.
– Идеи можно мыслить только в человечестве. А человечество обречено на взаимное истребление.
– Истребление, – отдалось сзади.
– Истребление, – колыхнулось спереди.
– Я не вижу этого, – возразил профессор.
– А как же, – спросил Старцов, – насчет часов?
– Каких часов?
– Там, на перекрестке. Горят – но потухнут, непременно потухнут…
– Про хранителя музея? Но ведь это – чувство, человеческое чувство! Господа! (Профессор воскликнул: «Господа!» – но обратился к одному Андрею и говорил с дружеской укоризной.) Кто же будет отрицать, что нам больно смотреть на собственную смерть?
– Смерть, – подхватила одышка.
Забор из вывесок загромыхал и взвыл, заглушив негромкую речь. Костры притухли, потом на мгновенье залили людей красным пламенем и ровно приземлили огонь.
Насыпь подымалась в длину всего окопа, от тротуара к тротуару, поперечной прямой линией. Когда в окоп входила смена, лопаты двигались вяло, земля скатывалась по насыпи назад в яму. Потом крутые комья торопливым градом катились через гребень насыпи к кострам, засыпая развороченный булыжник. Обшарканное железо лопат дзинькало по грунту, как косы по росному лугу, люди распалялись и работали зло.
В шесть утра человек, голос которого ухал точно топором по пустой бочке, спрыгнул в окоп, примерился глазом на насыпь, прошел из конца в конец, вылез на мостовую, ухнул:
– Ладно, граждане! Спасибо!
– Республика, стало, благодарит? – произнесла одышка.
Кто-то верещаво вздохнул:
– Вскýю, господи!
Отряхивались, отчищались, отскабливались, делили остатки щеп, тушили дымившие головни в лужицах, посмеивались, в последний час ночной тьмы вступили шумной ватагой.
Старцов ушел далеко вперед. Голоса позади него растаяли, город суровым безмолвием отзывался на его шаги.
Вдруг он расслышал впереди себя обрывочки бравурного напева. Он насторожился, пошел быстрее, ступая одними подошвами.
Силуэтик ростом ему по плечо, засунув руки в глубокие карманы, весь сжавшись и уйдя в пальто, ввинчивал в каменные плиты скорые, короткие шажки и решительно мурлыкал:
Aux armes, citoyens!
Старцов подхватил:
Formez vos bataillons!
Профессор живо повернулся на каблуках, как-то по-птичьи вперил глаза-угольки в Старцова, коротко воскликнул: «А, это вы?» – и, стремительно схватив его под руку, дергая за рукав в такт песне, точно понукая подтягивать, точно стараясь растеребить, раскачать Старцова, почти громко продолжал:
И ввинчивал чеканно, маршево, восторженно короткие звонкие шажки в мокрые плиты.
Так в вымершем, промозглом, шелушившемся железной шелухой городе, в последний час ночной тьмы, шли двое, взявшись под руку, с песней, которой нет равной. И когда кончилась песня, один сказал:
– Еще один раз родиться, еще один раз, боже мой! Через сто лет. Чтобы увидеть, как люди плачут при одном упоминании об этих годах, чтобы где-нибудь поклониться истлевшему куску знамени, почитать оперативную сводку штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии! Ведь вот – смотрите! смотрите! – ветер рвет, полощет дождем отлипшую от забора, обмазанную тестом газету. А ведь через сто лет кусочек, частичку этого листа человечество в антиминс зашьет, как мощи, как святая святых!.. Через сто лет родиться и вдруг сказать: а я жил тогда, жил в те годы! И однажды, сырой, холодной ночью, в Петербурге, в Петрограде, в Питере, рыл окопы вот этими руками, шел по пустынной улице, по городу, который умирал и дрался, дрался и умирал, шел под руку с солдатом Красной Армии, вот этой, вот, вот – смотрите! – вот этой рукой держал вот так красноармейца! Ведь вы красноармеец?
– Я еду… То есть… я должен сегодня получить назначение…
– Вы, может быть, увидите еще… Я, конечно, не выживу, не гожусь. Животу, мамону, зверю сейчас тяжко. Если бы вы могли себе представить, как иной раз досадно, – до слез, знаете ли! Может – старческое. Да, старческое. Вот и… Позвольте с вами…
Внезапно профессор очутился перед Старцовым, обхватил одной рукой его затылок и трижды прижался к щеке дрожащими губами.
– Мне налево. Не обижайтесь. Счастливо!
И юркнул за угол.
Андрей остановился.
Лицо его опалил горячий воздух – так ясно, отчетливо, ощутимо, что он вздрогнул. Воспоминанье было неожиданное и ошеломило его. Из всего, что произошло на вокзале в Семидоле, что случилось в этот последний прощальный день, только одна черта, одно неуловимо короткое чувство отложилось в памяти. Остальное скаталось в сплошной клубок:
Сумерки, нестройные голоса, свернутые – для удобства – плакаты и знамена, толчея на узкой платформе вокзала. Под ногами качающийся от выкриков скрипучий ящик, потом деловые, торопливые поцелуи с товарищами, их лица – как будто застенчивые, виноватые; потом беготня по черным запутанным путям и дорога в город – дорога одинокая и длинная. Все это – сплошным клубком, заслоненным ясной, неотступной волей, – да, волей, желаньем, хотеньем пережить еще раз чувство совершенной свободы, то самое чувство, которое пришло в полях под Саньшином, – чувство бесплотности.
Но вот что разорвало непрерывность воли, что литым мячом откинуло в сторону весь этот день, последний в Семидоле день, – и вот что сделало этот день прощальным:
Ночь была холодная. Небо стояло необычно высоко, и звезды на нем были мертвы. Площадь перед вокзалом не лежала, как всегда, пустырем, а простиралась пустыней. Лошадь переставляла ноги, извозчичья таратайка кренилась вправо и влево, но ощущения езды, движения не было. Внезапно неразличимая в ночи фигура вспрыгнула на подножку пролетки. Лошадь стала.
– Рита! – вскрикнул Андрей.
– Я хотела, чтобы никто не видал, – задыхаясь, проговорила она. Потом упала ему на плечи, ледяными губами зажала его рот, холодными рассыпавшимися волосами коснулась лица, шеи, рук и нежданно горячо, в этом осеннем холоде ночи, губ и волос, опалила:
– Прощай!
Он должен был что-то крикнуть, потому что крик подкатился к горлу, потому что Рита рванулась с пролетки и убежала в ночь, потому что вдруг стало так, точно он уходил от матери, уходил навсегда, – должен, должен был крикнуть, но вместо крика ткнул в спину извозчика и выдавил из горла через силу:
– Гони!
И вновь заслонилось все ясной волей – еще раз, скорее испытать, пережить, почувствовать то, что пришло в полях под Саньшином.
– Гони, гони, гони!
И теперь, в холоде ночи, от холодного прикосновения чужих губ, отчетливо, ощутимо опалил лицо горячий вздох, и воспоминанье последнего дня, ставшего прощальным, было горько. Но так же скоро горечь смылась неотступной волей – испытать! И Андрей ринулся в темноту, крикнув самому себе:
– Гони!
О, если бы сейчас он был на месте шофера, который выгнал из-за угла громыхающую машину, промчал ее на два пальца от чугунного столба, окунул в лужу, подбросил в воздух, выпрямил, выправил, вбил в бесконечную прямизну проспекта и погнал в вихре брызг, в свисте колес, в треске мотора, в шуме, грохоте, громе! Каждая секунда – смерть, на каждой выбоине – смерть, в каждой яме – смерть, у каждого столба – смерть, на повороте – смерть, на прямой – смерть! И прекрасно, прекрасно, потому что ничего, кроме – так нужно; ничего, кроме – необходимо! Прекрасно, легко, бесконечно легко! О, если бы сейчас испытать, пережить, почувствовать, что пришло в полях под Саньшином!
– Гони, гони, гони!
Конрад Штейн
В тот день, в Москве, к дому, где помещался Германский совет солдатских депутатов, подошел человек в пушистой заячьей шапке, в порванной грязной шинели германского образца и голубых австрийских обмотках на ногах. Он потолкался в вестибюле, перечитал объявления и записочки, наколотые по стенам, и пошел на второй этаж.
В комнате, где толпились оборванные люди, он стал в очередь. С полчаса он продвигался вперед с видом человека, привыкшего ждать, усталого и безразличного. Подойдя к столу, он снял шапку. Волосы его были очень коротко обстрижены, и по голове, от правого уха к затылку, протянулся широкий шрам, усеянный сморщенными розовыми рубцами. Он держался прямо, как хороший солдат, и звонко стукнул каблуками, когда человек, сидевший за столом, поднял на него глаза.
– Я отстал от эшелона, возвращающегося на родину. Вот мои документы. Прошу присоединить меня к ближайшей партии. Я должен был…
– Откуда шел эшелон?
– Из Семидола.
– Как же вы отстали?
– Я покупал для товарищей картофель. Начальник эшелона сказал, что мы простоим часов восемь. Я ходил в деревушку в двух-трех километрах. Поезд отвели тем временем на какую-то ветку. За всей этой русской суматохой, пока я узнавал…
– Где это было?
– В Рязани. Я прошел добрых полпути пешком, до Москвы.
– Вас зовут?..
– Конрад Штейн.
Поводив пальцем по спискам, человек, сидевший за столом, закурил папироску и сказал:
– Да, есть. Это было в конце октября?
– Эшелон погрузился в Семидоле двадцать четвертого октября и отправился двадцать пятого.
– Одна минутка, – произнес проверявший списки, поднялся и вышел в соседнюю комнату.
Пожилой бородатый солдат в русском башлыке вокруг шеи ласково вгляделся в Конрада Штейна и, показав глазами на его шрам, сказал:
– Хорошо сделано. Осколок?
– Французская работа, – отозвался Штейн, – в Шампани, в пятнадцатом году.
– Хорошо сделано, – повторил солдат. – Вы саксонец?
– Да.
Дверь соседней комнаты открылась, и человек со списками в руках выкрикнул:
– Конрад Штейн, зайдите сюда.
Когда Штейн поравнялся с ним, он добавил:
– Доложите секретарю, что вы мне говорили.
И стал в дверях.
Секретарь мельком взглянул на него и сказал:
– Вы можете идти, товарищ.
Потом сухо обратился к Штейну:
– В каком лагере вы содержались?
– В Томском.
– До какого времени?
– Вот мои документы, в них все подробности. Потрудитесь…
– Прошу вас отвечать на вопросы. Мы в чужой стране, которая еще недавно находилась в войне с нами, и наш долг помогать друг другу. Каждый рвется домой, но не у всех одни права на первую очередь.
– Но ведь я уже был включен в эшелон!
– Я знаю. Когда вы были взяты в плен?
– Я тяжело болен, вы видите. – Штейн показал на свой шрам.
– Когда вы были взяты в плен?
– В феврале семнадцатого года.
– Где?
– Под Ригой.
– До какого времени вы содержались в Томске?
– Точно не припомню. Весной этого года. У меня, видите? – Штейн снова показал на голову.
– Однако вы точно сказали, когда отправились из Семидола.
– Это записано в документах.
– Каким образом вы очутились в Семидоле?
– Шесть человек бежали из Томска, в числе их – я.
– Как вы проникли через фронт?
– Красные приняли нас хорошо и помогли добраться до Семидола.
– А белые?
– Белых мы обошли.
– В гражданской войне вы не участвовали?
– Нет.
– Вы рядовой?
– Я ефрейтор.
Секретарь встал и направился к дальней двери. Дойдя до нее, он быстро обернулся и спросил:
– А вы не знавали некоего цур Мюлен-Шенау?
Ефрейтор сморщил брови, поднял глаза к потолку, помычал.
– Нет, не припомню, – спокойно ответил он.
– Как вас зовут?
– Конрад Штейн, – сказал ефрейтор.
Секретарь вышел.
Тогда Конрад Штейн бросился к двери, через которую перед тем вошел, остановился на одно мгновенье, затаил дыханье, прислушиваясь, потом неторопливо нажал дверную ручку.
В комнате, где толпились оборванные люди, у стола никого не было. Из телефонной будки доносился чей-то раздраженный тонкий крик.
Конрад Штейн положил на дно шапки свои документы, нахлобучил заячий мех на глаза и стал пробираться к выходу. Бородатому солдату в башлыке вокруг шеи, ласково взглянувшему на него, он скучно сказал:
– Пойду покурю, пока там возятся с бумагами.
И тихо спустился по лестнице. На улице он скользнул за угол, бросился к трамвайной остановке и затерялся в невзрачной толпе.
А ночью к товарному поезду, тащившемуся из Москвы в Клин, подбежал из темноты быстрый человек с большой белой головой и, пропустив мимо себя звякавший сцепами, поскрипывающий состав, прилип к затылку последнего вагона у буфера, под слепым глазком красного фонаря.
ВРАГ У ВОРОТ!
Штаб был освещен, и по замызганным, обшарканным лестницам бродили, бегали, метались люди. Через распахнутую дверь рвались телефонные звонки и охриплый, замученный голос клекотал поминутно:
– Слушаю… для поручений…
– Говорит для поручений… у телефона для пору-че-ний!
В круглой высокой комнате плавал в табачном дыму и в бумажных ворохах сонный человек. Мусоля пальцы, он перебирал и перекладывал картонные карточки, бумажки, бумаги, подносил к губам эмалированный чайник, сосал оббитый носик, потом долго таращил глаза – с растолстевшими веками и обескрашенными зрачками – и опять перекладывал бумажки.
– Вам когда сказано явиться? – спросил он Старцова, не отрываясь от бумажек.
– В девять.
– А сейчас сколько?
Он весь обвис – усы полезли в рот, щеки сползли на нижнюю челюсть, длинные волосы занавесили лоб, глаза, уши, – но неустанны были руки, перебиравшие карточки, бумажки, бумаги.
– Постойте, – крикнул он уходившему Старцову, – есть! Это на Французской набережной.
Старцов взял бумагу, сунул ее за обшлаг и – мимо бродивших, бегавших, метавшихся людей, сквозь разнотонный треск звонков и клекотавший хрип: «для пору-че-ний!» – вышел на площадь.
Над дворцом струилась неровная белизна рассвета, но сам он, Александровский сад, разогнутая подкова штаба все еще стояли сплошной серой стеной, обрубая скрещенные лапы автомобильных прожекторов.
Андрей окунулся в туман. Он шагал широко и уверенно, подбодряемый холодным ветром, заползавшим под воротник и в рукава.
Он торопился навстречу делу и верил, что все в мире станет простым и ясным, если он прикоснется к нему. Ему казалось, что чувство, поднявшее его над землей, как ветер клок бумаги, хоронится где-то совсем близко и вот-вот ворвется в него, чтобы опять закружить в своей воронке. Откуда мог он знать, что его попутный ветер дует с берега, к которому он старался причалить? Откуда мог знать, что с того часа, как он переступит порог ослепшего от дождей дома, каждый его день ляжет горою между ним и его простой, ощутимой целью?
Он открыл отсыревшую дверь и поднялся по лестнице с пропитанной грязью ковровой дорожкой.
В большом зале горела бессильная электрическая лампочка. Рыжий свет ее падал на длинный ряд ломберных столиков, выстроившихся вдоль окон.
– Сала-ват! – донеслось до Андрея жесткое гортанное слово.
Он обернулся. В углу, на крышке концертного рояля, лежал человек лицом вверх, с телефонной трубкой у рта.
– Салават! Салават! – кричал он так, что у него вздрагивал живот и дергались ноги.
Андрей посмотрел в дальний угол зала. Ему показалось, что там никого не было. Но в бледном, пробивавшемся через окно свете он вдруг различил силуэт солдата. Штык торчал над его головой прямой, четкой линейкой. Солдат стоял подле бесформенной черной кучи, выраставшей из пола. Андрей подошел ближе. На высоком приступке с ниспадавшими складками материй, обложенный венками, стоял гроб. Солдат, державший караул, крепко спал.
– Выпускающий «Салавата»? – вскричал человек на рояле и тут же жарко заторкал в трубку жесткими, невнятными словами. Потом соскочил с рояля и произнес, уже обращаясь к Андрею:
– Вот, сволочи, до сих пор не спустили в машину!
– Что?
– Да «Салават»! Газету, черти! А вам что надо?
– Не знаю, туда ли я попал. Мне нужен начальник…
– Начальник? Вон туда.
И короткий палец показал Андрею в дальний угол, на гроб.
– Он умер? – спросил Андрей.
– Да нет же, это совсем другой! Там вон, дверь.
Красный, бегавший по стенам свет прыгнул Андрею на грудь, колыхнулся по лицу и соскользнул на пол. У камина, на просторном ковре, поджав под себя ноги, сидели трое. Скуластый черный человек с маслеными прямыми прилизанными волосами круто дернулся головой к Андрею и спросил с качким восточным акцептом:
– Что надо, товарищ?
Андрей подошел ближе и протянул свои бумаги.
– Хорошо, нам надо такой работник, – сказал черный и кольнул Андрея меткими глазами.
Двое других мельком покосились на Андрея и замурлыкали монотонную песенку, громко вздохнув.
– Хочешь подождать – можешь подождать в другой комнате.
– Вы назначите меня в часть? – спросил Андрей.
– Зачем в часть, почему в часть, если я говорю, что нам надо такой работник?
– Но я выражаю желание идти на фронт, а не оставаться здесь.
– Товарищ дорогой, я тоже выражаю желание, чтобы ты остался здесь. Здесь тоже фронт, а не что другое.
– Я хочу в передовые части, товарищ, меня за этим и послали.
– Какой разговорчивый, какой разговорчивый, дорогой! – воскликнул черный и показал Андрею довольный, блестящий оскал. – Так вот я сообщаю, что здесь передовая часть, сейчас может стать передовая часть в самом Петрограде. Оружие есть?
– Маузер.
– Поди чисти свой маузер.
– Он смазан, чистить его нечего.
– Какой разговорчивый!
Черный вскочил на ноги, хлопнул себя по ляжкам и подошел к Андрею. Был он строен, гибок и узкогруд, и в том, что он сказал, неожиданно зазвенела серьезность, углубленная не вязавшимся со словами акцентом. Он сказал:
– Молодой товарищ, революция знает, что надо делать с тобой, со мной, вон с тем, с другим. Я тоже не хочу сидеть в этой комнате, холодной, высокой, тут от пола до потолка пять верст! Революция знает, что я, начальник, здесь должен, у паршивого камина. Подожди в другой комнате. Ты будешь помогать хоронить убитого командира.
Он хлопнул Андрея по плечу.
– Надо хорошие похороны, – это хороший красный командир!
Вошел и остановился в дверях вестовой. Начальник шагнул ему навстречу, и вдруг каскад неудержимых гортанных вскриков обвалился на вестового и, казалось, сшиб его с ног; он попятился и сел в кресло. Тогда черный кинулся к нему, затормошил его за плечи, захлопал по груди, принялся дергать пояс. Вестовой протянул начальнику короткопалую руку ладонью вверх, начальник хлопнул по ней и устремился к камину. Там все еще раскачивались и мурлыкали песню его двое товарищей. Он уркнул что-то им, они обернулись на вестового и крикнули короткое слово. Вестовой поднялся, произнес то же слово и вышел. Тогда начальник подошел к Андрею.
– Я говорю ему, почему даешь моей кабыле белую попону? Я не белый армеец, я красный армеец, – давай красную попону, красную звезду, красное седло! Зачем белое?
Он радостно захохотал и протянул Андрею руку.
Андрей схватил эту руку – цепкую, сильную и сухую, – пожал ее и повернулся к двери. Когда он, сделав несколько шагов, остановился посреди комнаты, на лице его тенью отразилась призрачная, радостная, лукавая улыбка черного человека.
Он начал работать.
Телефоны, пакеты, бумаги, телеграфные сводки, какие-то книги и ведомости, какие-то актеры и каптенармусы, что-то вдруг холодное, как студь, ползущая из двери по паркету, или маркое, как шелковый колпак на лампе, чьи-то горести, чье-то счастье, конюхи, лекторы по истории первобытной культуры и дивизионные врачи, барышни в заячьих шубейках и художники в валяных сапогах, что-то необъятное и вдруг что-то мизерное – все это закружило и укачало его, как баркас, и он плыл, утопал и выкарабкивался, чтобы опять плыть и утопать.
Он опомнился в сумерки, в толпе обступивших красный гроб скуластых людей, у самого гроба, подле черного, как траур, начальника. Освещенный угольными лампочками зал – в панно, гобеленах и тяжелых картинах – гудел привычным напевом. Но песня пелась на короткозвучном, хоркающем, как вальдшнеп, языке, и напев получался тоскливый, как степь. Андрею показалось, что на скуластых, недвижных, кованных из меди лицах чересчур часто закрывались и мигали раскосые сухие глаза.
Он вышел на набережную, когда клейкая темень прилипла к мрачным слепым домам. Он постоял на дороге в нерешительности, поворачивая голову по сторонам, потом нахлобучил шапку и зашагал к Литейному мосту.
Ночью новый штабарм приступил к работе.
По стенам, заборам и столбам бились подвешенные на тесемках и шпагате телефонные провода. На них позвякивали деревянные ярлыки Зимнего, Смольного, дивизионных штабов, Петропавловской крепости.
Черновик донесения был написан без помарок, чернильным карандашом, на двух листах. Когда первый покрылся крутым строем букв, в дверь ударил голос, который был сразу словлен и придушен телефонным звонком:
– Переписать!
Второй листок кончался абзацем:
При настоящей обстановке, когда части 2-й и 6-й дивизий совершенно почти не оказывают сопротивления противнику, оставляют позиции, что разлагающе действует на выдвигаемые на поддержку им подкрепления, возможно ожидать в самом ближайшем времени перерыва противником Николаевской ж. д. Средства Петроградского укрепленного района мало боеспособны, и оборона его не налажена. Ввиду создавшейся крайне серьезной угрозы Петрограду, прошу о направлении в район Тосно боеспособных подкреплений в количестве не менее двух бригад, дабы парализовать возможность продвижения противника со стороны Гатчины на Тосно и воспрепятствовать намерению его овладеть Петроградом. Штаб армии переходит сего числа в Петроград.
– Переписать!
Это было первое донесение нового штаба армии штабу Северо-Западного фронта.
Оперативная сводка фронта в этот день гласила, – предпоследний абзац:
В Ямбургском направлении наши войска после упорных боев оставили Гатчину.
Последний абзац:
В Лужском районе под давлением противника наши части отходят на линию Виндавской жел. дороги.
В домах есть лестницы, перепутанные и безлюдные; чуланы, куда, кроме кухарок, заходят одни мыши; сараи, каретники и чердаки с дверями, закрытыми даже для псов; сени, кладовые, тупики коридоров.
Вот по этим лестницам, в этих сараях, на этих чердаках губы шепчут отчетливей и кулаки чуть-чуть показываются из-за пазух. Заброшенность каретника, безмолвие сарая, пустота коридора, где самый опасный свидетель – паук, окруженный пыльными пустобрюхими трупами мух, – преисполняют отвагой души, удел которых – трепет.
К оружию, сограждане!Стройтесь в ряды!Вперед, вперед… (фр.)
[Закрыть]