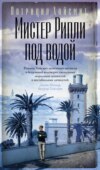Kitabı oku: «Поезд сирот», sayfa 2
Вот только вряд ли Вивиан ждет от нее этого. С чего начать? Что опустить? Беда тут вот в чем: рассказ получится невеселый, а Молли успела на собственном опыте убедиться, что от таких рассказов либо шарахаются, либо отказываются верить, либо – что хуже всего – начинают ее жалеть. Это приучило ее выдавать сокращенный вариант.
– Ну, – начинает она, – по отцу я из индейцев-пенобскотов. Когда была маленькой, мы жили в резервации рядом со Старым Городом.
– A-а! Теперь понятно, откуда эти черные волосы и боевая раскраска.
Молли вздрагивает. Самой ей это в голову никогда не приходило – неужели же это правда?
В восьмом классе, а год выдался особенно тяжелый – опекуны попались озлобленные, скандальные; другие сироты в той же семье – завистливые; одноклассницы – вредные – и вот тогда она обзавелась коробкой быстро схватывающейся краски для волос от «Лореаль», черной подводкой от «Ковер герл» – и преобразилась прямо дома, в ванной. В следующие выходные подружка, работавшая в торговом центре, в секции «Клэр», помогла ей сделать пирсинг: по несколько дырок в каждом ухе, до самого хряща, заклепка в носу, кольцо в бровь (оно продержалось недолго; началось воспаление, и его пришлось снять – шрам-паутинка виден и поныне). Пирсинг стал той последней соломинкой, из-за которой тогдашние опекуны вышвырнули ее из дома. То есть своего она добилась.
Молли продолжает рассказ: как погиб отец, как мать не справилась с ее воспитанием, как в результате она оказалась у Ральфа и Дины.
– Терри сказала, тебе в школе дали такое задание – общественные работы. А ей пришла в голову блестящая идея – употребить тебя на разборку моего чердака, – говорит Вивиан. – По моим понятиям, вряд ли тебе такое может понравиться; с другой стороны, не мне об этом судить.
– Хотите верьте, хотите нет, но я патологическая аккуратистка. Люблю во всем наводить порядок.
– Выходит, ты еще более странная девочка, чем кажется на первый взгляд. – Вивиан откидывается на спинку кресла, стискивает ладони. – Я хочу сказать тебе одну вещь. Следуя твоему определению, я тоже осталась сиротой примерно в таком же возрасте. Так что как минимум это нас роднит.
Молли не знает, как на это реагировать. Вивиан дожидается дальнейших вопросов или просто решила уведомить ее о некоем факте своей биографии? Трудно сказать.
– Ваши родители… – спрашивает она с запинкой, – вами тоже не занимались?
– Они пытались. Случился пожар… – Вивиан пожимает плечами. – Это было так давно, я уже многого не помню. Ладно – когда ты хочешь приступить к делу?
Нью-Йорк
1929 год
Мейзи первой почувствовала неладное. Плакала не переставая. Когда мама заболела, ей был месяц, и с тех пор она спала со мной, на узкой койке в крошечной комнатке без окон, которую я делила с братьями. Там было так темно, что в тот день я подумала – как думала уже много раз, – что так, наверное, и живут слепые: в пустоте, окружающей со всех сторон. Я едва различала – а может, просто ощущала – силуэты братьев, они шебуршились, еще не полностью проснувшись: Доминик и Джеймс, шестилетние близнецы, крепко прижались друг к другу на матрасике на полу, чтобы согреться.
Я сидела на койке, прислонившись спиной к стене, и держала Мейзи так, как показала мама: стойком, у плеча. Я уже перепробовала все, чтобы ее успокоить, все, что помогало раньше: гладила по спинке, терла двумя пальцами переносицу, тихо напевала на ушко любимую папину песню «Пичужка»: «Я слышал песенку дрозда и трели соловья, но мне милее голос твой, пичужечка моя». Но она заходилась все сильнее, а тело ее сотрясали судороги.
Мейзи уже исполнилось полтора года, но весила она, как узелок с тряпками. Через несколько недель после ее рождения у мамы поднялась температура и пропало молоко, пришлось обходиться сладкой водичкой, распаренными и растолченными овсяными хлопьями, а когда были на это деньги – молоком. Все мы были страшно худыми. Еды постоянно не хватало; выпадали целые дни, когда нам доставались одни только резиновые картофелины в жидком бульоне. Мама и здоровой-то не слишком хорошо стряпала, а случалось, что и вовсе не бралась за это дело. Пока я не выучилась готовить, мы часто грызли сырые картофелины прямо из ящика.
С тех пор как мы уехали из своего дома на западном побережье Ирландии, прошло два года. Жизнь и там была не сахар: папа то находил, то терял работу, его заработков нам всегда не хватало. Мы ютились в крошечном неотапливаемом каменном домишке в маленькой деревне Кинвара в графстве Гэлвей. Все наши соседи уезжали в Америку: о ней рассказывали, что там растут апельсины размером с крупный картофель, что в полях там колышется под солнечным небом рожь, а дома все чистые, сухие, деревянные, с водопроводом и электричеством. И работы завались – что фруктов на деревьях. В результате папины родители и сестры решили оказать нам последнюю услугу, а может, им просто не терпелось избавиться от источника постоянных волнений и неприятностей: они наскребли денег на билеты на всю нашу семью из пяти человек; и вот однажды теплым весенним днем мы поднялись на борт «Агнессы-Полины», которая взяла курс на Эллис-Айленд. Единственным связующим звеном с нашим будущим было имя, накорябанное на листке бумаги, который папа перед посадкой засунул в карман рубашки: имя человека, который эмигрировал десятью годами раньше и теперь, по словам его кинварской родни, владел хорошей закусочной в Нью-Йорке.
Хотя мы и прожили всю жизнь в приморской деревушке, никто из нас ни разу в жизни не выходил в море – и уж всяко не оказывался на борту большого судна посреди океана. Все мы, кроме моего брата Дома, отличавшегося несокрушимым здоровьем, почти всю дорогу промаялись от морской болезни. Хуже всего было маме, которая на судне обнаружила, что опять брюхата, – ей почти не удавалось удержать пищу в желудке. Но, несмотря на все это, когда я стояла на нижней палубе, выбравшись из нашей темной, переполненной каюты третьего класса, и смотрела, как за кормой «Агнессы-Полины» бурлит маслянистая вода, меня переполняли надежды. Я была уверена, что в Америке мы найдем свое место. Утро, когда мы вошли в Нью-Йоркскую гавань, выдалось совсем пасмурным и туманным, и даже стоя у самого леера и вглядываясь в густую морось, мы с братьями едва различали смутные очертания статуи Свободы неподалеку от нашего причала. Нас отвели в одну из длинных очередей, осмотрели, опросили, поставили штамп в паспорте, а потом выпустили на берег, в толпу таких же иммигрантов, которые говорили на языках, звучавших для меня как лошадиное ржание.
Не видела я никакой колышущейся ржи, никаких огромных апельсинов. Мы доехали на пароме до острова Манхэттен и принялись бродить по улицам – мы с мамой качались под весом наших пожитков, близнецы ныли, чтобы их взяли на ручки, папа тащил под мышками по чемодану, сжимая в одной руке карту, а в другой обтрепанную бумажку с надписью: «Марк Флэннери, „Ирландская роза“, Дилэнси-стрит», выведенной нетвердым почерком матери Марка. После того как мы несколько раз заблудились, папа плюнул на карту и начал спрашивать дорогу у прохожих. Они по большей части просто молча отворачивались; один мужик плюнул под ноги – лицо перекошено от ненависти. Но вот в конце концов мы нашли то, что искали, – ирландский паб, грязнущий, как самые низкопробные заведения на задворках Гэлвея.
Мы с мамой и братьями остались ждать на улице, а папа зашел внутрь. Дождь перестал; от мокрой мостовой во влажный воздух поднимался пар. Мы стояли в сырой одежде, задубевшей от пота и грязи, скребли зудящие затылки (вши одолевали нас на судне не меньше морской болезни), а ноги саднило, потому что мы надели новые туфли, которые бабушка купила перед отъездом, но мама решила, что ходить в них мы будем только по американской земле; мы стояли и гадали, во что ввязались. Если не считать этого жалкого подобия ирландского паба, в новой стране мы не увидели ничего похожего на знакомый нам мир.
Марк Флэннери получил письмо от своей сестры, поэтому ждал нас. Папу он нанял мыть посуду, а нас проводил по соседству – я такого места никогда не видала: высокие кирпичные здания нависали над узкими улочками, запруженными людьми. Марк знал, где сдается квартира; десять долларов в месяц, третий этаж пятиэтажного дома на Элизабет-стрит. Он попрощался с нами у входа, и домовладелец-поляк, мистер Каминский, повел нас по выложенному плиткой коридору и вверх по лестнице, кряхтя в темноте под тяжестью наших чемоданов и одновременно читая нам лекцию о пользе чистоты, добронравия и трудолюбия, – судя по всему, он заподозрил, что мы их лишены.
– Я ничего не имею против ирландцев, только если они не бузят, – сообщил он нам громоподобным голосом.
Я глянула на папу и увидела на его лице выражение, которого раньше не видела никогда, однако сразу распознала: он ошарашен тем, что здесь, в чужой стране, о нем начинают судить превратно еще до того, как он раскроет рот.
Домовладелец назвал наше новое жилье «квартира-поезд»: каждая из комнат выходила в следующую, они соединялись, будто вагоны. Крошечная спальня родителей с окном на заднюю стену другого здания располагалась в самом конце; за ней шла комната, где потом жили я, братья и Мейзи, дальше кухня, а в конце – гостиная; из двух ее окон открывался вид на шумную улицу. Мистер Каминский дернул за цепочку, свисавшую с металлического потолка кухни, и засветилась тусклая лампочка, залив слабым светом обшарпанный деревянный стол, маленькую измызганную раковину, кран, из которого текла только холодная вода, газовую плиту. В коридоре, за пределами квартиры, находилась уборная, которой пользовались и наши соседи – бездетная немецкая чета по фамилии Шацман; об этом нам сообщил хозяин.
– Они живут тихо и от вас ожидают того же самого, – сказал он, хмуро поглядывая на моих братьев, больших непосед, которые в шутку пихали друг друга.
Несмотря на хмурого хозяина, страшную духоту, мрачные комнаты и какофонию незнакомых звуков, совершенно непривычных моему сельскому слуху, я ощутила очередной прилив надежды. Я еще раз осмотрела все наши четыре комнаты, и мне показалось, что жизнь действительно начинается заново, что все тяготы существования в Кинваре остались позади: сырость, пробиравшая до костей, жалкий, нищий домишко, пьянство отца – я ведь уже упоминала об этом? – лишавшее нас последних грошей. А тут папе пообещали работу. Тут дернул за цепочку – и загорелся свет; повернул кран – и потекла вода. Уборная и ванна – прямо за дверью, в сухом коридоре. Да, скромно, но все же шанс на что-то новое.
Не знаю, сильно ли влияет на мои воспоминания о тех временах мой нынешний возраст, насколько их окрашивает мой возраст тогдашний: мне было семь лет, когда мы уехали из Кинвары, и девять в ту ночь, когда Мейзи зашлась криком, в ночь, которая изменила мою жизнь даже сильнее, чем наш отъезд из Ирландии. Сейчас, восемьдесят два года спустя, я по-прежнему слышу ее крик. Если бы только я попыталась разобраться, почему она кричит, вместо того чтобы укачивать ее без всякого успеха. Если бы я попыталась разобраться.
Но я так боялась, что жизнь наша вновь пойдет наперекосяк, что старалась не замечать вещей, пугавших меня сильнее всего: папину неизменную любовь к бутылке – на это перемена страны никак не повлияла; мамину угрюмость и вспышки ярости; их постоянные скандалы. Мне очень хотелось, чтобы все наконец выправилось. Я прижала Мейзи к груди и зашептала ей на ушко: «Но мне милее голос твой, пичужечка моя», – пытаясь ее утихомирить. Когда она умолкла, я испытала облегчение, не сознавая, что Мейзи в тот день стала канарейкой в шахте: она предупреждала нас об опасности; впрочем, было уже слишком поздно.
Нью-Йорк
1929 год
Через три дня после пожара мистер Шацман будит меня и тут же заявляет, что они с миссис Шацман придумали идеальный выход (да, он употребил именно это слово, «идеальный» – «айдиальный» с его немецким выговором; в тот самый миг я усвоила страшную силу превосходных степеней). Они отведут меня в Общество помощи детям, там трудятся дружелюбные социальные работники, все детишки, находящиеся под их присмотром, обогреты, накормлены и одеты.
– Но я не могу! – возражаю я. – Мама без меня не управится, когда ее выпишут из больницы.
Я уже знаю, что отец и братья мертвы. Видела их в коридоре, накрытыми белой тканью. Маму же унесли на носилках, а еще я успела заметить, что Мейзи двигалась и попискивала, когда какой-то человек в форме уносил ее прочь.
Он качает головой:
– Она не вернется.
– Тогда Мейзи…
– Твоя сестра Маргарет не выжила, – говорит он и отворачивается.
Мать, отец, два брата и сестра, которая была мне дороже собственной души, – какими словами выразить утрату? А когда я все-таки нахожу подходящие слова, сказать их некому. Все, к кому я была привязана в этом мире – новом для меня мире, – умерли или исчезли.
В ночь пожара, когда Шацманы забрали меня к себе, я слышала, как миссис Шацман переругивается в спальне с мужем на предмет того, что со мной делать.
– Мне только этого не хватало, – шипела она, а я слышала каждое слово, будто мы находились в одной комнате. – Эти ирландцы! Куча детей, да в такой тесноте. Удивительно, почему такие вещи не происходят чаще.
Я слушала через стену, и внутри разверзалась пустота. «Мне только этого не хватало». Несколькими часами раньше папа пришел с работы в баре, переоделся, как всегда переодевался вернувшись, – с каждым слоем одежды сбрасывая затхлый запах. Мама чинила одежду – она этим подрабатывала. Доминик чистил картошку. Джеймс играл в углу. Я рисовала на листке бумаги, разучивала с Мейзи буквы: коленям было тепло под ее весом, будто там лежала грелка; ее липкие пальчики копошились в моих волосах.
Я пытаюсь забыть этот ужас. Хотя, наверное, «забыть» – не то слово. Как такое забудешь? С другой стороны, я не продвинусь в жизни ни на шаг, если не сумею укротить свое отчаяние. Я закрываю глаза – и слышу, как визжит Мейзи и кричит мама, ощущаю запах дыма, чувствую жар на коже – и вскакиваю с матраса в гостиной у Шацманов, обливаясь холодным потом.
Мамины родители умерли, ее братья остались в Европе; один за другим ушли в армию, и я понятия не имею, как их разыскать. Потом мне приходит в голову – об этом я говорю мистеру Шацману, – что кто-нибудь может попробовать связаться с папиной матерью и сестрой, оставшимися в Ирландии, хотя мы и не общались с ними с тех пор, как приехали сюда. Я не видела ни единого письма от бабули, не видела, чтобы папа писал ей. Наша жизнь в Нью-Йорке была такой безрадостной, и мы цеплялись за нее такими неверными пальцами, что папе, видимо, не о чем было рассказать родным. Сама же я знаю не много: название нашей деревни, папину фамилию, хотя, возможно, и этого достаточно.
Мистер Шацман хмурит брови и качает головой – и только тут я сознаю свое одиночество. На этой стороне Атлантического океана нет ни одного взрослого человека, которого я бы хоть сколько-то интересовала, некому отвести меня на судно и оплатить мой проезд. Я обуза для общества, и никто не хочет со мной возиться.
– Ты, ирландка. Сюда. – Тощая хмурая дама в белом чепце манит меня костлявым пальцем. То, что я ирландка, она, видимо, выяснила из документов, которые заполнил мистер Шацман, когда несколько недель назад привез меня в Общество помощи, а может, по моему выговору, «торфяному», как и прежде. – Ф-фу, – говорит она, поджимая губы, когда я подхожу. – Рыжая.
– Как прискорбно, – высказывается стоящая с ней рядом толстуха, а потом вздыхает. – Да еще и веснушки. А в ее годах и так-то пристроить непросто.
Тощая облизывает большой палец, отводит волосы от моего лица.
– Так ты их отпугнешь, а это ни к чему, ясно? Зачеши назад. Если будешь выглядеть опрятно и благовоспитанно, может, кто и позарится.
Она застегивает пуговицы на моих манжетах, нагибается, чтобы заново завязать шнурки на моих черных туфлях – от чепца поднимается запах плесени.
– Ты обязана выглядеть презентабельно. Как девочка, которую любой женщине захочется постоянно видеть в доме. Чистоплотная, воспитанная. Но не слишком… – Она бросает взгляд на другую.
– Не слишком какая? – спрашиваю я.
– Некоторые женщины не очень любят, чтобы под одной с ними крышей жили смазливые девочки, – говорит она. – Ты, правда, не особенно… И тем не менее. – Указывает на цепочку у меня на шее. – Это что?
Я поднимаю руку, дотрагиваюсь до латунного кельтского креста-кладдаха, который ношу с шестилетнего возраста, обвожу пальцем контур сердечка.
– Ирландский крест.
– В поезд нельзя брать с собой обереги.
Сердце бухает так, что мне кажется: она тоже слышит.
– Он бабушкин.
Они обе таращатся на крест, вижу, что сомневаются, пытаются решить, что делать.
– Она подарила мне его еще в Ирландии, перед нашим отъездом. Это… это все, что у меня осталось.
Это правда, но правда и другое: я говорю это, чтобы их переубедить. И мне это удается.
Поезд мы сперва слышим, а потом уже видим. Негромкий гул, легкая дрожь под ногами, басовитый свисток – сперва чуть слышный, но нарастающий по мере приближения состава. Мы вытягиваем шеи, смотрим на рельсы (хотя одна из наших попечительниц, миссис Скетчерд, кричит визгливо: «Де-ти! Де-ти, на место!»), и вот он внезапно появляется: черный паровоз нависает над нами, тенью застилает платформу, с шипением выпускает пар – будто огромный одышливый зверь.
Я в группе из двадцати детей самого разного возраста. Все мы отмыты, одеты в подаренную благотворителями одежду, на девочках белые передники и толстые чулки, на мальчиках штанишки, застегнутые под коленом на пуговицы, белые рубашки, галстуки, пиджачки из толстой шерсти. Тот октябрьский день выдался теплым не по сезону, бабье лето, как выразилась миссис Скетчерд, и все мы на платформе обливаемся потом. У меня волосы прилипли к шее, в жестком переднике очень неудобно. В одной руке я сжимаю коричневый чемоданчик, в котором, помимо креста, лежит все мое недавно приобретенное имущество: Библия, две смены одежды, шляпа, черное пальто – оно мне мало на несколько размеров, пара туфель. На пальто, с внутренней стороны, одна из добровольных сотрудниц Общества вышила мое имя: Niamh Power.
Да, именно так. А произносится «Ниев». В графстве Гэлвей это вполне расхожее имя, в ирландских районах Нью-Йорка оно тоже встречается нередко, но там, куда повезет меня поезд, оно явно не годится. Дама, которая несколько дней назад вышивала эти буквы, цокала за работой языком.
– Очень надеюсь, что вы не слишком привязаны к этому имени, маленькая мисс, потому как могу вас заверить: если вас, на ваше счастье, кто-то возьмет в семью, ваши новые родители сразу дадут вам другое.
Папа называл меня «моя Ниев». Но я не особенно привязана к этому имени. Я знаю: его трудно произносить, звучит оно по-чужому, а для тех, кто не понимает, еще и некрасиво – нагромождение разномастных звуков.
Никто не проявляет ко мне сочувствия по поводу моих утрат. У каждого из нас своя грустная история: иначе мы бы здесь не оказались. Общее понимание – лучше не говорить о прошлом, и тогда с утратой памяти может прийти утешение. Общество помощи обращается с нами так, будто родились мы в момент поступления к ним: как мотыльки, вылупившиеся из коконов, мы сбросили наши прошлые жизни и с Божьей помощью скоро перепорхнем в новые.
Миссис Скетчерд и мистер Куран, застенчивый, с каштановыми усами, выстраивают нас по росту, от самого высокого к самому маленькому, что также означает – от старшего к младшему; младенцев держат на руках те, кому больше восьми. Миссис Скетчерд всовывает одного из них мне в руки еще до того, как я успеваю запротестовать, – оливковая кожа, косые глазки, год и два месяца, звать Кармин (я уже понимаю: скоро он будет отзываться на другое имя). Он цепляется за меня, как перепуганный котенок. С чемоданчиком в одной руке, а другой прижимая к себе Кармина, я, покачиваясь, взбираюсь по ступеням в вагон; подскакивает мистер Куран, забирает у меня поклажу.
– Головой немножко соображай, девочка, – бранит он меня. – Свалишься – раскроишь вам обоим черепа; тогда придется вас здесь оставить.
Деревянные скамейки в вагоне все расположены по ходу поезда, кроме двух отделений впереди, разделенных узким проходом. Я нахожу для нас с Кармином три места, мистер Куран закидывает мой чемодан на полку. Кармину скоро взбредает в голову слезть с сиденья, и я так занята попытками его отвлечь, чтобы не сбежал, что почти не замечаю, как в вагон влезают остальные и он начинает заполняться.
Миссис Скетчерд стоит в голове вагона, держась за две кожаные спинки сидений, рукава ее черного плаща напоминают вороньи крылья.
– Этот поезд, дети, называется «Поездом сирот», и вам очень повезло, что вы в нем оказались. Вы уезжаете из злого мира, полного невежества, нищеты и порока, а впереди вас ждет достойная сельская жизнь. Во время поездки вы должны придерживаться простых правил. Проявляйте послушание, выполняйте все наши распоряжения. С уважением относитесь к наставникам. Бережно относитесь к вагону, не наносите ему никакого ущерба. Следите за поведением своих соседей. Говоря коротко, ведите себя так, чтобы мы с мистером Кураном вами гордились. – Она повышает голос, мы устраиваемся на своих местах. – Когда вам позволят выйти из вагона, оставайтесь там, где вам будет указано. Уходить куда-либо самостоятельно строго запрещается. А если вы станете вести себя недостойно и нарушать установленные правила, вас немедленно отправят обратно и оставят на улице – без какого бы то ни было попечения.
На младших эта тирада производит сильное впечатление, но те из нас, кому шесть-семь или больше, уже не раз слышали ее перед отъездом в приюте во всевозможных вариациях. Слова пролетают мимо моего сознания. Меня больше волнует то, что Кармин голоден, да и я тоже. На завтрак нам дали только кусочек черствого хлеба и жестяную кружку молока, и было это очень давно, еще не светало. Кармин капризничает, жует ладошку, видимо, привык так себя утешать. (Мейзи, например, сосала большой палец.) Но я не знаю, как спросить, когда нас покормят. Покормят, когда у попечителей будет время раздать еду, – и этого не изменишь никакими уговорами.
Я сажаю Кармина на колени. Утром, за завтраком, бросая сахар в чашку с чаем, я сунула два кусочка в карман. Теперь я растираю один из них между пальцами, облизываю указательный, обмакиваю в сахар, запихиваю Кармину в рот. Изумление у него на личике, восторг от того, как ему несказанно повезло, вызывают у меня улыбку. Он хватается обеими пухлыми ладошками за мою руку, прижимается к ней и засыпает.
От ритмичного постукивания колес меня тоже начинает клонить в сон. Просыпаюсь я оттого, что Кармин ворочается и трет глазки, а надо мной стоит миссис Скетчерд. Она совсем близко – мне видны розовые сосудики, похожие на прожилки на тонком листе, которые змеятся по ее щекам; пушок на нижней челюсти, кустистые черные брови.
Она пристально вглядывается на меня через стекла маленьких круглых очков.
– Как я понимаю, у тебя дома были малыши.
Я киваю.
– Похоже, ты знаешь, как с ними обращаться.
Кармин, будто по сигналу, ударяется в рев.
– Он, кажется, проголодался, – говорю я. Щупаю подгузник: снаружи сухой, но тяжелый. – И перепеленать пора.
Она поворачивается к голове вагона, через плечо манит меня следом.
– Тогда пошли.
Прижимая к груди малыша, я нетвердо поднимаюсь с сиденья и, покачиваясь, иду за ней по проходу. Дети сидят по двое-трое и провожают меня тоскливым взглядом. Никто не знает, куда мы направляемся, и, похоже, все, кроме самых маленьких, испытывают опасение и страх. Опекуны нам почти ничего не говорят; знаем мы лишь то, что едем в край, где на ветках, склонившихся к самой земле, растет много-много яблок, а на вольном деревенском воздухе гуляют коровы, овцы и свиньи. В край, где живут хорошие люди, хорошие семьи – и они готовы взять нас к себе. Я не видела ни одной коровы – да если на то пошло, вообще ни одного животного, кроме бродячих собак и самых выносливых птиц, – с тех пор, как мы уехали из Гэлвея, и теперь рада буду увидеть их снова. Впрочем, настроена я скептически. Слишком я хорошо знаю, что красивые слова очень часто не совпадают с реальностью.
Многие из маленьких пассажиров нашего поезда провели в Обществе помощи столько времени, что и вовсе не помнят своих матерей. Им будет проще начать сначала, броситься в объятия новой семьи, которая станет для них единственной. Я же помню слишком многое: просторную бабулину грудь, ее маленькие сухие ручки, мрачный коттедж, осыпающуюся стену, которой обнесен тесный огород. Густой туман, который накрывает залив ранним утром и в конце дня, баранину с картошкой, которую бабуля приносила нам, когда мама, вымотавшись, не могла ничего приготовить или нам не на что было купить продукты. Помню, как покупали молоко и хлеб в угловой лавке на Фантом-стрит – Срайд-а-фука, как называл ее по-гэльски папа: такое название улица получила потому, что каменные дома в этой части города построены были на бывшем кладбище. Помню мамины растрескавшиеся губы и мимолетную улыбку, грусть, что заполняла наш дом в Кинваре и перебралась с нами через океан, обосновавшись в темных углах съемной квартиры в Нью-Йорке.
И вот я в этом поезде, вытираю Кармину попку, а миссис Скетчерд нависает над нами и прикрывает меня одеялом, чтобы весь этот процесс не видел мистер Куран, а заодно раздает указания, в которых я не нуждаюсь. Сухого, чистого Кармина я пристраиваю головкой на плечо и иду на место, а мистер Куран раздает миски с обедом – хлеб, сыр и фрукты, жестяные кружки с молоком. Я кормлю Кармина размоченным в молоке хлебом, и это напоминает мне про ирландское блюдо, которое называется «чамп», – я часто готовила его для Мейзи и братьев: размятый картофель, молоко, зеленый лук (в тех редких случаях, когда удавалось его достать), соль. Когда приходилось ложиться спать голодными, мы всегда видели чамп во сне.
Раздав нам обед и по шерстяному одеялу, мистер Куран объявляет, что рядом с ним стоит ведро воды с ковшиком, можно поднять руку и подойти попить. В поезде есть уборная, сообщает он (нам скоро предстоит обнаружить, что эта «уборная» – жуткая дыра, прямо над рельсами).
Кармин, насытившись хлебом и сладким молоком, разлегся у меня на коленях, положив темноволосую головку на сгиб локтя. Я обернула нас обоих колючим одеялом. Среди ритмичного перестука колес и беззвучного копошения многих людей я чувствовала себя как в коконе. От Кармина пахло ванильным кремом, а тяжесть его тельца была такой уютной, что на глаза навернулись слезы. Нежная кожа, мягкие ручки, темные игольчатые ресницы – даже его вздохи заставляли меня думать (а как же иначе?) про Мейзи. Мысль о том, что она умерла в больнице от ожогов, одна, в мучениях, была невыносимой. Как так может быть, что ее нет, а я жива?
В нашем съемном жилье двери всех квартир, как правило, были открыты, жильцы совместно сидели с детьми, совместно готовили. Мужчины работали в одних и тех же продуктовых магазинах и кузнях. Женщины занимались рукоделием: плели кружево, чинили носки. Проходя мимо их квартир, я видела, как они сидят кружком, склонившись над работой, переговариваются на непонятном мне языке, – и меня пронзала боль.
Мои родители уехали из Ирландии в надежде на лучшее будущее, мы все верили, что путь наш лежит в страну изобилия. Родителям предстояло потерпеть крах в этой новой стране – крах во всех смыслах. Возможно, они просто были слабыми людьми, не приспособленными к тяготам эмиграции с ее унижениями и компромиссами, возможно, им не хватало самодисциплины и толики авантюризма. И все же меня не покидала мысль: ведь все могло сложиться иначе, если бы у нашей семьи имелся какой-то свой бизнес, куда приняли бы и папу, гарантировав ему занятость и стабильный доход, и ему не пришлось бы работать в баре – для такого человека, как он, место было хуже некуда; или если бы маму окружали другие женщины, сестры и племянницы, которые сняли бы с нее бремя отчаяния и одиночества, дали ей приют в краю чужаков.
В Кинваре мы были безнадежно бедны и не знали, что ждет нас завтра, но, по крайней мере, рядом была родня, знакомые люди. У нас были общие традиции, одинаковые взгляды на мир. До отъезда мы понятия не имели, что этих вещей можно лишиться.