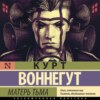Kitabı oku: «Синяя борода», sayfa 3
5
В одном журнале по искусству написали: им точно известно, что я припрятал в амбаре – там шедевры абстрактных экспрессионистов, которые я не выпускаю на рынок, желая поднять в цене менее значительные работы, выставленные в доме.
Это неправда.
После выхода этой статьи Геворк Ованесян, мой собрат-армянин, живущий в Саутхемптоне, всерьез выразил готовность купить не глядя лежащее в амбаре за три миллиона долларов.
– Поймать бы тебя на слове да надуть, – ответил я ему. – Но уж очень это не по-армянски.
А если бы я согласился, то это было бы все равно что продать ему Бруклинский мост.
Другой отклик на ту статью меня уже не позабавил. Человек, которого я не помнил, в письме к издателю сообщал, что встречался со мной во время войны. Что ж, очень может быть. Во всяком случае, взвод из художников, которым я командовал, он описал во всех подробностях. Знал, какое нам дали задание, когда союзники выбили немецкую авиацию с неба и отпала необходимость в нашей роскошной маскировке, которой мы немцам голову морочили. Задание нам дали – все равно что детей в лавку Деда Мороза запустить: поручили заниматься оценкой и составлением каталога трофейных произведений искусства.
Человек этот писал, что служил в штабе Верховного главнокомандующего Объединенных сил союзников и я время от времени имел с ним дело. По его мнению, я присвоил кое-какие шедевры, которые должны быть возвращены законным владельцам в Европе. А я, из опасения, что против меня возбудят судебный процесс, запер шедевры в амбар.
Ошибается.
Да, он ошибается насчет запертого в амбаре. Надо сказать, чуточку он не прав и насчет того, что я воспользовался возможностями моей необычной военной службы. Никаких ценностей, которые передавали нам подразделения, захватившие их, я украсть не мог. Я был обязан выдать расписку, а кроме того, нас регулярно контролировали ревизоры из финансовой службы.
Но в наших поездках через пограничные линии мы и правда сталкивались с людьми, которые, находясь в отчаянном положении, продавали произведения искусства. И кое-какие прекрасные вещи мы купили – за бесценок.
Никто из моего взвода не приобрел полотен старых мастеров или произведений, которые явно были из церквей, музеев или выдающихся частных собраний. Я, по крайней мере, думаю, что никто. Не могу поручиться, конечно. В мире искусства, как и всюду, ловкач остается ловкачом, а вор вором.
Но о себе скажу, что я действительно купил у частного лица недописанный набросок углем, который показался мне похожим на Сезанна – потом его подлинность была установлена. Сейчас он находится в постоянной экспозиции род-айлендской школы рисования. А еще я купил любимого своего Матисса у вдовы, которая рассказала, что картина досталась ее мужу в подарок от самого художника. Раз уж на то пошло, мне подсунули фальшивого Гогена, и поделом.
Приобретения свои я отправлял на хранение единственному человеку, которого знал и которому мог доверять во всех Соединенных Штатах Америки, Сэму By, владельцу китайской прачечной в Нью-Йорке, – он одно время работал поваром у моего учителя, иллюстратора Дэна Грегори.
Вообразите только – сражаться за страну, где единственный штатский, которого вы знаете, – китаец из прачечной!
И вот однажды меня с моим взводом художников бросили на передовую, сдержать, если сумеем, последнее крупное наступление немцев.
Но ни одной из тех картин в амбаре нет, да и вообще я ими больше не владею. Вернувшись с войны, я все их продал, и это дало мне возможность вложить недурненькую сумму в акции фондовой биржи. От юношеской мечты стать художником я отказался. Пошел на курсы бухгалтерского дела, экономики, делового законодательства, маркетинга и т. д. при Нью-Йоркском университете. Я собрался стать бизнесменом.
Вот что я думал о себе и об искусстве: я могу в мельчайших подробностях передать на полотне все, что вижу, если запасусь терпением и хорошими кистями и красками. В конце концов, я же был способным учеником самого дотошного иллюстратора нашего столетия, Дэна Грегори. Но то, что делал он и могу делать я, делает и фотокамера. И я понимал, что та же мысль заставила импрессионистов, кубистов, дадаистов, сюрреалистов и прочих «истов» предпринять щедро вознагражденные усилия с целью создания хороших картин, которых не повторят ни камера, ни художники вроде Дэна Грегори.
Я пришел к выводу, что воображение у меня заурядное, то есть никакое, я могу быть только относительно хорошей камерой. Поэтому мне не стоит заниматься серьезным искусством, а лучше выбрать другое, более обычное и доступное поле деятельности: деньги. И я из-за этого не расстроился. Наоборот, вздохнул с облечением!
Но поболтать об искусстве я все же любил, и хотя не мог писать картин, разбирался в них не хуже других. И вот, слоняясь вечерами по барам около Нью-Йоркского университета, я без труда сошелся с несколькими художниками, которые считали, что почти обо всем судят правильно, но не надеялись, что их поймут и признают. В разговорах я никому из них не уступал. И в выпивке тоже. А главное, в конце вечера я мог оплатить чек благодаря деньгам, заработанным на бирже, небольшому пособию, которое выдавало правительство на время учебы в университете, и пожизненной пенсии от благодарной американской нации за то, что я отдал один глаз, защищая Свободу.
Настоящие художники считали меня бездонным кладезем. Я мог заплатить не только за выпивку, но и за квартиру, сделать первый взнос при покупке машины, рассчитаться за аборт подружки – и жены, впрочем, тоже. В общем, платил за все. Сколько бы денег им ни понадобилось, не важно на что, всегда можно было перехватить у толстосума Рабо Карабекяна.
Так я покупал друзей. На самом деле кладезь мой не был бездонным. К концу месяца они выбирали из него все. Но потом колодец – он же неглубокий – снова заполнялся.
В жизни, как на ярмарке. Мне, конечно, нравилось их общество – прежде всего по той причине, что они относились ко мне так, словно я тоже художник. Я был для них своим. Новая большая семья, заменившая мой исчезнувший взвод.
И они рассчитывались со мной не только дружеским отношением. Они, как могли, покрывали долги своими картинами, которых, заметьте, никто не покупал.
Чуть не забыл: я был тогда женат, и жена была беременна. Дважды была она беременна стараниями несравненного любовника Рабо Карабекяна.
Стучу на машинке, только что вернувшись с прогулки у бассейна, где я спросил Селесту с приятелями, которые вечно толкутся у этого излюбленного подростками спортивного сооружения, слышали ли они про Синюю Бороду. Я собирался упомянуть про Синюю Бороду в своей книге. И хотел выяснить, надо ли объяснять юным читателям, кто такой Синяя Борода.
Никто не знал. Раз уж зашел разговор, я заодно спросил, знакомы ли им имена Джексона Поллока, Марка Ротко, Терри Китчена, а также Трумена Капоте, Нельсона Олгрена, Ирвина Шоу и Джеймса Джойса, которые вошли не только в историю искусства и литературы, но и в историю Хемптона. Никого они не знают. Это к вопросу о бессмертии через служение музам.
Значит, так: Синяя Борода – персонаж старинной детской сказки, и за ним, возможно, стоит история жившего когда-то человека из знатного рода, жуткого типа. В сказке он все время женится. Женившись в очередной раз, приводит новую молоденькую жену, совсем еще девочку, в свой замок. Говорит, что она может входить во все комнаты, кроме одной, и показывает ей запертую дверь.
Синяя Борода то ли плохой, то ли, скорее, великий психолог – каждая новая жена только о том и думает, что же там такое, в этой комнате. И пытается заглянуть туда, решив, что мужа нет дома, но он тут как тут.
Хватает он ее как раз в тот момент, когда она стоит на пороге и в ужасе разглядывает трупы своих предшественниц, которых он всех до единой, кроме самой первой, убил за то, что они в эту комнату заглядывали. Первую он убил за что-то другое.
Так-то. А из всех, кто знает о запертом картофельном амбаре, тайна его особенно невыносима для Цирцеи Берман. Она все время пристает ко мне, чтобы я сказал, где ключи от амбара, а я все повторяю, что они в золотом ларце, зарытом у подножия Арарата.
Последний раз, когда она о них спросила, пять минут назад, я сказал:
– Послушайте, думайте о чем-нибудь другом, о чем угодно. Для вас я – Синяя Борода, и это моя запрещенная комната, поняли?
6
Вопреки сказанному о Синей Бороде, трупов в моем амбаре нет. Первая из двух моих жен – ею была и остается Дороти – вскоре после нашего развода снова вышла замуж, и надо же – по общему мнению, удачно. Теперь она вдова, дом у нее на побережье в Сарасоте, штат Флорида. Второй ее муж был умелым и энергичным страховым агентом – об этой же профессии подумывали после войны и мы с Дороти. Теперь у Дороти и у меня по собственному пляжу: каждого к своему берегу прибило.
Вторая моя жена, незабвенная Эдит, похоронена недалеко отсюда, на кладбище Грин-Ривер, где, надеюсь, похоронят и меня, ее могила всего в нескольких ярдах от надгробий Джексона Поллока и Терри Китчена.
Если я и убил кого-нибудь на фронте, а это могло произойти, то только за несколько секунд до того, как осколок шального снаряда контузил меня, вырвал глаз и я потерял сознание.
Мальчишкой, еще с двумя глазами, я рисовал лучше всех учеников паршивых государственных школ Сан-Игнасио, хоть и не велика честь. Учителя поражались и говорили родителям, что, может быть, мне стоит выбрать ремесло художника.
Но совет казался родителям совершенно непрактичным, и они просили учителей больше не вдалбливать это мне в голову. Художники, считали они, живут в нищете и умирают, не дождавшись признания своих работ. В общем, они, конечно, были правы. Полотна художников, которые практически всю жизнь прожили в крайней бедности, сейчас, когда их нет в живых, самые ценные в моей коллекции.
Если художник хочет по-настоящему взвинтить цены на свои картины, совет ему могу дать только один: пусть руки на себя наложит.
Но в 1927 году, когда мне было одиннадцать и я, между прочим, уже делал успехи в ремесле, обещая, как и отец, стать хорошим сапожником, мама прочла об одном американском художнике, который зарабатывал огромные деньги, как кинозвезды и магнаты, и дружил с самыми знаменитыми кинозвездами и магнатами, и у него была яхта, и конный завод в Виргинии, и дом на побережье в Монтоке, недалеко отсюда.
Позже, хотя и не намного – ведь через год она умерла, мама рассказала, что и не подумала бы читать статью, если бы не фотография художника на его яхте. Яхта называлась «Арарат» – название горы, такой же святой для армян, как Фудзияма для японцев.
Он, конечно, армянин, подумала мать и оказалась права. В статье рассказывалось, что настоящее имя художника Дан Грегорян, родился он в Москве, в семье объездчика лошадей, а обучался у главного гравера Русского императорского монетного двора.
В Америку он приехал в 1907 году не как беженец, спасающийся от геноцида, а как обычный эмигрант, поменял имя на Дэн Грегори и занялся иллюстрациями журнальных рассказов, а также рисунками для рекламы и для детских книг. Автор статьи утверждал, что Дэн Грегори, вероятно, самый высокооплачиваемый художник в американской истории.
Думаю, что так и обстоит дело с Дэном Грегори, или Грегоряном, как всегда мои родители называли его, – надо только подсчитать его заработки в двадцатые годы, и особенно во времена Великой депрессии, да перевести на сегодняшние обесцененные доллары. Живой или мертвый, Грегори, наверно, по сей день остается чемпионом.
В отличие от отца, мать все понимала про Соединенные Штаты. Она уловила, что самая неотвязная американская болезнь – одиночество, даже люди, занимающие высокое положение, часто страдают от него, а потому способны проявлять редкую отзывчивость к симпатичным незнакомцам, если те держатся дружелюбно.
И вот она мне говорит, а я ее просто не узнаю, до того лицо у нее хитрое, ну как у колдуньи:
– Ты должен написать этому Грегоряну. Только обязательно напиши, что ты тоже армянин. Напиши, что тоже хочешь стать художником, хочешь хоть немного быть похожим на него и считаешь его величайшим художником в мире.
И я написал такое письмо, вернее, около двадцати таких писем ребяческим своим почерком, и наконец мать сочла, что приманка неотразима. Эта каторжная для мальчишки работа сопровождалась едкими шуточками отца.
– Этот человек уже перестал быть армянином, раз он поменял имя, – говорил отец. Или: – Раз он в Москве вырос, значит, русский, а не армянин. – Или: – Ты знаешь, как я расценил бы такое письмо? Ждал бы, что в следующем попросят денег.
А мать по-армянски сказала ему:
– Не видишь, что мы ловим рыбку? Потише, спугнешь ее своей болтовней.
Кстати, у турецких армян, так мне говорили, рыбной ловлей занимались женщины, а не мужчины.
И какой улов принесла моя наживка!
На крючок попалась любовница Дэна Грегори, бывшая статисточка варьете «Зигфельд» Мерили Кемп!
Мерили стала моей самой первой женщиной – а было мне девятнадцать лет, так-то! Боже мой, какое же я древнее ископаемое с допотопными взглядами, если это посвящение в секс и сейчас, больше чем через пятьдесят лет, представляется мне чудом вроде небоскреба Крайслер, – а теперь пятнадцатилетняя дочка кухарки принимает противозачаточные таблетки!
Мерили Кемп сообщила, что она помощница мистера Грегори и они оба глубоко тронуты моим письмом. Легко представить, писала она, как занят мистер Грегори, и поэтому он просил ее ответить за него. Письмо на четырех страницах было написано почти такими же детскими каракулями, как мое. Тогда ей, дочери неграмотного шахтера из Западной Виргинии, самой-то был всего двадцать один год.
В тридцать семь лет она станет графиней Портомаджьоре и у нее появится розовый дворец во Флоренции. А в пятьдесят – крупнейшим в Европе агентом по продаже изделий фирмы «Сони» и самым крупным на этом ветхом континенте коллекционером американской послевоенной живописи.
Она, наверно, ненормальная, решил отец, если написала такое длинное письмо незнакомцу, к тому же мальчишке, да еще черт знает откуда.
Мама решила, что она, наверно, очень одинока, и оказалась права. Грегори держал ее около себя как домашнюю собачку, потому что она была очень красивая, и, кроме того, иногда использовал в качестве модели. Но помощницей в его бизнесе она, конечно, не была. Ее мнение ни по какому вопросу его не интересовало.
И на свои званые вечера никогда он ее не допускал, не брал в поездки, театры, рестораны или в гости к знакомым, никогда не представлял своим знаменитым друзьям.
С 1927 по 1933 год Мерили Кемп написала мне семьдесят восемь писем. Я могу их пересчитать, потому что все их сохранил, они теперь хранятся в футляре, в кожаном переплете ручной работы в моей библиотеке. И переплет и футляр – подарок покойной Эдит на десятую годовщину нашей свадьбы. Миссис Берман раскопала письма, как и все прочее, к чему я эмоционально привязан, – кроме ключей от картофельного амбара.
Все эти письма она прочла, даже не спросив, считаю ли я их сугубо личными. А потом сказала, и в голосе ее впервые прозвучали нотки благоговения:
– Любое письмо этой женщины говорит гораздо больше удивительного о жизни, чем все картины в вашем доме. Целая история униженной и оскорбленной женщины, которая начинает понимать, что она замечательная писательница, – пишет она действительно замечательно. Надеюсь, вы это понимаете.
– Понимаю, – ответил я. Безусловно, это правда: каждое письмо глубже, выразительнее, увереннее, с большим чувством собственного достоинства, чем предыдущее.
– Какое у нее было образование? – спросила миссис Берман.
– Один год средней школы.
Миссис Берман недоверчиво покачала головой.
– Насыщенный, видно, был год! – сказала она.
Я же со своей стороны посылал ей главным образом свои рисунки, надеясь, что Мерили показывает их Дэну Грегори, и сопровождал их короткими записками.
Когда я сообщил о смерти мамы от столбняка, которым мы обязаны консервной фабрике, письма Мерили стали почти материнскими, хотя она всего на девять лет старше меня. И первое такое письмо пришло не из Нью-Йорка, а из Швейцарии, куда, писала Мерили, она отправилась кататься на лыжах.
Правду я узнал только после войны, когда побывал у нее во дворце во Флоренции: Дэн Грегори отправил ее в Швейцарию в клинику избавиться от плода, который она носила.
– Я должна быть благодарна Дэну за это, – сказала она мне во Флоренции. – Именно тогда я и увлеклась иностранными языками.
И рассмеялась.
* * *
Сию минуту миссис Берман сообщила мне, что кухарка сделала не один аборт, как Мерили, а три, и не в Швейцарии, а в Саутхемптоне, прямо в кабинете врача. Фу, какую это наводит на меня тоску, а впрочем, почти все в теперешней жизни наводит на меня тоску.
Я не спросил, когда между абортами кухарка целых девять месяцев вынашивала Селесту. Меня это не интересовало, но миссис Берман тем не менее меня проинформировала:
– Два аборта до Селесты и один после.
– Кухарка сама вам это сказала? – спросил я.
– Нет, Селеста, – ответила она. – Говорит, что мать хочет перевязать трубы.
– Чрезвычайно рад все это узнать, – заметил я, – на всякий пожарный случай.
Настоящее, как разъярившийся фокстерьер, тяпает меня за колени, однако я снова возвращаюсь к прошлому.
Мама умерла, считая, что я стал протеже Дэна Грегори, хотя на самом деле он мне и словечка не написал. До того как заболеть, она все надеялась, что «Грегорян» отправит меня в школу живописи, а потом, когда я стану постарше, этот же «Грегорян» уговорит какой-нибудь журнал взять меня иллюстратором, введет в круг своих богатых друзей, и они мне объяснят, как разбогатеть, вкладывая деньги, заработанные живописью, в биржевые акции. В 1928 году акции вроде бы все поднимались и поднимались вверх, ну совсем как сейчас! Ха-ха!
Через год разразился биржевой крах, но мама об этом уже не узнала, не узнала и о том, что (как выяснилось через пару лет после краха) с Дэном Грегори я совсем не связан, он скорее всего даже не знает о моем существовании, а чрезмерные похвалы в адрес моих работ, которые я посылал в Нью-Йорк на критический разбор, исходят не от самого высокооплачиваемого в истории Америки художника, а этой, как говаривал по-армянски мой отец, «то ли уборщицы его, то ли кухарки, то ли шлюхи».
7
Вспоминаю: прихожу однажды из школы – было мне лет пятнадцать, – а отец сидит за покрытым клеенкой столом в крохотной кухоньке, и перед ним стопка писем Мерили. Он их перечитывал.
Это нельзя было расценить как вторжение в мою личную жизнь. Письма являлись достоянием семьи – если нас двоих можно было назвать семьей. Вроде векселей, которые мы накапливали, бумаг таких с золотым обрезом: вот дозреют они, и я с ними, и начну получать с них доходы. Смогу тогда позаботиться и об отце, который, конечно, нуждался в помощи. Его сбережения приказали долго жить, когда обанкротилась «Сберегательная и ссудная ассоциация округа Лума», которую мы и все в городе называли «Эль Банко Банкроте». Тогда государственной системы страхования вкладов еще не существовало.
Больше того, «Эль Банко Банкроте» держал закладную на небольшой дом, первый этаж которого занимала мастерская отца, а второй – наша квартира. Отец купил дом, взяв ссуду в банке. После краха банка судебные исполнители в покрытие долгов продали все принадлежащее банку имущество, а также наложили вето на выкуп просроченных закладных, которые почти все и были просрочены. Почему просрочены? Да потому, что почти у всех без исключения хватило глупости доверить свои денежные сбережения «Эль Банко Банкроте».
Стало быть, отец, перечитывавший в тот полдень письма Мерили, теперь стал обычным квартиросъемщиком в доме, который раньше ему принадлежал. Что же до мастерской внизу, то она пустовала – не было денег еще и за аренду платить. Да все равно, ведь инструменты отцовские пришлось продать с молотка, чтобы хоть что-то наскрести для нас, глупцов, доверивших свои сбережения «Эль Банко Банкроте».
Какая комедия!
Когда я вошел со своими учебниками, отец поднял глаза от писем и сказал:
– Знаешь, кто эта женщина? Все обещает, а дать ей нечего. – И припомнил того армянина-проходимца, надувшего их с матерью в Каире.
– Она – новый Вартан Мамигонян, – сказал он.
– В каком смысле?
А он и объясняет, да так, словно перед ним не письма, каракулями написанные, а векселя или страховые полисы, в общем, что-то ценное:
– Хитро тут закручено, надо читать внимательно. Первые письма, продолжал он, пестрили фразами «мистер Грегори говорит…», «мистер Грегори полагает…», «мистер Грегори хочет, чтобы ты знал…», но примерно с третьего письма такие фразы полностью исчезают.
– Эта особа – никто, – сказал отец, – сама никогда никем важным не станет, а вот пытается же поймать кого-то на крючок, используя репутацию Грегоряна.
Я не возмутился. Честно говоря, я и сам это заметил. Но, с другой стороны, сумел-таки подавить скверные, ох какие скверные предчувствия.
Я спросил отца, почему он занялся исследованием писем именно сейчас. Оказалось, пока я был в школе, на мое имя прибыли десять книг от Мерили. Отец свалил книги на сушилку раковины, а в раковине полно грязной посуды! Я начал рассматривать их. Это была тогдашняя классика для юношества: «Остров сокровищ», «Робинзон Крузо», «Швейцарские Робинзоны», «Робин Гуд и его веселые друзья», «Путешествия Гулливера», «Рассказы из Шекспира», «Тэнглвудские истории» и прочее. То, что до войны читали подростки, что находилось на расстоянии сотен световых лет от нежелательных беременностей, инцестов, рабского труда за минимальную зарплату, вероломства школьных друзей и всего прочего, о чем пишет Полли Медисон.
Мерили послала мне эти книжки потому, что их очень лихо проиллюстрировал Дэн Грегори. И это были самые прекрасные вещи не только у нас дома, но, не сомневаюсь, и во всем округе Лума.
– Как это трогательно с ее стороны! – воскликнул я. – Только посмотри на них! Неужели не хочется?
– Посмотрел уже, – ответил отец.
– Чудо просто, а?
– Да, – говорит он, – чудо. Только объясни мне, почему мистер Грегорян, который такого высокого о тебе мнения, не подписал ни одной из книг и не черкнул хоть несколько строк в поощрение моему одаренному сыну?
Все это было сказано по-армянски. После краха «Эль Банко Банкроте» он говорил дома только по-армянски.
* * *
Тогда мне было в общем-то не важно, от кого исходят советы и поддержка, от Грегори или Мерили. О себе, наверно, говорить нескромно, но что уж там, для мальчишки я стал чертовски хорошим художником. И я настолько в себя уверовал, что мне было безразлично, помогут мне из Нью-Йорка или не помогут, все равно, я добьюсь успеха, а Мерили защищал, главным образом чтобы успокоить отца.
– Если эта Мерили, кем бы она ни была, такого высокого мнения о твоих картинах, – сказал он, – почему бы ей не продать из них кое-что, а тебе прислать денег?
– Она и так на редкость щедрая, – ответил я, и это правда: Мерили не только тратила на меня свое время, но и присылала самые лучшие материалы для работы, какие можно было найти. Об их стоимости я понятия не имел, да и она тоже. Она брала все это без разрешения из кладовой в подвале Дэна Грегори. Прошло несколько лет, я сам увидел кладовую, и столько там всего лежало, что даже при всей плодовитости Грегори такого запаса хватило бы ему на десять жизней. Уверенная, что Грегори не заметит пропажи, она не спрашивала разрешения, потому что до смерти его боялась.
Он часто бил ее, даже ногами.
О действительной ценности этих материалов: краски, которые она присылала, уж конечно, не «Сатин-Дура-Люкс». Это акварель Хорадама и масло Муссини из Германии. Кисти из «Виндзора и Ньютона» в Англии. Пастель, цветные карандаши и тушь от «Лефебр-Фуане» в Париже. Холст от Классенов в Бельгии. Ни один художник к западу от Скалистых гор не имел таких бесценных поставок! Вот почему Дэн Грегори – единственный известный мне иллюстратор, который мог рассчитывать, что его работы займут достойное место среди сокровищ мирового искусства, ведь материалы, которые он использовал, действительно пережили улыбку Моны Лизы, – не то что эта хвастунья «Сатин-Дура-Люкс». Другие иллюстраторы рады были, если их работа уцелела, пока ее везли в типографию. Они вечно говорили, что это, мол, просто халтура ради денег, что иллюстрации – искусство для тех, кто не имеет понятия об искусстве; а вот Дэн Грегори так не считал.
– Она тебя просто использует, – сказал отец.
– Для чего? – спросил я.
– Чтобы чувствовать себя важной персоной.
Вдова Берман согласна, что Мерили просто использовала меня, но с другой целью.
– Вы были для нее читательской аудиторией, – сказала она. – Писатель пойдет на все ради читательской аудитории.
– Один – это аудитория? – спросил я.
– Ей было достаточно, – сказала она. – Любому достаточно. Только посмотрите, как улучшался ее почерк, увеличивался словарь. Посмотрите, какие находила она темы, осознав, что вы ловите каждое ее слово. Этому подонку Грегори она, разумеется, не писала. Писать домой родным тоже не имело смысла. Они даже читать не умели! Неужели вы верили, что она описывает все, что подметила в Нью-Йорке, на случай, если вы захотите это изобразить?
– Да, думаю, верил.
Мерили описывала длинные очереди за хлебом, в которые выстраивались потерявшие во время Депрессии работу, описывала людей в хороших костюмах, которые явно когда-то были при деньгах, а теперь продавали яблоки на улице, и безногого инвалида Первой мировой войны, а может, он только выдавал себя за инвалида войны, – катит на доске с роликами, вроде скейтинга, карандаши продает на Центральном вокзале, и людей из высшего общества, которые с удовольствием распивают в подпольных барах с гангстерами, – в общем, такие картинки.
– Вот секрет, как писать с удовольствием и достичь высокого уровня, – изрекла миссис Берман. – Не пишите для целого мира, не пишите для десяти человек или для двух. Пишите только для одного.
– А вы для кого пишете? – спросил я.
И она ответила:
– Наверно, это прозвучит странно, ведь вы думаете, что для сверстника моих читателей, но это не так. Наверное, в том-то и секрет успеха моих книжек. Поэтому они действуют так сильно на юных читателей, вызывают у них доверие, а я не произвожу впечатления глуповатого подростка, болтающего с другими такими же. Я не пишу ничего, что не находил бы достойным внимания и правдивым Эйб Берман.
Эйб Берман – это, ясное дело, ее муж, нейрохирург, умерший от инсульта семь месяцев назад.
Она опять попросила ключи от амбара. Если еще хоть словом про амбар обмолвитесь, предупредил я, то всем расскажу, что вы – Полли Медисон, приглашу местных газетчиков, пусть интервьюируют, и всякое такое. Если я и правда так сделаю, это будет не только катастрофа для Пола Шлезингера. К нам может заявиться толпа протестантов-ортодоксов, способных даже на самосуд.
На днях вечером я случайно видел по телевизору проповедь евангелистского священника, и тот сказал, что Сатана со страшной силой набросился на американскую семью, вонзил в нее четыре зуба, это: коммунизм, наркотики, рок-н-ролл и романы сатанинской сестры – Полли Медисон.
Возвращаясь к моей переписке с Мерили Кемп: тон моих писем к ней охладел, когда отец назвал ее новым Вартаном Мамигоняном. На нее я больше ни в чем не рассчитывал. Наверно, просто взрослеть начал, а это значит, что больше не нуждался в самозваной матери. Возмужал я, мама мне вообще больше не требуется – по крайней мере так я думал.
И без всякой ее или чьей-либо помощи, еще почти мальчишкой, я начал зарабатывать как художник, и где? Прямо тут, в обанкротившемся Сан-Игнасио. Мне нужно было где-то подрабатывать после школы, и я пришел в местную газету «Трубный глас Лумы» и сказал, что хорошо рисую. Редактор спросил, могу ли я нарисовать итальянского диктатора Бенито Муссолини (потом оказалось – героя из героев Дэна Грегори), и я нарисовал его за две-три минуты, даже не взглянув на фотографию.
Потом редактор попросил нарисовать прелестного ангела в женском облике, и я нарисовал.
А потом велел нарисовать, как Муссолини вливает в рот ангелу кварту жидкости. На бутыли велел написать – «касторовое масло», а на ангеле – «мир на планете». Любимым наказанием Муссолини было заставить жертву выпить кварту касторки. Вроде бы забавный способ проучить, но получалось вовсе не смешно. Жертва умирала от рвоты и кровавого поноса. Выжившие же оставались инвалидами с разодранными в клочья внутренностями.
Вот так, еще в нежном возрасте, я начал зарабатывать политической карикатурой. Редактор говорил, что нарисовать, и я делал карикатуру за неделю.
К моему огромному удивлению, в отце вдруг тоже расцвел талант художника. Когда дома гадали, откуда у меня способности к рисованию, одно казалось очевидным – не от отца и не от родственников по его линии. Когда он еще чинил сапоги, в мастерской вокруг него было полно обрезков, но он не сделал ни одной вещички с воображением, ни красивого ремня для меня, ни кошелька для мамы. Чинил обувь на совесть, вот и все.
И вдруг, будто в трансе, он с помощью самых простых инструментов, целиком вручную, стал шить на редкость красивые ковбойские сапоги и продавал их, бродя от двери к двери. Сапоги получались не просто добротные и удобные, они сверкали как драгоценности на мужских ногах: были там всякие золотые и серебряные звезды, птицы, цветы, дикие кони – он все это вырезал из консервных банок и бутылочных крышечек.
Но странно: этот поворот в его жизни не так уж меня и обрадовал, не думайте. У меня прямо мурашки по коже пробегали, когда я заглядывал ему в глаза, где не было больше ничего родного – полное отчуждение.
Через много лет я видел, как то же произошло с Терри Китченом. Он был моим лучшим другом. И вдруг начал писать картины, да так, что многие сейчас находят его величайшим из абстрактных экспрессионистов, талантливее Поллока и Ротко.
Это, разумеется, прекрасно, но когда я глядел в глаза своего лучшего друга, там не было больше ничего родного – полное отчуждение.
О, Боже мой!
Словом, возвращаясь к Рождеству 1932 года: последние письма Мерили валялись где-то, даже не прочитанные. Надоело мне быть ее аудиторией.
И вдруг мне пришла телеграмма.
Прежде чем вскрыть ее, отец заметил, что это первая телеграмма, полученная нашей семьей.
Вот ее содержание:
ПРИГЛАШАЮ СТАТЬ МОИМ УЧЕНИКОМ ОПЛАЧУ ПРОЕЗД КОМНАТУ ПИТАНИЕ СКРОМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УРОКИ ЖИВОПИСИ
ДЭН ГРЕГОРИ
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.