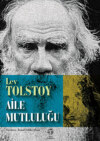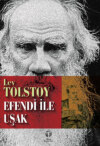Kitabı oku: «Война и мир. Том 1», sayfa 4
Найденное Безуховым «бессмертие в чувстве» между тем представляло собой только поверхность, «биосферу» толстовского божества, было «неполной истиной». Та религиозная система, что «прояснялась» в сознании героя, вела Пьера к пониманию также последней «безличной глубины», которая так непосредственно открылась Болконскому и которой все больше становился сам Болконский в его последние дни. Эта «зияющая бесконечность» – подлинный адресат всех молитвенных обращений на страницах книги (от молитвы Наташи Ростовой, «внутренних устремлений» княжны Марьи до всеобщего бородинского молебна) – открылась Безухову через фигуру его «товарища по несчастью», пленного солдата Платона Каратаева.
Образ этот, в отличие от десятков других, которые появлялись в «Войне и мире», кажется, единственный не имел в себе почти никаких строго индивидуальных, ясно очерченных примет. Если в чем и состояла его «отдельность» от прочих действующих лиц, то именно в его безличности. Каратаев был земной житель, и потому он трудился: с утра до глубокой ночи даже в плену находил себе разнообразные занятия; он, как умел, помогал другим пленным, любил поговорить о жизни, любил петь. Но все это словно не имело на себе и малейшего отпечатка его собственной личности. «Он все умел делать, – говорилось у Толстого, – не очень хорошо, но и не дурно». «Он пел песни, – продолжал писатель, – не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, но пел, как поют птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расходиться…»
Безличная святыня «Войны и мира» обретала в этом герое (хотя в отношении Каратаева понятия: герой, действующее лицо, тип, характер – всегда окажутся неверными) настоящего своего подвижника. Пребывая в текущей действительности, он словно был уже вполне погружен в ту любовь, то безбрежное «все», которое, согласно Толстому, «говорило о себе» в каждом отдельном «я»: «Привязанностей дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком – не известным каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом; но Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему (которою он невольно отдавал должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним. И Пьер то же чувство начинал испытывать к Каратаеву». Действительно, даже и смерть «соколика Платоши», ослабевшего в дороге и пристреленного французами, похоже, «не огорчила» ни его самого, ни подготовленного к этому Безухова. Завыла только собачка, приласканная убитым, и тем лишь раздосадовала Пьера: «Экая дура, о чем она воет?» «Атом бытия», «круглый» Каратаев нырнул с поверхности вглубь. Вот и все.
Тут по-своему для Толстого разрешалось (а на деле, скорее, только углублялось) мучительное противоречие между ужасом войны и поэзией войны. Выходило, что француз, убивший Каратаева, сам того не ведая, совершил великое благо – вернул его туда, где ему и надлежало находиться. Хорошо жить, но хорошо и умереть. Потому что в этой последней любви, этой «нирване» и наступит наконец «вечное счастье» избавления от себя, избавления от личности. Там не будет воздаяния каждому «по делам его», найдется место всем: «понимающим» и «непонимающим». Даже и Наполеон, должно быть, услышит в свой последний час только одно: «Теперь-то наконец ты понял?» – и сольется навсегда с князем Андреем, жертвами Аустерлица, Бородина…
В долгом пути поисков, которым шел Безухов на протяжении четырех томов «Войны и мира», момент смерти «праведного» Каратаева означал достижение конечной цели. «Жизнь есть все. Жизнь есть Бог. Все перемещается и движется, и это движение есть Бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания Божества», – «выводил» для себя Пьер едва ли не конечную формулу толстовской веры 1860-х годов. И как бы во избежание «фразы» тут же находил «обоснование» этой мысли в конкретном образе.
Безухов припоминал старика учителя, который в Швейцарии учил его географии. Но вместо обычного глобуса воображению героя представлялся теперь «живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров». «Вся поверхность шара, – говорилось далее, – состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею». Учитель, давая свой урок, объяснял, что это и есть жизнь. И затем «выстраивал» перед потрясенным «учеником» уже законченную картину Вселенной: «В середине Бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез».
Яркая «модель мироздания», которую то ли наяву, то ли во сне увидел Безухов, далеко выходила за пределы собственных переживаний героя. «Новая реальность» романа словно постигала в ней саму себя. Тут раскрывалась до конца и дорогая Толстому «мысль народная». «Совершенный» Каратаев не случайно «отдавал должное духовной жизни Пьера». Что Каратаев бессознательно заключал в себе, то Безухов открывал уже вполне осмысленно. Наученный жизнью «маленького солдатика» и больше – его смертью, он приближался к постижению именно каратаевских истин, тех самых, что, верил писатель, исповедует и весь русский народ.
«…Платон Каратаев, – говорил Толстой, – остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого». И, словно желая утвердить эту «краеугольную» в романе идею, добавлял далее по тексту: «Платон Каратаев был для всех остальных пленных самым обыкновенным солдатом. ‹…› Но для Пьера, каким он представился в первую ночь, непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа простоты и правды, таким он и остался навсегда». Впечатления героя и собственный взгляд художника в данном случае шли нераздельно. Лучшим тому доказательством было прямое упоминание в рассказе о Безухове слов из толстовского «символа веры»: «простота и правда».
Все нравственно одаренные герои романа, десятки и сотни народных типов – все «подлинное», о чем шла речь в «Войне и мире», уходя корнями в русскую почву, так или иначе наполнялось «каратаевским духом», таило в себе частицу Каратаева, устремлялось в итоге к этому образу-олицетворению. Семья Ростовых, семья Болконских, Безухов, капитаны Тушин и Тимохин, офицеры, солдаты, мужики, Кутузов – все эти люди, каждый по-своему, утверждали и охраняли такую «мысль народную». Это она здесь и сейчас подняла над неприятелем страшную дубину и «гвоздила» до тех пор, пока «чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью». И она же обещала там, в ином существовании на земле, ничем не ограниченное слияние со своими врагами. В ней видел Толстой причину самого полного торжества в 1812 году «русского народа и войска». Он искренне полагал, что это и есть «мысль христианская». Рассуждая о закономерности русской победы, «развенчивая» кумир Наполеона, писатель так и сказал: «Для нас, с данной нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Каратаевское и христианское были для него, по сути, одним и тем же.
Долгие годы, если не всю жизнь, Толстой мечтал о воссоединении расколотого русского мира. Прежде всего тут имелись в виду простой народ и представители европейски образованных сословий. Герои более ранних произведений писателя: Нехлюдов из повести «Утро помещика» (1856), Оленин из другой повести – «Казаки» (1853–1862) – тщетно искали взаимопонимания, один – со своими крепостными крестьянами, другой – с обитателями кавказской станицы. Народная среда из рассказа «Севастополь в декабре месяце» определенно противостояла «цивилизованным» персонажам «Севастополя в мае», и последний рассказ цикла «Севастополь в августе 1855 года» только отчасти заключал в себе «образ национального единства».
На страницах грандиозного творения 1860-х годов Толстой, по всем признакам, сумел решить для себя, для своих героев-мыслителей давнюю, мучительную проблему. Но для этого ему пришлось вообразить в красках «новую реальность», вдохнуть собственный дух в национальную историю. Сверкающие жизненной правдой и красотой картины «Войны и мира» хранили в себе не только «благоуханную почву», но и готовый «развернуть» эту почву вспять от своих истоков дух «новой веры». И, словно стремясь поставить последнюю плотину для возможности прочесть им сказанное в каком-либо ином ключе, увидеть в его произведении иную духовную перспективу, Толстой объяснил законы «своей реальности» в огромных по объему историко-философских главах – неотъемлемой части «Войны и мира».
Главы эти часто казались читателям, историкам литературы не до конца органичными, входящими в противоречие с художественным рассказом Толстого. Едва ли это так на самом деле. Все, что было «растворено» в поэтических эпизодах романа, что определило собой характер каждого из его описаний, получило теперь свой законченный вид. Главные идеи толстовской философии 1860-х годов – о непроизвольности исторических событий, восходящих к единому, отраженному в «бесконечно малых элементах» «началу бытия», о невозможности управлять «естественным ходом жизни», о свободе частных поступков и предопределенности движения истории – оказались только «вынесены» из повествовательной, сюжетной ткани «Войны и мира» на всеобщее обозрение.
* * *
Последние в «Войне и мире» художественные главы показывали ее героев уже в другую историческую эпоху, прямо устремленную к современным Толстому 60-м годам XIX века. В эпилоге произведения изображалось послевоенное время, когда единство минувшей поры оказалось утраченным, – время декабристских тайных собраний, время правительственной реакции.
Пьер Безухов, который порвал с масонами, имел теперь отношение к тайным обществам иного рода (в действительности те и другие были тесно связаны между собой), думал, как переустроить Россию на гуманных, «любовных» началах. Его новый родственник – Николай Ростов держался официальной линии, не допускающей перемен, давящей и непреклонной. «Составь вы тайное общество, – говорил он своему шурину, – начни вы противодействовать правительству, какое бы оно ни было, я знаю, что мой долг повиноваться ему. И вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить – ни секунду не задумаюсь и пойду. А там суди как хочешь». Тут не было, как прежде, столкновения «жизни» и «нежизни». Идейные расхождения грозили пошатнуть саму естественную жизнь в ее сердцевине. Призрак уже не войны с Наполеоном, а совсем другой войны – гражданской – словно витал над этим спором.
Новые конфликты в эпилоге произведения требовали качественно иной авторской позиции. Изображая идейный раскол между героями, писатель не стремился занять сторону одного или другого из них, почти не обнаруживал свое отношение к происходящему. Оба они были ему дороги. В судьбе того и другого восторжествовала «непринужденная» философия «Войны и мира». Оба стали семейными людьми, достигли домашнего единения и счастья. Откуда же роковое непонимание между ними? Сотворенная Толстым «новая реальность», кажется, не обещала ничего подобного…
Составная часть «Войны и мира», ее эпилог уже не вполне принадлежал этому произведению. Наряду с толстовской проблематикой, тесно переплетенные с ней, тут возникли новые, мало связанные с поэтическим космосом великой книги жизненные конфликты. Назревающий между героями раскол застигал их неожиданно, приходил из другой, вполне объективной реальности. Так же внезапно, словно ниоткуда, над ними вырастала тень Пугачева (об этом в эпилоге однажды говорил Безухов).
Эта «внутренняя гроза», правда, напомнила о себе однажды и в тех эпизодах произведения, которые были посвящены войне 1812 года. «Богучаровский бунт» (подобные волнения крестьян, вызванные разными причинами, действительно случались кое-где в период нашествия Наполеона) был как далекая, но быстро потухшая зарница на русском горизонте. Этот массовый «вывих сознания» Николай Ростов решительно «вправил» всего лишь одной зуботычиной. «Чувствительное» потрясение опять, как это бывало и в судьбах отдельных персонажей, возвратило «живую жизнь» на круги своя. Более того, неожиданным для себя «усмирением смуты» герой приобрел будущее счастье – «спаситель и заступник», он познакомился тогда с будущей своей женой княжной Марьей. Все устроилось как нельзя лучше.
А все-таки странное брожение среди крепостных крестьян выглядело почти необъяснимым с точки зрения естественной философии романа. Все каратаевское, «круглое» вдруг потухло на миг в этих мужиках из имения князя Андрея. Богучаровское «недоразумение», хотя и было спровоцировано французскими прокламациями, совсем не походило на те «уловки» цивилизации, что подстерегали Наташу, Андрея или Пьера. У него были домашние, русские корни. Недовольство собственным положением, внутренней отчужденностью господ, суеверные фантазии – все это прорвалось у крестьян в самых нелепых, угрожающих формах. Реальная проблематика национальной жизни вдруг напомнила о себе независимо от любой философии безгрешного бытия.
Прежде чем начать работу над «Войной и миром», Толстой задумывал роман о декабристах. Это был современный замысел. В центре его находился один из многолетних «сибирских изгнанников», который много лет спустя, во второй половине 1850-х годов, после объявленного царем помилования возвращался в Москву. Из этого «зерна», собственно, и выросло все грандиозное древо «Войны и мира». Писатель обратился к молодости своего героя, чтобы оттуда начать движение к его преклонным годам. Завершая свое произведение, Толстой словно приближался опять к его «отправной точке».
Однажды, в 1858 году, разочарованный духом преобразований своего времени, он написал известному литератору В. П. Боткину: «Политическая жизнь вдруг неожиданно обхватила собой всех. ‹…› А людей, которые бы просто силой добра притягивали бы к себе и примиряли людей в добре, таких нету». В эпилоге «Войны и мира» Толстой показал героя, близкого своим идеальным представлениям. Возможно, таковым виделся ему уже и тот самый первый персонаж начатого, но так и не законченного «декабристского» романа.
Безухов – странный декабрист, не заговорщик, не политик. Он человек, всем без исключения желающий добра, каким он его себе представляет, каким он понял его в эпоху народной войны с Наполеоном. «Ведь я не говорю, – утверждал он, – что мы должны противудействовать тому-то и тому-то. Мы можем ошибаться. А я говорю: возьмемтесь рука с рукою те, которые любят добро, и пусть будет одно знамя – деятельная добродетель». Но при чем здесь вообще декабристы? Почему бы герою не удовольствоваться просто найденным счастьем? Чуткая Наташа однажды предлагала мужу поверить собственную правоту самой высокой у Толстого мерой – мерой Каратаева: «Как он? Одобрил бы тебя теперь?» И, уже готовый сказать: «Да», Безухов честно признавался перед собой: «Нет, не одобрил бы».
Между тем именно «каратаевские» открытия, сделанные Безуховым на исходе 1812 года, неумолимо влекли героя к попытке «освободить» общество от любых «цивилизованных» начал. Далеко не Ростов был зачинщиком конфликта в эпилоге «Войны и мира». Это Пьер, убежденный, что без него «все распадается», говорил и действовал как обладатель последней истины. Он мечтал, что «люди добра» все вместе предотвратят новую пугачевщину. Увы, подобный рецепт «исцеления по-безуховски» не обещал подлинной России ни мира, ни согласия. Слишком своевольным, расплывчатым было это добро, в одиночку найденное героем. Отражение пугачевщины, скорее, грозило обернуться ее продолжением. Религия безгрешного человечества приносила совсем не те плоды, о которых мечталось. Далекие сполохи русской революции были уже слишком хорошо различимы в новых «филантропических» мечтаниях благородного, искреннего Пьера. В отличие от большинства декабристов он думал о мирном, «полюбовном» перевороте. Но все-таки оказался – не мог не оказаться – вместе с теми, кто гордо (это повторится и дальше в революционной среде) называл свое движение «освободительным». Вот так же и сам Толстой на склоне лет, осуждая революционеров, будет невольно им сочувствовать.
Пока же, наблюдая за своим героем как бы извне, художник только пытался различить судьбу своей мечты в реальном, грешном мире. Как ни старался он смотреть на Безухова отстраненно, даже с едва различимой улыбкой, было заметно, что сам он больше на стороне Пьера, чем на стороне его оппонента Ростова. Ведь «положительный» Безухов говорил и думал так по-толстовски! Своеобразной мерой правоты того и другого персонажа стало причудливое отражение их спора во внутреннем мире юного Николеньки Болконского.
Странный сон, увиденный мальчиком, завершал художественный рассказ эпилога. Дядя Пьер и он сам в касках, наподобие тех, что носили герои античности (Николенька увлекался греческим писателем Плутархом), войско, которое они ведут за собой, дядя Николай Ильич, грозно ставший у них на пути, князь Андрей – умерший отец, который внезапно слился с образом Пьера и заменил его собой. Проснувшийся Николенька (тут было много ребяческого) грезил о подвигах, о славе. Но больше всего – о чем-то возвышенном и прекрасном, что сделает он сам во имя всех людей. В этих мечтах о благе человечества он был заодно с Безуховым. И сон его никому не предвещал мира. Потому что «естественное» добро Безухова, потому что испытанное Николенькой «не названное, но высокое», устремляясь в подлинную жизнь со страниц «новой реальности», обещали этой жизни поистине великие потрясения…
У истоков «Войны и мира» находилась давняя мечта ее создателя о земном блаженстве всех живущих. В определенном смысле книга Толстого и представляла собой утопическое произведение, созданное на материале национальной истории. Эта религиозно-философская основа сообщила замыслу писателя единственно возможный масштаб, направление и способы развития, определила собой главные итоги уже завершенного произведения.
Грандиозная книга о былом во многом утвердила готовый состояться в национальном мире переворот во взглядах на отеческое прошлое, по-своему отразила историческое мироощущение новой, смутной поры. Но разве лишь поэтому оказалась «Война и мир» так дорога последующим поколениям русских?
Каждый, кто прикоснулся хотя бы однажды к этой поэтической вселенной, испытал на себе ее неотразимое воздействие. Чудодейственный талант ее творца подарил нам великую радость сопереживания и любви – навсегда. Нас вечно пленяет исключительное мастерство художника, его редкое, своеобразное искусство слова. Представить нашу литературу без «Войны и мира» сегодня попросту невозможно. Это одно из центральных ее произведений, великое культурное достояние. Трудно представить без нее и русское патриотическое сознание. Кого оставит равнодушным эта земная, подлинная Россия с ее многообразными лицами, ее праздниками и бедами, ее открытым сердцем и твердой решимостью защитить себя в бою? Где еще мы найдем столь живой, ощутимый, столь законченный образ давно ушедшей эпохи? И какой эпохи! У кого еще есть такая история? В какой национальной культуре найдется такая книга? Сложная, парадоксальная. А все-таки – неиссякаемо солнечная.
Александр Гулин


Часть первая
I
– Eh bien, mon prince. Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, des поместья, de la famille Buonaparte. Non, je vous préviens, que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole, j’y crois) – je ne vous connais plus, vous n’êtes plus mon ami, vous n’êtes plus мой верный раб, comme vous dites7. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Je vois que je vous fais peur8, садитесь и рассказывайте.
Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Феодоровны, встречая важного и чиновного князя Василия, первого приехавшего на ее вечер. Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был грипп, как она говорила (грипп был тогда новое слово, употреблявшееся только редкими). В записочках, разосланных утром с красным лакеем, было написано без различия во всех:
«Si vous n’avez rien de mieux à faire, Monsieur le comte (или mon prince), et si la perspective de passer la soirée chez une pauvre malade ne vous effraye pas trop, je serai charmée de vous voir chez moi entre 7 et 10 heures. Annette Scherer»9.
– Dieu, quelle virulente sortie!10 – отвечал, нисколько не смутясь такою встречей, вошедший князь, в придворном, шитом мундире, в чулках, башмаках и звездах, с светлым выражением плоского лица.
Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды, и с теми тихими, покровительственными интонациями, которые свойственны состарившемуся в свете и при дворе значительному человеку. Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, подставив ей свою надушенную и сияющую лысину, и покойно уселся на диване.
– Avant tout dites moi, comment vous allez, chére amie?11 Успокойте меня, – сказал он, не изменяя голоса и тоном, в котором из-за приличия и участия просвечивало равнодушие и даже насмешка.
– Как можно быть здоровой… когда нравственно страдаешь? Разве можно, имея чувство, оставаться спокойною в наше время? – сказала Анна Павловна. – Вы весь вечер у меня, надеюсь?
– А праздник английского посланника? Нынче середа. Мне надо показаться там, – сказал князь. – Дочь заедет за мной и повезет меня.
– Я думала, что нынешний праздник отменен. Je vous avoue que toutes ces fêtes et tous ces feux d’artifice commencent à devenir insipides12.
– Ежели бы знали, что вы этого хотите, праздник бы отменили, – сказал князь, по привычке, как заведенные часы, говоря вещи, которым он и не хотел, чтобы верили.
– Ne me tourmentez pas. Eh bien, qu’a-t-on décidé par rapport à la dépêche de Novosiizoff? Vous savez tout13.
– Как вам сказать? – сказал князь холодным, скучающим тоном. – Qu’a-t-on décidé? On a décidé que Buonaparte a brûlé ses vaisseaux, et je crois que nous sommes en train de brùler les nôtres14.
Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пиесы. Анна Павловна Шерер, напротив, несмотря на свои сорок лет, была преисполнена оживления и порывов.
Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением, и иногда, когда ей даже того не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой. Сдержанная улыбка, игравшая постоянно на лице Анны Павловны, хотя и не шла к ее отжившим чертам, выражала, как у избалованных детей, постоянное сознание своего милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не находит нужным исправляться.
В середине разговора про политические действия Анна Павловна разгорячилась.
– Ах, не говорите мне про Австрию! Я ничего не понимаю, может быть, но Австрия никогда не хотела и не хочет войны. Она предает нас. Россия одна должна быть спасительницей Европы. Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот одно, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, что Бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника. На кого нам надеяться, я вас спрашиваю?.. Англия с своим коммерческим духом не поймет и не может понять всю высоту души императора Александра. Она отказалась очистить Мальту. Она хочет видеть, ищет заднюю мысль наших действий. Что они сказали Новосильцеву? Ничего. Они не поняли, они не могут понять самоотвержения нашего императора, который ничего не хочет для себя и все хочет для блага мира. И что они обещали? Ничего. И что обещали, и того не будет! Пруссия уж объявила, что Бонапарте непобедим и что вся Европа ничего не может против него… И я не верю ни в одном слове ни Гарденбергу, ни Гаугвицу. Cette fameuse neutralité prussienne, ce n’est qu’un piège15. Я верю в одного Бога и в высокую судьбу нашего милого императора. Он спасет Европу!.. – Она вдруг остановилась с улыбкою насмешки над своею горячностью.
– Я думаю, – сказал князь, улыбаясь, – что ежели бы вас послали вместо нашего милого Винценгероде, вы бы взяли приступом согласие прусского короля. Вы так красноречивы. Вы дадите мне чаю?
– Сейчас. A propos, – прибавила она, опять успокоиваясь, – нынче у меня два очень интересные человека, le vicomte de Mortemart, il est allié aux Montmorency par les Rohans16, одна из лучших фамилий Франции. Это один из хороших эмигрантов, из настоящих. И потом l’abbé Morio17; вы знаете этот глубокий ум? Он был принят государем. Вы знаете?
– А! Я очень рад буду, – сказал князь. – Скажите, – прибавил он, как будто только что вспомнив что-то и особенно небрежно, тогда как то, о чем он спрашивал, было главною целью его посещения, – правда, что l’impératrice-mère18 желает назначения барона Функе первым секретарем в Вену? C’est un pauvre sire, ce baron, à ce qu’il paraît19. – Князь Василий желал определить сына на это место, которое через императрицу Марию Феодоровну старались доставить барону.
Анна Павловна почти закрыла глаза в знак того, что ни она, ни кто другой не могут судить про то, что угодно или нравится императрице.
– Monsieur le baron de Funke a été recommandé à l’impératrice-mère par sa soeur20, – только сказала она грустным, сухим тоном. В то время, как Анна Павловна назвала императрицу, лицо ее вдруг представило глубокое и искреннее выражение преданности и уважения, соединенное с грустью, что с ней бывало каждый раз, когда она в разговоре упоминала о своей высокой покровительнице. Она сказала, что ее величество изволила оказать барону Функе beaucoup d’estime21, и опять взгляд ее подернулся грустью.
Князь равнодушно замолк. Анна Павловна, с свойственною ей придворною и женскою ловкостью и быстротою такта, захотела и щелконуть князя за то, что он дерзнул так отозваться о лице, рекомендованном императрице, и в то же время утешить его.
– Mais à propos de votre famille, – сказала она, – знаете ли, что ваша дочь, с тех пор как выезжает, fait les délices de tout le monde. On la trouve belle, comme le jour22.
Князь наклонился в знак уважения и признательности.
– Я часто думаю, – продолжала Анна Павловна после минутного молчания, придвигаясь к князю и ласково улыбаясь ему, как будто выказывая этим, что политические и светские разговоры кончены и теперь начинается задушевный, – я часто думаю, как иногда несправедливо распределяется счастие жизни. За что вам судьба дала таких двух славных детей (исключая Анатоля, вашего меньшого, я его не люблю, – вставила она безапелляционно, приподняв брови), – таких прелестных детей? А вы, право, менее всех цените их и потому их не стоите.
И она улыбнулась своею восторженною улыбкой.
– Que voulez-vous? Lafater aurait dit que je n’ai pas la bosse de la paterienité23, – сказал князь.
– Перестаньте шутить. Я хотела серьезно поговорить с вами. Знаете, я недовольна вашим меньшим сыном. Между нами будь сказано (лицо ее приняло грустное выражение), о нем говорили у ее величества и жалеют вас…
Князь не отвечал, но она молча, значительно глядя на него, ждала ответа. Князь Василий поморщился.
– Что ж мне делать! – сказал он наконец. – Вы знаете, я сделал для их воспитания все, что может отец, и оба вышли des imbéciles24. Ипполит по крайней мере покойный дурак, а Анатоль – беспокойный. Вот одно различие, – сказал он, улыбаясь более неестественно и одушевленно, чем обыкновенно, и при этом особенно резко выказывая в сложившихся около его рта морщинах что-то неожиданно-грубое и неприятное.
– И зачем родятся дети у таких людей, как вы? Ежели бы вы не были отец, я бы ни в чем не могла упрекнуть вас, – сказала Анна Павловна, задумчиво поднимая глаза.
– Je suis votre верный раб, et à vous seule je puis l’avouer. Мои дети – ce sont les entraves de mon existence25. Это мой крест. Я так себе объясняю. Que voulez vous?..26 – Он помолчал, выражая жестом свою покорность жестокой судьбе.
Анна Павловна задумалась.
– Вы никогда не думали о том, чтобы женить вашего блудного сына Анатоля? Говорят, – сказала она, – что старые девицы ont la manie des mariages27. Я еще не чувствую за собою этой слабости, но у меня есть одна petite personne, которая очень несчастлива с отцом, une parente à nous, une princesse28 Болконская. – Князь Василий не отвечал, хотя с свойственною светским людям быстротой соображения и памятью показал движением головы, что он принял к соображению это сведенье.
– Нет, вы знаете ли, что этот Анатоль мне стоит сорок тысяч в год, – сказал он, видимо, не в силах удерживать печальный ход своих мыслей. Он помолчал.
– Что будет через пять лет, ежели это пойдет так? Voilà l’avantage d’être père29. Она богата, ваша княжна?
– Отец очень богат и скуп. Он живет в деревне. Знаете, этот известный князь Болконский, отставленный еще при покойном императоре и прозванный прусским королем. Он очень умный человек, но со странностями и тяжелый. La pauvre petite est malheureuse, comme les pierres30. У нее брат, вот что недавно женился на Lise Мейнен, адъютант Кутузова. Он будет нынче у меня.
– Ecoutez, chère Annette31, – сказал князь, взяв вдруг свою собеседницу за руку и пригибая ее почему-то книзу. – Arrangez-moi cette affaire et je suis votre вернейший раб à tout jamais (pan – comme mon староста m’écrit des32 донесенья: покой-ер-п). Она хорошей фамилии и богата. Все, что мне нужно.
И он с теми свободными и фамильярными грациозными движениями, которые его отличали, взял за руку фрейлину, поцеловал ее и, поцеловав, помахал фрейлинскою рукой, развалившись на креслах и глядя в сторону.
– Attendez33, – сказала Анна Павловна, соображая. – Я нынче же поговорю Lise (la femme du jeune Болконский)34. И, может быть, это уладится. Ce sera dans votre famille que je ferai mon apprentissage de vieille fille35.