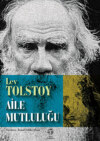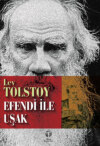Kitabı oku: «Война и мир. Том 2», sayfa 7
Пьер знал очень хорошо, что такое иероглиф, но не смел говорить. Он молча слушал ритора, по всему чувствуя, что тотчас начнутся испытанья.
– Ежели вы тверды, то я должен приступить к введению вас, – сказал ритор, ближе подходя к Пьеру. – В знак щедрости прошу вас отдать мне все драгоценные вещи.
– Но я с собою ничего не имею, – сказал Пьер, полагавший, что от него требуют выдачи всего, что он имеет.
– То, что на вас есть: часы, деньги, кольца…
Пьер поспешно достал кошелек, часы и долго не мог снять с жирного пальца обручальное кольцо. Когда это было сделано, масон сказал:
– В знак повиновенья прошу вас раздеться. – Пьер снял фрак, жилет и левый сапог по указанию ритора. Масон открыл рубашку на его левой груди и, нагнувшись, поднял его штанину на левой ноге выше колена. Пьер поспешно хотел снять и правый сапог и засучить панталоны, чтоб избавить от этого труда незнакомого ему человека, но масон сказал ему, что этого не нужно, – и подал ему туфлю на левую ногу. С детской улыбкой стыдливости, сомнения и насмешки над самим собою, которая против его воли выступала на лицо, Пьер стоял, опустив руки и расставив ноги, перед братом-ритором, ожидая его новых приказаний.
– И наконец, в знак чистосердечия, я прошу вас открыть мне главное ваше пристрастие, – сказал он.
– Мое пристрастие! У меня их было так много, – сказал Пьер.
– То пристрастие, которое более всех других заставляло вас колебаться на пути добродетели, – сказал масон.
Пьер помолчал, отыскивая.
«Вино? Объедение? Праздность? Леность? Горячность? Злоба? Женщины?» – перебирал он свои пороки, мысленно взвешивая их и не зная, которому отдать преимущество.
– Женщины, – сказал тихим, чуть слышным голосом Пьер. Масон не шевелился и не говорил долго после этого ответа. Наконец он подвинулся к Пьеру, взял лежавший на столе платок и опять завязал ему глаза.
– Последний раз говорю вам: обратите все ваше внимание на самого себя, наложите цепи на свои чувства и ищите блаженства не в страстях, а в своем сердце… Источник блаженства не вне, а внутри нас…
Пьер уже чувствовал в себе этот освежающий источник блаженства, теперь радостию и умилением переполнявший его душу.
IV
Скоро после этого в темную храмину пришел за Пьером уже не прежний ритор, а поручитель Вилларский, которого он узнал по голосу. На новые вопросы о твердости его намерения Пьер отвечал:
– Да, да, согласен, – и с сияющей детской улыбкой, с открытой жирной грудью, неровно и робко шагая одной разутой и одной обутой ногой, пошел вперед с приставленной Вилларским к его обнаженной груди шпагой. Из комнаты его повели по коридорам, поворачивая взад и вперед, и, наконец, привели к дверям ложи. Вилларский кашлянул, ему ответили масонскими стуками молотков, дверь отворилась перед ними. Чей-то басистый голос (глаза Пьера все были завязаны) сделал ему вопросы о том, кто он, где, когда родился и т. п. Потом его опять повели куда-то, не развязывая ему глаз, и во время ходьбы его говорили ему аллегории о трудах его путешествия, о священной дружбе, о предвечном строителе мира, о мужестве, с которым он должен переносить труды и опасности. Во время этого путешествия Пьер заметил, что его называли то ищущим, то страждущим, то требующим и различно стучали при этом молотками и шпагами. В то время как его подводили к какому-то предмету, он заметил, что произошло замешательство и смятение между его руководителями. Он слышал, как шепотом заспорили между собой окружающие люди и как один настаивал на том, чтоб он был проведен по какому-то ковру. После этого взяли его правую руку, положили на что-то, а левою велели ему приставить циркуль к левой груди и заставили его, повторяя слова, которые читал другой, прочесть клятву верности законам ордена. Потом потушили свечи, зажгли спирт, как это слышал по запаху Пьер, и сказали, что он увидит малый свет. С него сняли повязку, и Пьер, как во сне, увидал в слабом свете спиртового огня несколько людей, которые, в таких же фартуках, как и ритор, стояли против него и держали шпаги, направленные в его грудь. Между ними стоял человек в белой окровавленной рубашке. Увидав это, Пьер грудью надвинулся вперед на шпаги, желая, чтобы они вонзились в него. Но шпаги отстранились от него, и ему тотчас же опять надели повязку.
– Теперь ты видел малый свет, – сказал ему чей-то голос. Потом опять зажгли свечи, сказали, что ему надо видеть полный свет, и опять сняли повязку, и более десяти голосов вдруг сказали: sic transit gloria mundi23.
Пьер понемногу стал приходить в себя и оглядывать комнату, где он был, и находившихся в ней людей. Вокруг длинного стола, покрытого черным, сидело человек двенадцать, всё в тех же одеяниях, как и те, которых он прежде видел. Некоторых Пьер знал по петербургскому обществу. На председательском месте сидел незнакомый молодой человек, в особом кресте на шее. По правую руку сидел итальянец-аббат, которого Пьер видел два года тому назад у Анны Павловны. Еще был тут один весьма важный сановник и один швейцарец-гувернер, живший прежде у Курагиных. Все торжественно молчали, слушая слова председателя, державшего в руке молоток. В стене была вделана горящая звезда; с одной стороны стола был небольшой ковер с различными изображениями, с другой стороны было что-то вроде алтаря с Евангелием и черепом. Кругом стола было семь больших, вроде церковных, подсвечников. Двое из братьев подвели Пьера к алтарю, поставили ему ноги в прямоугольное положение и приказали ему лечь, говоря, что он повергается к вратам храма.
– Он прежде должен получить лопату, – сказал шепотом один из братьев.
– Ах! полноте, пожалуйста, – сказал другой.
Пьер растерянными близорукими глазами, не повинуясь, оглянулся вокруг себя, и вдруг на него нашло сомнение: «Где я? Что я делаю? Не смеются ли надо мной? Не будет ли мне стыдно вспоминать это?» Но сомнение это продолжалось только одно мгновение. Пьер оглянулся на серьезные лица окружавших его людей, вспомнил все, что он уже прошел, и понял, что нельзя остановиться на половине дороги. Он ужаснулся своему сомнению и, стараясь вызвать в себе прежнее чувство умиления, повергся к вратам храма. И действительно, чувство умиления, еще сильнейшего, чем прежде, нашло на него. Когда он пролежал несколько времени, ему велели встать и надели на него такой же белый кожаный фартук, какие были на других, дали ему в руки лопату и три пары перчаток, и тогда великий мастер обратился к нему. Он сказал ему, чтобы он старался ничем не запятнать белизну этого фартука, представляющего крепость и непорочность; потом о невыясненной лопате сказал, чтоб он трудился ею очищать свое сердце от пороков и снисходительно заглаживать ею сердце ближнего. Потом про первые перчатки мужские сказал, что значения их он не может знать, но должен хранить их, про другие перчатки мужские сказал, что он должен надевать их в собраниях, и, наконец, про третьи, женские, перчатки сказал:
– Любезный брат, и сии женские перчатки вам определены суть. Отдайте их той женщине, которую вы будете почитать больше всех. Сим даром уверите в непорочности сердца вашего ту, которую изберете вы себе в достойную каменщицу. – Помолчав несколько времени, прибавил: – Но соблюди, любезный брат, да не украшают перчатки сии рук нечистых. – В то время как великий мастер произносил эти последние слова, Пьеру показалось, что председатель смутился. Пьер смутился еще больше, покраснел до слез, как краснеют дети, беспокойно стал оглядываться, и произошло неловкое молчание.
Молчание это было прервано одним из братьев, который, подведя Пьера к ковру, начал из тетради читать ему объяснение всех изображенных на нем фигур: солнца, луны, молотка, отвеса, лопаты, дикого и кубического камня, столба, трех окон и т. д. Потом Пьеру назначили его место, показали ему знаки ложи, сказали входное слово и, наконец, позволили сесть. Великий мастер начал читать устав. Устав был очень длинен, и Пьер от радости, волнения и стыда не был в состоянии понимать того, что читали. Он вслушался только в последние слова устава, которые запомнились ему.
– «В наших храмах мы не знаем других степеней, – читал великий мастер, – кроме тех, которые находятся между добродетелью и пороком. Берегись делать какое-нибудь различие, могущее нарушить равенство. Лети на помощь к брату, кто бы он ни был, настави заблуждающегося, подними упадающего и не питай никогда злобы или вражды на брата. Будь ласков и приветлив. Возбуждай во всех сердцах огнь добродетели. Дели счастие с ближним твоим, и да не возмутит никогда зависть чистого сего наслаждения.
Прощай врагу твоему, не мсти ему, разве только деланием ему добра. Исполнив таким образом высший закон, ты обрящешь следы древнего, утраченного тобой величества», – кончил он и, привстав, обнял Пьера и поцеловал его.
Пьер со слезами радости на глазах смотрел вокруг себя, не зная, что отвечать на поздравления и возобновления знакомств, с которыми окружили его. Он не признавал никаких знакомств; во всех людях этих он видел только братьев, с которыми сгорал нетерпением приняться за дело.
Великий мастер стукнул молотком, все сели по местам, и один прочел поучение о необходимости смирения.
Великий мастер предложил исполнить последнюю обязанность, и важный сановник, который носил звание собирателя милостыни, стал обходить братьев. Пьеру хотелось записать в лист милостыни все деньги, которые у него были, но он боялся этим выказать гордость и записал столько же, сколько записывали другие.
Заседание было кончено, и по возвращении домой Пьеру казалось, что он приехал из какого-то дальнего путешествия, где он провел десятки лет, совершенно изменился и отстал от прежнего порядка и привычек жизни.
V
На другой день после приема в ложу Пьер сидел дома, читая книгу и стараясь вникнуть в значение квадрата, изображавшего одной своей стороною Бога, другою нравственное, третьею физическое и четвертою смешанное. Изредка он отрывался от книги и квадрата и в воображении своем составлял себе новый план жизни. Вчера в ложе ему сказали, что до сведения государя дошел слух о дуэли и что Пьеру благоразумнее бы было удалиться из Петербурга. Пьер предполагал ехать в свои южные имения и заняться там своими крестьянами. Он радостно обдумывал эту новую жизнь, когда неожиданно в комнату вошел князь Василий.
– Мой друг, что ты наделал в Москве? За что ты поссорился с Лёлей, mon cher?24 Ты в заблуждении, – сказал князь Василий, входя в комнату. – Я все узнал, я могу тебе сказать верно, что Элен невинна перед тобой, как Христос перед жидами.
Пьер хотел отвечать, но он перебил его.
– И зачем ты не обратился прямо и просто ко мне, как к другу? Я все знаю, я все понимаю, – сказал он, – ты вел себя, как прилично человеку, дорожащему своей честью; может быть, слишком поспешно, но об этом мы не будем судить. Одно ты пойми, в какое ты ставишь положение ее и меня в глазах всего общества и даже двора, – прибавил он, понизив голос. – Она живет в Москве, ты здесь. Полно, мой милый, – он потянул его вниз за руку, – здесь одно недоразуменье; ты сам, я думаю, чувствуешь. Напиши сейчас со мною письмо, и она приедет сюда, все объяснится, и все эти толки кончатся, а то, я тебе скажу, ты очень легко можешь пострадать, мой милый.
Князь Василий внушительно взглянул на Пьера.
– Мне из хороших источников известно, что вдовствующая императрица принимает живой интерес во всем этом деле. Ты знаешь, она очень милостива к Элен.
Несколько раз Пьер собирался говорить, но, с одной стороны, князь Василий не допускал его до этого, поспешно перебивая разговор, с другой стороны – сам Пьер боялся начать говорить не в том тоне решительного отказа и несогласия, в котором он твердо решился отвечать своему тестю. Кроме того, слова масонского устава: «буди ласков и приветлив» – вспоминались ему. Он морщился, краснел, вставал и опускался, работая над собою в самом трудном для него в жизни деле – сказать неприятное в глаза человеку, сказать не то, чего ожидал этот человек, кто бы он ни был. Он так привык повиноваться этому тону небрежной самоуверенности князя Василия, что и теперь он чувствовал, что не в силах будет противостоять ей; но он чувствовал, что от того, что он скажет сейчас, будет зависеть вся дальнейшая судьба его: пойдет ли он по старой, прежней дороге или по той новой, которая так привлекательно была указана ему масонами и на которой он твердо верил, что найдет возрождение к новой жизни.
– Ну, мой милый, – шутливо сказал князь Василий, – скажи же мне «да», и я от себя напишу ей, и мы убьем жирного тельца. – Но князь Василий не успел договорить своей шутки, как Пьер с бешенством в лице, которое напоминало его отца, не глядя в глаза собеседнику, проговорил тихим шепотом:
– Князь, я вас не звал к себе, идите, пожалуйста, идите! – он вскочил и отворил для него дверь. – Идите же, – повторил он, сам себе не веря и радуясь выражению смущенности и страха, показавшемуся на лице князя Василия.
– Что с тобой? Ты болен?
– Идите! – еще раз проговорил угрожающий голос. И князь Василий должен был уехать, не получив никакого объяснения.
Через неделю Пьер, простившись с новыми друзьями-масонами и оставив им большие суммы на милостыни, уехал в свои имения. Его новые братья дали ему письма в Киев и Одессу, к тамошним масонам, и обещали писать ему и руководить его в его новой деятельности.
VI
Дело Пьера с Долоховым было замято, и, несмотря на тогдашнюю строгость государя в отношении дуэлей, ни оба противника, ни их секунданты не пострадали. Но история дуэли, подтвержденная разрывом Пьера с своей женой, разгласилась в обществе. Пьер, на которого смотрели снисходительно, покровительственно, когда он был незаконным сыном, которого ласкали и прославляли, когда он был лучшим женихом Российской империи, после своей женитьбы, когда невестам и матерям нечего было ожидать от него, сильно потерял во мнении общества, тем более что он не умел и не желал заискивать общественного благоволения. Теперь его одного обвиняли в происшедшем, говорили, что он бестолковый ревнивец, подверженный таким же припадкам кровожадного бешенства, как и его отец. И когда после отъезда Пьера Элен вернулась в Петербург, она была не только радушно, но с оттенком почтительности, относившейся к ее несчастию, принята всеми своими знакомыми. Когда разговор заходил о ее муже, Элен принимала достойное выражение, которое она – хотя и не понимая его значения, – по свойственному ей такту, усвоила себе. Выражение это говорило, что она решилась, не жалуясь, переносить свое несчастие и что ее муж есть крест, посланный ей от Бога. Князь Василий откровеннее высказывал свое мнение. Он пожимал плечами, когда разговор заходил о Пьере, и, указывая на лоб, говорил:
– Un cerveau fêlé – je le disais toujours25.
– Я вперед сказала, – говорила Анна Павловна о Пьере, – я тогда же сейчас сказала, и прежде всех (она настаивала на своем первенстве), что это безумный молодой человек, испорченный развратными идеями века. Я тогда еще сказала это, когда все восхищались им и он только приехал из-за границы и, помните, у меня как-то вечером представлял из себя какого-то Марата. Чем же кончилось? Я тогда еще не желала этой свадьбы и предсказала все, что случится.
Анна Павловна по-прежнему давала у себя в свободные дни такие вечера, как и прежде, и такие, какие она одна имела дар устроивать, – вечера, на которых, во-первых, собиралась la crême de la véritable bonne société, la fine fleur de l’essence intellectuelle de la société de Pétersbourg26, как говорила сама Анна Павловна. Кроме этого утонченного выбора общества, вечера Анны Павловны отличались еще тем, что всякий раз на своем вечере Анна Павловна подавала своему обществу какое-нибудь новое, интересное лицо и что нигде, как на этих вечерах, не высказывался так очевидно и твердо градус политического термометра, на котором стояло настроение придворного легитимистского петербургского общества.
В конце 1806 года, когда получены были уже все печальные подробности об уничтожении Наполеоном прусской армии под Иеной и Ауерштетом и о сдаче большей части прусских крепостей, когда войска наши уж вступили в Пруссию и началась наша вторая война с Наполеоном, Анна Павловна собрала у себя вечер. La crême de la véritable bonne société27 состояла из обворожительной и несчастной, покинутой мужем, Элен, из Mortemart’a, обворожительного князя Ипполита, только что приехавшего из Вены, двух дипломатов, тетушки, одного молодого человека, пользовавшегося в гостиной наименованием просто d’un homme de beaucoup de mérite28, одной вновь пожалованной фрейлины с матерью и некоторых других менее заметных особ.
Лицо, которым, как новинкой, угащивала в этот вечер Анна Павловна своих гостей, был Борис Друбецкой, только что приехавший курьером из прусской армии и в прусской армии находившийся адъютантом у очень важного лица.
Градус политического термометра, указанный на этом вечере обществу, был следующий: сколько бы все европейские государи и полководцы ни старались потворствовать Бонапартию, для того чтобы сделать мне и вообще нам эти неприятности и огорчения, мнение наше насчет Бонапартия не может измениться. Мы не перестанем высказывать свой непритворный на этот счет образ мыслей и можем сказать только прусскому королю и другим: «Тем хуже для вас. Tu l’as voulu, George Dandin29, вот и все, что мы можем сказать». Вот что указывал политический термометр на вечере Анны Павловны. Когда Борис, который должен был быть поднесен гостям, вошел в гостиную, уже почти все общество было в сборе, и разговор, руководимый Анной Павловной, шел о наших дипломатических сношениях с Австрией и о надежде на союз с нею.
Борис в щегольском адъютантском мундире, возмужавший, свежий и румяный, свободно вошел в гостиную и был отведен, как следовало, для приветствия к тетушке и снова присоединен к общему кружку.
Анна Павловна дала поцеловать ему свою сухую руку, познакомила его с некоторыми незнакомыми ему лицами и каждого шепотом определила ему.
– Le Prince Hyppolite Kouraguine – charmant jeune homme. M-r Kroug chargé d’affaires de Kopenhague – un esprit profond, – и просто: М-r Shittoff un homme de beaucoup de mérite30, – про того, который носил это наименование.
Борис за это время своей службы благодаря заботам Анны Михайловны, собственным вкусам и свойствам своего сдержанного характера, успел поставить себя в самое выгодное положение по службе. Он находился адъютантом при весьма важном лице, имел весьма важное поручение в Пруссию и только что возвратился оттуда курьером. Он вполне усвоил себе ту понравившуюся ему в Ольмюце неписаную субординацию, по которой прапорщик мог стоять без сравнения выше генерала и по которой для успеха на службе были нужны не усилия, не труды, не храбрость, не постоянство, а нужно было только уменье обращаться с теми, которые вознаграждают за службу, – и он часто сам удивлялся своим быстрым успехам и тому, как другие могли не понимать этого. Вследствие этого открытия его весь образ жизни его, все отношения с прежними знакомыми, все его планы на будущее совершенно изменились. Он был не богат, но последние свои деньги он употреблял на то, чтобы быть одетым лучше других; он скорее лишил бы себя многих удовольствий, чем позволил бы себе ехать в дурном экипаже или показаться в старом мундире на улицах Петербурга. Сближался он и искал знакомств только с людьми, которые были выше его и потому могли быть ему полезны. Он любил Петербург и презирал Москву. Воспоминание о доме Ростовых и о его детской любви к Наташе было ему неприятно, и он с самого отъезда в армию ни разу не был у Ростовых. В гостиной Анны Павловны, в которой присутствовать он считал за важное повышение по службе, он теперь тотчас же понял свою роль и предоставил Анне Павловне воспользоваться тем интересом, который в нем заключался, внимательно наблюдая каждое лицо и оценивая выгоды и возможности сближения с каждым из них. Он сел на указанное ему место возле красивой Элен и вслушивался в общий разговор.
– «Vienne trouve les bases du traité proposé tellement hors d’atteinte, qu’on ne saurait y parvenir même par une continuité de succès les plus brillants, et elle mêt en doute les moyens qui pourraient nous les procurer». C’est la phrase authentique du cabinet de Vienne, – говорил датский chargé d’affaires31.
– C’est le doute qui est flatteur! – сказал с тонкой улыбкой l’homme à l’esprit profond32.
– Il faut distinguer entre le cabinet de Vienne et l’Empereur d’Autriche, – сказал Мortemart. – L’Empereur d’Autriche n’a jamais pu penser à une chose pareille, ce n’est que le cabinet qui le dit33.
– Eh, mon cher vicomte, – вмешалась Анна Павловна, – l’Urope (она почему то выговаривала l’Urope, как особенную тонкость французского языка, которую она могла себе позволить, говоря с французом), l’Urope ne sera jamais notre alliée sincère34.
Вслед за этим Анна Павловна навела разговор на мужество и твердость прусского короля с тем, чтобы ввести в дело Бориса.
Борис внимательно слушал того, кто говорил, ожидая своего череда, но вместе с тем успевал несколько раз оглядываться на свою соседку, красавицу Элен, которая с улыбкой несколько раз встретилась глазами с красивым молодым адъютантом.
Весьма естественно, говоря о положении Пруссии, Анна Павловна попросила Бориса рассказать свое путешествие в Глогау и положение, в котором он нашел прусское войско. Борис, не торопясь, чистым и правильным французским языком, рассказал весьма много интересных подробностей о войсках, о дворе, во все время своего рассказа старательно избегая заявления своего мнения насчет тех фактов, которые он передавал. На несколько времени Борис завладел общим вниманием, и Анна Павловна чувствовала, что ее угощение новинкой было принято с удовольствием всеми гостями. Более всех внимания к рассказу Бориса выказала Элен. Она несколько раз спрашивала его о некоторых подробностях его поездки и, казалось, весьма была заинтересована положением прусской армии. Как только он кончил, она с своей обычной улыбкой обратилась к нему.
– Il faut absolument que vous veniez me voir35, – сказала она ему таким тоном, как будто по некоторым соображениям, которые он не мог знать, это было совершенно необходимо. – Mardi entre les 8 et 9 heures. Vous me ferez grand plaisir36.
Борис обещал исполнить ее желание и хотел вступить с ней в разговор, когда Анна Павловна отозвала его под предлогом тетушки, которая желала его слышать.
– Вы ведь знаете ее мужа? – сказала Анна Павловна, закрыв глаза и грустным жестом указывая на Элен. – Ах, это такая несчастная и прелестная женщина! Не говорите при ней о нем, пожалуйста, не говорите. Ей слишком тяжело!
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.