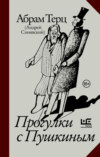Kitabı oku: «Время политики», sayfa 2
Хор жалобщиков
На вопрос «как дела» испокон веков существуют два универсальных ответа. Первый, к сожалению, не самый популярный: «Жаловаться грех». Второй, куда более распространенный: «Ой, не спрашивай!» После чего обычно следует череда самых разнообразных жалоб.
Лет десять тому назад возник интересный и довольно масштабный арт-проект, который назывался «Хор жалобщиков». Проект был международным, кочевавшим из страны в страну. Его придумали художники из Финляндии и Германии.
Хор жалобщиков – это действительно хор, поучаствовать в котором мог каждый. Достаточно было сформулировать и прислать ту или иную жалобу, дождаться, пока поэт и композитор придадут этой жалобе соответствующий вид, а потом, после нескольких репетиций, выступить в составе хора на площадках своего родного города.
Так, например, жители Бирмингема в форме хорового пения пожаловались на дороговизну пива и проблемы с городским транспортом. А жители Хельсинки выразили хоровое недовольство плохим климатом и отсутствием туалетной бумаги в общественных уборных.
Идея проекта проста и в то же время весьма терапевтична – трансформация жалоб и недовольств в веселое, объединяющее разных людей художественное событие.
Объектами самых частых жалоб были, разумеется, неразделенная любовь и недостаток денег.
Жалобы, принявшие художественную форму, не обязательно были хоровыми. Бывали они и индивидуальными.
В девяностые годы стали возникать одна за другой и даже поначалу привлекать некоторое внимание культурного сообщества различные литературные премии. Самой, кажется, заметной на некоторое время стала премия «Русский Букер».
Помню, что даже я, всегда довольно-таки скептично относившийся к институту премий, на первых порах как-то слегка заинтересовался ходом этих процессов. И даже, помнится, пытался читать книги, попавшие в длинные премиальные списки.
Читая или хотя бы пролистывая эти книги, я стал замечать некую странную на первый взгляд закономерность.
Не раз и не два главным героем романа оказывался кто-то, за физиономией и биографическими обстоятельствами которого довольно легко угадывался сам автор. Довольно часто, чтобы это свое сходство с автором усугубить, герой этот назначался литератором. Но кем бы он ни был, он – герой, разумеется, – непременно нуждался в деньгах. Причем нуждался довольно остро.
Все это, конечно, было не впрямую, не в лоб. Писатели всё же.
Герой в романе мог активно или пассивно действовать, как-то шевелиться, куда-то ходить и ездить, с кем-то разговаривать, о чем-то даже иногда думать, влюбляться, сходиться и расставаться, драться и мириться. Но непременным, даже в каком-то смысле каноническим фоном его романного функционирования с подозрительным постоянством служили то не выплаченная за полгода зарплата, то печально пустынный холодильник, то украденные на вокзале деньги, скопленные на пишущую машинку или на теплое пальто, то откуда-то появлялся сосед-алкоголик, клянчивший пятерку до второго, а у героя и у самого-то в кармане последний трояк, то – совсем уж запрещенный, хотя и сильный прием – нечем было заплатить за музыкалку, где учился сын-вундеркинд.
Я не стану утверждать, что вся романная продукция тех лет, претендовавшая на благосклонность премиальных жюри, была именно таковой. Но удивительным образом именно она попадалась мне на глаза. Первые два романа, герои которых страшно бедствовали, могли показаться случайным совпадением. Но мне как нарочно попалось таких сочинений штуки четыре подряд.
Тогда-то и закралась в мою голову коварная мысль: не пытаются ли авторы книг таким образом – бессознательно, разумеется – разжалобить, смягчить суровые сердца распорядителей заветных конвертов? Ну и не могла, конечно, не припомниться полузабытая картежная поговорка «карта слезу любит».
Жаловаться иногда полезно, иногда выгодно. Но лишь иногда. В большинстве же случаев жалоба – жанр вполне самоценный. Искусство ради искусства.
Самой, возможно, популярной книгой в СССР была ни в коем случае не Библия, и не «Евгений Онегин», и не «Война и мир», и не «Манифест коммунистической партии», и не «12 стульев», и даже не «Книга о вкусной и здоровой пище», хотя трудно было найти что-нибудь более всенародное.
Но нет, самой народной книгой была совсем другая, «Жалобная книга». Так она называлась в народе, а официально это была «Книга жалоб и предложений».
И называлась она так вовсе не потому, что собиралась кого-нибудь разжалобить, вовсе нет. Она призывала кого-нибудь наказать и приструнить, кому-то на что-то указать, поставить на вид, обратить чье-то внимание на нарушение и безобразие.
Повсюду – в продуктовом магазине и в рабочей столовой, в парикмахерской и приемном пункте стеклотары, в прачечной и сберкассе, в районной библиотеке и психдиспансере висела на стене на гвоздике неопределенного цвета растрепанная тетрадка с этой надписью на обложке.
Взвинченно-надрывное восклицание «Дайте жалобную книгу!» до сих пор звенит в моих ушах.
Человек всегда любил жаловаться. И всегда было на что. В основном люди жаловались друг другу. Шепотом – в супружеских постелях. Намеками и полунамеками – на коммунальных кухнях. Иногда заполошные тетки или нетрезвые (море по колено) мужчины – в длинных очередях. Существовала и, кажется, до сих пор существует особая порода людей, писавших письма в газеты.
Жалобщики не ограничивались, так сказать, общественной сферой. Они заглядывали в окна, в кастрюли, в постели. Жаловались на бытовое разложение, на двоеженство и прочую «аморалку».
Жалобы не только разрешались, но как бы даже и поощрялись. Сам жанр этой бесконечной и безразмерной «Жалобной книги» был близко родственен другому почтенному жанру, в становлении и творческом развитии которого участвовали самые широкие слои населения – а именно жанру доноса.
Да, жалобы поощрялись. Но, жалуясь на многочисленные и разнообразные недостатки, недочеты, грубость торговых работников и должностных лиц, как и на все прочие досадные явления, мешающие «нашему продвижению вперед», советский человек не вправе был даже на минутку забывать о том, что недостатки бывают только «отдельными», а трудности «временными». Никогда нельзя было забывать о том, что все уродства и нелепости, сопровождавшие нашу общую повседневность, существовали не «благодаря», а сугубо «вопреки».
«Благодаря» были достижения, а «отдельные недостатки» были «вопреки».
Разнообразные «отдельные недостатки» и «временные трудности» во все времена служили неиссякаемым источником вдохновения для различных сатириков-юмористов – писателей, артистов, кинорежиссеров, исполнителей куплетов, художников-карикатуристов. Что и понятно. По крайней мере, психологически. Дело, я думаю, в том, что такие объекты сатиры, как вредители, враги народа, империалисты и их приспешники, голодающие американские дети, африканские диктаторы и их заокеанские покровители, требовали особого душевного состояния, когда очевидное вранье, плотно переплетенное с постоянной готовностью к подлости, не могло существовать без острой необходимости самооправдания.
Это процесс, я думаю, не такой уж и легкий. А пьяницы, грубияны, подхалимы и криворукие неумехи – вот же они, рядом с нами. Живые, настоящие! Они существуют НА САМОМ ДЕЛЕ. По той же, видимо, причине артистам кино или театра куда лучше и убедительнее удавались отрицательные роли, чем положительные. Просто потому, что их герои воспринимались как знакомые, как живые. Таковыми они, впрочем, и были.
Бичуя бытовое хамство и жизненную неустроенность, сатирик мог иногда ощутить себя дерзким и непримиримым борцом со «свинцовыми мерзостями».
Граждане жаловались. Жаловались на всё подряд. Армия сатириков воплощала их бесформенные жалобы в художественную форму той или иной степени выразительности и изобразительной силы. Но никому никогда даже в голову не могло прийти публично пожаловаться на то, что иносказательно называлось «системой».
Никакая сатира, даже самая дерзновенная, не могла позволить себе даже близко к этой самой «системе» подойти.
И лишь в свободном, могучем и бессмертном жанре анекдота мог появиться такой, например, маленький шедевр. У человека в квартире прорвало канализационную трубу. Он вызывает сантехника. Сантехник приходит, долго возится с трубой, а потом говорит: «Тут я ничего сделать не смогу. Тут надо всю систему менять».
Дух и буква
Те, кто имеет терпение читать меня более или менее регулярно, наверное, заметили, что я довольно часто пытаюсь рассуждать о словах, о ключевых, заряженных темной энергией словах и понятиях нашей нынешней общественной и культурной жизни, о словах, чья инструментальная энергия обеспечивается вольностью и безграничностью их толкований.
Хочется иногда поговорить о чем-нибудь незыблемом и определенном, о чем-нибудь таком, что избавлено от изнурительной двусмысленности и блудливой склонности улечься под любую проезжую конъюнктуру.
О букве, например.
Магическое, сакральное или мистическое содержание букв мы оставим в стороне, хотя это, конечно, очень интересно. Хочется поговорить о буквах и обозначаемых ими звуках, из которых образуются слова нашей речи. Всего лишь.
Буква, в отличие от слова, слава богу, не способна оскорбить ничьих нежных чувств. За ней, слава богу, не таскается неопрятная и шумливая толпа перекрикивающих друг друга значений.
Известно, впрочем, что буквами иногда обозначаются слова или даже явления социальной или культурной жизни. Примеров, разумеется, полно.
В моем детстве, например, говорили: «Она та еще „б“». Я, еще не научившись читать, уже, разумеется, знал, что это такое. У меня, слава богу, был старший брат, главный в те годы профессор «моих университетов».
Названия некоторых букв дореволюционного алфавита сами стали словами. И очень многие из тех, кто этими словами-буквами пользуются напропалую, даже и не знают об этом. Такое слово, например, слово «хер».
В середине тридцатых годов буквой «м» стали обозначать не только мужскую уборную, но и Метрополитен имени Кагановича, или – в просторечии – «метро».
В дни открытия первой линии метро поэт Семен Кирсанов сочинил и опубликовал в какой-то из газет праздничное стихотворение, прославлявшее доблестный труд славных метростроевцев. Стихотворение было бы вполне типовым и мало отличавшимся от прочих стихотворных изделий, сочиненных по этому случаю, если бы не одна его «художественная особенность». В этом стихотворении по воле не окончательно еще преодолевшего к тому времени недуг зловредного формализма автора все слова начинались с буквы «м». Ну, «метро» же! Понятно же!
Дерзкий новаторский прием был замечен и оценен не столько широкими читательскими массами, сколько записными шутниками и остроумцами из числа литераторов и журналистов. Один из них, например, сочинил нечто вроде эпиграммы, имевшей хождение лишь в устной форме: «Молодой моэт Мемён Мирсанов – мольшой чудак».
Это случаи особые. А в обычной жизни буквы, в отличие от слов, значение которых – если мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы понять собеседника и чтобы он понял нас, – приходится всякий раз устанавливать заново, так же примерно, как всякий раз заново приходится настраивать струнный инструмент, если и наделены значениями, то эти значения сугубо интимны, а потому и не предполагают дискуссий.
Вопросы типа «какие буквы тебе нравятся, а какие – нет?» или – пуще того – «какая твоя самая любимая буква?» кажутся на первый взгляд ужасно нелепыми. Еще бы они спросили, что мне больше по душе – пол, стены или потолок.
Но это и так и не так. Потому что и правда ведь существуют потаенные и трудно объяснимые симпатии или антипатии, обусловленные частными биографическими обстоятельствами иногда и самого случайного свойства. Но нам ли с вами не знать, что случайного ничего не бывает, и все то, что застенчиво таится в закоулках и складках нашей памяти, может быть, самое главное и есть.
У каждого есть свои «заветные» буквы, хотя и не каждому свойственно об этом задумываться.
Могу твердо сказать, что для меня такой буквой является буква «р». А точнее – звук, обозначаемый этой буквой. Звук, конечно же. Что и понятно: я, как и все прочие дети, до определенного возраста пользовался звуками, еще не зная, что они обозначаются буквами. Буквы до поры до времени были исключительно ничего не означавшими графическими объектами.
И, кстати, буква «р» была далеко не первой, которую я осознал именно как букву. Я отлично помню, какие буквы я выучил первыми. Этих букв было, собственно, две. Я отлично помню, как соседка Галя Фомина протянула мне бублик и сказала: «Посмотри. Это буква „о“». Потом она разломила этот бублик пополам и сказала: «А это буква „с“». «А это, – сказала она, показав на вторую половинку, – тоже „с“».
Но это было позже. А в начале было не слово, не буква, а был звук.
Они были разные, но с «р» не сравнится ничто.
С «р» начинается фамилия моего отца, деда и прадеда. Ну и моя, само собой. С «р» начинается название страны, в которой я живу. А родился и вырос я в стране с иным названием, хотя и в одном и том же городе. В имени страны, где я родился, «р» был в самом конце. Но все равно он там был.
В названии моего родного города «р» не было. А вот в именах тех московских мест, где я родился и жил в детстве, он был. Арбат, роддом имени Грауэрмана, улица Герцена, Скарятинский переулок.
В каких-то главных словах моего раннего, почти еще утробного детства – в словах «мама», «папа», «Миша», «бабушка», «война», «Сталин», «ангина» – этого звука не было. А в других, тоже не самых пустяковых – «радио», «брат», «ура», «драка», «кровать», «бритвенныйприбор», «врагинарода», «папанаработе» – он был.
Я этого, разумеется, помнить не могу, но мама мне рассказывала, что в отличие от многих детей многих поколений, для кого именно этот звук считается чуть ли не самым трудным, а потому и позже других побежденным и усвоенным, я начал его произносить практически сразу.
Я произносил его не просто четко, а как-то особенно форсированно, с явным удовольствием, со смакованием, с переливами и перекатами, граничащими с рычанием.
Слово «дурак», благодаря старшему брату и его многочисленным приятелям, было одним из наиболее оперативных в моем небогатом словарном запасе. И вполне естественно, что в довольно замкнутом речевом контексте это слово какое-то время существовало для меня лишь в форме единственного числа мужского рода.
Когда мне было года три с чем-то, я залег в больницу со «скар-р-рлатиной». Однажды, рассказывала мама, в палату пришла медсестра, чтобы сделать мне укол пенициллина. Увидев в ее руке шприц, я заверещал на манер дурно воспитанного попугая: «Тетя вр-р-рач – дур-р-р-рак!»
Эта буква и этот звук в годы моего раннего детства, то есть в начале пятидесятых годов, играли особую и очень, прямо скажем, дурную, чтобы не сказать зловещую, роль. Потому что считалось, что некоторые особенности произношения этого звука прямо и непосредственно указывали на этническое происхождение говорившего.
Где-то я читал, что во время погромов начала двадцатого века черносотенцы останавливали на улице мальчишку, чья наружность казалась им подозрительной, и требовали, чтобы он произнес слово «кукуруза». От того или иного произношения этого невинного мирного слова могла зависеть человеческая судьба.
Ни буквы, ни звука «р» не было ни в моем имени, ни в именах моих родителей и моего брата. Всего лишь первая буква фамилии. Но и этого было достаточно, чтобы мой дворовый враг Витька Леонов, увидев меня, раскатисто орал: «Посмотгите! Губинштейн пгишел!»
Я – в отличие от многих сверстников, а также и некоторых взрослых – никогда не картавил.
Но концепт в нашу информационную эпоху – и нам ли, концептуалистам, этого не знать – во многих случаях существенно сильнее и означаемого, и означающего, и формы, и содержания. Он сильнее любого, самого очевидного факта. А рукотворный образ реальности сильнее и нагляднее самой реальности.
Я никогда не картавил. Зато картавил долговязый и вечно сопливый альбинос Женька из соседнего подъезда. Но этого никто не замечал. Потому что он был признанный силач и, главное, потому, что его фамилия была не Рубинштейн, а Никушкин.
От слова «буква» образовано слово «буквальный». То есть нечто, не допускающее вольных толкований и переносных значений.
Есть также устойчивое выражение «дух и буква закона».
Буква – это то, что твердо и неколебимо занимает свое законное место в алфавите. А вот трудно уловимый дух ее веет где хочет, время от времени чуть задевая нас своими легкими невидимыми крылами.
Метафизика чернил
Кляксы были повсюду. На указательном пальце правой руки. На серых форменных штанах. На парте. На тетрадных листках – за это снижались оценки.
Кляксами были густо покрыты столы в почтовых отделениях, в читальных залах, в кабинете врача и начальника ЖЭКа.
Какая же жизнь без клякс. Без клякс – никуда. Клякса – хоть и бесформенный, хоть и бесконечно досадный, но, безусловно, надежный и убедительный символ Великой Чернильной эпохи.
Она ушла, эта эпоха. Причем давно. Она дотянулась лишь до художников, рисующих тушью. Но тушь – хоть и близкая родственница чернил, но все же не чернила. Да и далеко не все – художники.
Эпоха ушла, но оставила след в виде роковых нестираемых клякс. Клякс нашей неугомонной памяти.
Эта память иногда во всей своей красе пробуждается в самых неожиданных обстоятельствах.
Однажды я получил удивительный подарок. Один мой приятель, примерно мой сверстник, на одном из европейских блошиных рынков обнаружил невероятную для наших дней вещь. Обнаружил, купил и подарил ее мне.
Это была круглая деревянная ручка со вставленным в нее перышком. Ручка, выкрашенная в красный цвет. Она имела совершенно новый вид – как будто только что со склада, как будто бы не прошли несколько эпох. Ручка из нашего школьного советского детства.
Я взял ее в руки. Навсегда, казалось бы, ушедшая в небытие мускульная память немедленно встрепенулась, а за ней проснулась и вся неизбывная школьная тоска. И перышки-«солдатики», коварно и мстительно царапавшие бумагу, и безуспешно подавляемая зевота в ожидании спасительного звонка, и все остальное, включая густой снотворный снег за школьным окном.
И чернильницы, конечно. Чернильницы-«непроливайки», которые еще как проливались, причем прямо на брюки.
И сами чернила!
Странно, что мне не приходило в голову раньше, что такая, казалось бы, чисто служебная субстанция, как чернила, – точнее, их цвет, – была наделена мощным семиотическим зарядом. Что они служили казавшимся незыблемым символом социального неравенства. Символом непоколебимости установленных раз и навсегда иерархий. Символом власти или подчиненности.
Учащийся писал фиолетовыми чернилами. Только фиолетовыми. Любые отклонения от этой фатальной фиолетовости самым решительным образом пресекались.
Учитель писал красными чернилами. Красные чернила – это власть. Причем власть, объединявшая в себе (к чему нам, в общем-то, не привыкать) все ее ветви.
Обладатель красных чернил – вершитель судеб, законодатель истины и, разумеется, прокурор и судья. Власть, абсолютная и непререкаемая, осуществлялась посредством красных чернил.
Впрочем, красный цвет власти был присущ не только чернилам и не только школьным учителям. Флаги, лозунги и транспаранты тоже были исключительно красными. Прилагательное «красный» присутствовало в названиях улиц, городов, заводов, колхозов, клубов и санаториев.
Одна из подружек моей юности на все майские празднества уезжала за город, причем, как она уверяла, совсем не из идейных соображений. Точнее – не только из них. Она уверяла, что переизбыток красного цвета в оформлении городского пространства вызывал у нее сильную воспаленность носоглотки и что в эти дни у нее ужасно чесались и слезились глаза. Мы называли это явление «майским конъюнктивитом».
Очевидная гипотеза о том, что это вполне могла быть обычная сезонная аллергия, почему-то даже не обсуждалась.
Впрочем, в школьные, и особенно в ранние школьные, годы репрессивная природа кровавых учительских чернил давалась нам в более непосредственных ощущениях, чем какие-то флаги и знамена, которые нам, детям, скорее нравились, как нравилось все то, что имело отношение к празднику, а соответственно, и к праздности.
Этот «красно-фиолетовый» миропорядок казался нам естественным, и нас не посещала до поры до времени идея чернильного бунта.
Впрочем, не совсем так. Яркий, хотя и не слишком успешный образец такого спонтанного бунта однажды имел место.
Мой дружок Володя Шухов, большой выдумщик и шутник, однажды, в классе примерно шестом, проделал такой как бы эксперимент, радикальной символической революционности которого сам он даже и не подозревал. Он просто решил пошутить. Вот он и пошутил. Пошутил он так.
Очередное домашнее сочинение он написал именно что красными чернилами, пузырек которых специально для этого дела он купил в писчебумажном магазине.
На следующий день он сдал это сочинение учительнице русского языка и литературы Ирине Павловне.
А на следующий день он получил это сочинение обратно с крупной нарядной двойкой, выполненной, соответственно, фиолетовыми чернилами и с короткой – теми же чернилами – надписью «Больше так не шути».
Больше он так не шутил. Но мне эта шутка запомнилась как неосознанное, но очень яркое проявление стихийного нонконформизма, как решительно и успешно навязанный учителю опыт карнавальной смены социальных ролей.
Цвет вообще и цвет чернил в частности – вещь очень важная и даже, можно сказать, сущностная, хотя и не всегда объяснимая.
Не так давно я наткнулся на большую связку своих записных книжек и блокнотов времен студенческой юности. Я стал их бегло просматривать. Но в процессе пролистывания поймал себя на том, что мое внимание фиксируется не столько на содержании записей, сколько на постоянно меняющемся цвете чернил.
Я очень хорошо помню свою тогдашнюю авторучку, подаренную мне на восемнадцатилетие и довольно долго прослужившую.
Наверняка были какие-то важные внутренние причины, по которым я заправлял эту ручку то черными, то синими, то зелеными чернилами. Какие-то неуловимые изменения в моем интеллектуальном или эстетическом состоянии они, конечно, отражали. Но какие именно – сказать трудно. А вот почему в этой моей ручке, а также и во всех последующих никогда не было ни красных, ни фиолетовых чернил, сказать легко.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.