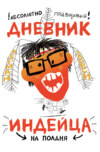Kitabı oku: «Лесков: Прозёванный гений», sayfa 2
Старинный город
Зимой город хорошел, стоял как обряжен.
Черную бездонную лужу у недостроенного собора, ветхие флигели усадьбы графа Каменского с подушками вместо стекол, груды досок у домов вечно строившихся мещан, канавы, разрытые вдоль дорог свиньями, – всё покрывал милосердный снег. Соборная лужа стекленела, кривые улочки, побелев, прямели. Снежным светом искрились сады; домишки, нахлобучив на тесовые крыши снеговые шапки и словно подбоченясь, глядели первостатейными купцами.
Тишина над городом вставала такая, что, когда в Девичьем звонили часы, в домах у Плаутина колодца разговор прерывался: требовалось переждать, как отзвонят. Даже лошади ступали по снегу беззвучно. Разве изредка всхрапнет какая да вскрикнет с долгой зимней докуки петух.
В любое время года жизнь города к середине дня замирала, всё погружалось в послеобеденный сон, но зимой правило это обращалось в закон непреложный, почти священный.
Даже медник Антон, городской антик и изобретатель, прекращал лазить каждую ночь на крышу, глядеть в плезирную трубку на зодии5 – слишком скользко. Сидел в своей каморке, шлифовал стекла.
Блаженный Фотий, с жуткими розовыми глазами, на время холодов поселялся Христа ради в баньке купцов Акуловых. И Голован-молочник не стучал по вторникам и четвергам в дверь.
Исчезали и запахи, в воздухе звенела одна сиреневая свежесть.
Пристань, хлебная да соленая, в летнее время тесная от грузчиков, подрядчиков и десятских, замирала вместе с Окой. Суда зимовали под снегом по правому и левому берегу. Рабочий люд, из тех, кто нанимался весной на барки, затягивал пояса потуже, считал копейки и позевывал во весь рот, уже и не ропща на зимнюю тяготу – ропщи не ропщи, у всех теперь два друга – мороз да вьюга. Живи летними запасами и отсыпайся вволю.
Только по утрам зимнее царство ненадолго оживало: вспрыгивал упругой дугой колокольный звон, из печных труб вылетал дым – особенно пахучий в Заокской части, самой бедной, ветошной. Дрова заокским были не по карману, вот и топили гречневой лузгой, а кто и навозом. От такой топки и морозный утренний сумрак теплел, делался духовитым.
В кромском трактире Николай заказал гречневую кашу. Как там в Киеве – варят ли, любят ли гречу? Хотел запастись ее вкусом и запахом впрок.
Вскоре хозяйский сынок, чернявый отрок с напомаженным вихром и удивленным взором, поставил перед ним целый горшок с разваристой и душистой гречкой, следом и огурчики из зимних запасов, и квашеную капусту. Он вдыхал, ел, вспоминал дальше.
Он любил и этот гречнево-навозный запах, и мороз. Мальчиком, едва вставала Ока, бежал с ребятами на берег, тащил на гору ледянку-плетушку, вымазанную коровьим навозом, снизу политую водой и замороженную. Великая драгоценность – ледянка! И метили ее, и прятали – всё равно случалось не уследить. Ему соорудил плетушку Антип, их дворовый, кучер и мастер на все руки. И всё-таки в одну зиму у него ледянку стащили, так и не нашел – что ж, съезжал на «заднем колесе», а потом Антип смастерил ему новую.
В праздники ходил с братьями глядеть, как под монастырем на льду бьются на кулаках мещане с семинаристами, стена на стену. Бивались на отчаянность. Правила были: бить в подвздох, по лицу – ни боже мой и не класть в рукавицы медяки. Только правила эти не всегда соблюдались. Вот и получалось: побьют парня до бесчувствия, стащат на руках домой – и отысповедовать не успеют, как уже преставился.
На Кромской площади спускали бойцовских гусей. Гусь отца протодьякона, когда дрался, гоготал так, что дети визжали, бабы крестились, жутко делалось даже мужикам и смешно своего страха. Только и протодьяконский перед гусем квартального Богданова тушевался. Богданов не чаял в нем души, нянчился, как с младенцем. Знакомую площадь Николай и увидел во сне, причем сверху – приснилось ему, будто над городом он летал.
Квартальный шагал по Кромской грузно, важно, за спиной плетеная клеть, в ней – сокровище, серый богатырь, доблестный воин. Хозяин не спускал с него глаз: лишь бы не навредили, не накормили моченым горохом, не подбросили под лапы гвоздик. И никогда ведь герой не подводил. Случалось, во время сражения входил в такой раж, что и у живого бойца крыло отрывал.
Первым прыгнул серый, глинистый загоготал раскатисто, жутко… тут Николай проснулся под тыканье Сударикова, пустобреха.
Гусиными и кулачными боями в Орле развлекались издавна; об этом Николаю рассказывали и дед, и отец. Но и во времена его детства город жил еще по-старинному.
«Табашников» презирали, бабушка по материнской линии Акилина Васильевна Алферьева плевалась и крестилась при одном только слове «табак». И торговала табаком единственная лавка в городе. Трактир тоже был долгие годы один, и, если кто из молодых парней туда заглядывал, такого клеймили «трахтиршыком». Что значило: тьфу, в женихи не годится! Полиции в городе не было, караулили сами жители: ходили вокруг и стучали колотушкой, опасаясь не воров, а пожаров.
Старинная сказка глядела, чуть насупясь, из каждого окошка в наличниках, подперев кулаком голову в чепчике, завязанном под подбородком бантиком.
Акилина Васильевна помнила, как в Орел прибыли пленные французы – голодные, рваные, замотанные в тряпье, «косматые, яко звери». Их жалели, подавали хлеб, кидали одежду, но принимать басурман на квартиру боялись – пленных опередил слух, что они заразные, оттого и мрут. На ночь французов загнали в нетопленые казармы, наутро половину повезли хоронить. Нашлось доброе сердце, повивальная бабка Василиса Петровна. Жила она на краю Новосельской заставы и на собственный вкус выбрала себе несколько самых жалких пленников. Поселила их в своем доме и ухаживала, как за родственниками. Гнать французов дальше не торопились, так что вскоре Василиса истратила на их содержание всё, что имела, и начала ходить по городу, собирать постояльцам на пропитание. Акилина Васильевна обязательно ей подавала.
Когда постой кончился и ее пленных «робят» вместе с другими повели из города, Василиса расколола всю посуду, которой они пользовались, на мелкие черепки и выкинула в поганую яму. Есть из плошек, из которых ели «нехристи», она не собиралась.
Кое-кто из доходяг остался в Орле – учить дворянских детей. Когда в 1825 году в город проездом из Таганрога в столицу был доставлен гроб с телом императора Александра, все рассеявшиеся по Орлу и ближайшим поместьям французы собрались на панихиду в собор. И не так уж мало их оказалось; отец шутил, набралось бы на полковой оркестр.
Собственный дом Лесковых стоял на Третьей Дворянской улице – в зеленом, живописном месте, третьим от реки Орлик, в самой чистой части города, где располагались казенные здания и жило «общество». Между прочим, на Второй Дворянской когда-то проживал крепкий старик с огромной, вросшей в широкие плечи головой, на которой белые волосы стояли дыбом. «Голова тигра на геркулесовом торсе», – сказал про него Пушкин, заглянув однажды к нему в гости. То был «неудобный русский человек», генерал Алексей Петрович Ермолов, легендарный покоритель Кавказа. Пушкин заехал к нему в 1829 году, до рождения Лескова, а вскоре генерал покинул Орел, хотя впоследствии еще приезжал сюда – навещал могилу отца. На том же кладбище, по собственному завещанию, был погребен и сам 85-летний генерал. Он не раз потом попадал в сочинения писателя Лескова – и в роман «Некуда» под именем генерала Стрепетова, и в статьи о «Войне и мире» Толстого, и в заметки «Пресыщение знатностью» и «Геральдический туман», а напоследок стал героем отдельного биографического очерка.
Неподалеку от генерала жили подполковник Дмитрий Николаевич Тютчев (дядя поэта), Василий Петрович Шеншин (двоюродный дед другого поэта, Фета), в подаренной супругой орловской усадьбе бывал Сергей Николаевич Тургенев (отец писателя). Как с тайной иронией выразился однажды Лесков, Орел «вспоил на своих мелких водах столько русских литераторов, сколько не поставил их на пользу родины никакой другой русский город»12. В свое время те же «мелкие воды» вспоят еще двух знаменитых русских писателей, Ивана Бунина и Леонида Андреева.
Отец нашего героя, Семен Дмитриевич Лесков, приобрел в Орле одноэтажный деревянный дом в августе 1832 года6, как только выхлопотал себе должность заседателя в Орловской палате гражданского суда и начал получать регулярное жалованье. Семейство его – супруга Мария Петровна и младенец Николай, – жившее до этого у родных жены в сельце Горохове, впервые обрело собственное гнездо.
Обвенчались Семен Дмитриевич и Мария Петровна за два года до этого, в 1830-м, на Красную горку, в приходском храме села Собакина, оно же Архангельское (село называли и так, и эдак – то по имени владельцев, то по названию расположенной здесь же церкви Архангела Михаила).
Жениху было уже 39 лет. Он успел и помыкаться, и послужить, и поездить по России. Невесте, которую он еще недавно обучал наукам как домашний учитель, исполнилось семнадцать.
Первенец Николай появился на свет 4 февраля 1831 года в Горохове. Мать его сама еще выглядела красивым милым ребенком. 11 февраля Николушку крестили в храме, где венчались его родители. Обряд совершил тот же священник Алексей Львов, старый знакомый семьи. Восприемником согласился стать Михаил Андреевич Страхов, крупный помещик и большой сумасброд, а выражаясь прямее – человек ужасный и, возможно, безумный. Михаил Андреевич, глядевший, как священник окунает младенца в воду, и морщившийся от жалкого писка, даже в дивном сне не мог увидеть, что память о его диких выходках и тиранстве не растворится навек в едких водах неумолимой Леты и бессмертие он получит из рук вот этого красного пискуна7, который, едва его вынули из купели, пустил лимонную струйку прямо на рясу батюшке.
Когда Лесковы перебрались в Орел на Третью Дворянскую, Марии Петровне, тогда худой, быстрой, было 19 лет. Подобрав юбки, гремя ключами, она буквально бегала по новым владениям, казавшимся ей огромными и необыкновенно богатыми. Возле дома стояли и погреб, и ледник, и амбар!13 Отперла погреб – сыро, холодно, темно; спустилась на две ступени, разглядела на полу пустую рассохшуюся бочку. Припахивало мышами и дохлятиной; что ж, и вычистит, и приберет, сам погреб удобный – глубокий, просторный.
За домом раскинулся сад с яблонями, обсыпными – урожайный выдался год! Сохла несобранная смородина, зеленел крыжовник, темнела вишня; сорвала, пожевала – кислая, мелкая. Сад был сильно запущен, а руки на что? Между садом и забором тянулся огород, с другой стороны находились конюшня и каретный сарай – оттуда уже неслись бормотание Антипа и храп доморощенных косматых лошаденок, впрочем, только что благополучно довезших их из Горохова. Теперь забыть бы это Горохово вовсе!
Там они жили бедными родственниками. Дня не проходило, чтобы удары палками, розгами, охотничьим арапником или кучерским кнутом по спинам крепостных не отсчитывались на конюшне сотнями. Сам барин Михаил Андреевич нередко присутствовал при истязаниях, но будто и не глядел – равнодушно чистил розовые ногти под мольбы о помиловании. Немало утопленников принял в свои тинистые воды пруд в большом парке имения; кто-то от отчаяния и безысходности резался, кто-то вешался на чердаке. Старосту Антона барин сам избил до смерти14.
В Горохове у Марии Петровны только и было занятий, что следить, как бы Николаша не заплакал не вовремя, не попортил по младенчеству хозяйского, а Семен Дмитриевич не ляпнул по прямоте характера дерзость, – нельзя было подвести отца, много лет прослужившего у Страхова управляющим. Не дай бог обидеть лишний раз и старшую сестру Наталью Петровну, и без того обиженную – юной девушкой ее отдали в жены чудовищу Страхову в оплату за благодеяния.
Михаил Андреевич пригласил Петра Сергеевича Алферьева в управляющие в трудную для семейства минуту, освободил от уже подступавших унижений бедности. Бежав из Москвы в 1812 году, Алферьевы потеряли свое состояние: все драгоценности, сбережения и серебро закопали у дома, но он сгорел в московском пожаре. Выгорела вся улица, осталось черное поле без единого деревца и иных примет, клад было не отыскать.
Горохово стало их спасением. И когда 46-летний Страхов попросил руки пятнадцатилетней красавицы Натальи, можно ли было ему отказать? Неудивительно, что переезд на безопасное от Горохова расстояние – добрых 47 верст, жизнь в собственном доме с тремя комнатами, детской и кабинетом наполняли Марию Петровну весельем и бодростью. С ролью хозяйки она освоилась быстро.
Вскоре на Третьей Дворянской воцарился спокойный, умный порядок: сухие деревья в саду были спилены и выкорчеваны, яблоки собраны и отчасти съедены, отчасти превращены в варенье, как и остатки смородины с вишней. Ненужную ветошь из кухни и амбара выгребли и сожгли во дворе. Погреб подсушили и вычистили.
Возле дома Мария Петровна разбила большую клумбу, на которой уже через год цвели красные и кремовые розы, нежно-розовые георгины, лимонный лилейник. По краю, не мешая их пышной красоте, высажена была желтенькая пижма, хорошо помогавшая от болей в животе и геморроя, а ее запах отпугивал вшей и клопов. Мария Петровна обильно посыпала высушенными цветками диваны, стулья, по шкафам подвешивала их в мешочках, сшитых собственными руками.
Жизнь семьи покатилась, наконец, по сухой, ровной дороге. Казалось, так теперь будет долго, всегда.
Семен Дмитриевич каждый день с утра уходил на службу, шел в присутствие пешком – благо близко: по Карачевской и Волховской, по мосту через Орлик. Из Гражданской судебной палаты он перевелся в Уголовную – заседателем «по выбору от дворянства»8. Местные дворяне, за глаза посмеиваясь над угловатыми манерами бывшего бурсака, ценили его за честность и дельность. Семен Дмитриевич и в самом деле стал вскоре одним из лучших в губернии следователей, проницательным, неподкупным. В сложных случаях именно его приглашали в уездные и заштатные города Орловской губернии.
Мария Петровна занималась хозяйством: сама работала в огороде, шила, штопала, покрикивала на дворника, кухарку, но особенно грозно на Аннушку – гувернантку и няньку, крепостную девку, ровесницу, за кипучий нрав прозванную Шибаенок. Аннушка, или Анна Стефановна Калядина (со временем Лесковы начали называть ее Анной Степановной), умерла на 99-м году жизни, успев поведать кое о чем из прошлых лет сыну Николая Семеновича Андрею, летописцу его жизни. Правда, выудить из бывшей крепостной, по гроб жизни преданной хозяевам, удалось немного. Но внутренний ужас, с каким она приступала к одеванию и причесыванию молодой барыни, Анна Степановна помнила и через 80 лет.
Николай стал первым ее воспитанником.
Усидеть дома Аннушке было трудно, и она вела мальчика за калитку, к Орлику. Там на выгоне паслись соседские коровы, у одной родился теленок. Наглядевшись, как он сосет мамку, как неловко и смешно ступает по траве, брели к оврагу с обрывистыми краями и Солдатской слободе, где с весны до осени учили рекрутов. Прокопченные, как картошка на костре, в пыльной форме, солдатики шагали и разворачивались, строились и расходились. Когда кто-то сбивался, офицер, коротенький, плотный, визгливо кричал на виноватого, бил его палкой. Глядя, как вскрикивает солдат, как закрывает голову от ударов, мальчик плакал. Аннушка уводила его скорее прочь.
По дороге в городской парк они садились на широкую скамью передохнуть, глядели на обмелевшую от плотины Оку. Внизу на воде плескались голышом ребятишки – визжали, брызгались, катались на старой створке ворот, ловили в завязанные мешком рубахи мелкую серебристую рыбешку. Николаю хотелось плескаться с ними! Нельзя: он – барич. «В городе Семена Дмитриевича все знают, – наставляла Аннушка, – а ты его сын. Другое дело на воле, в деревне: при мужиках можно и выкупаться, кому что за дело, никто слова не скажет».
Нагулявшись, возвращались к Орлику. На берегу ютились хибарки Пушкарской слободы, в небе, блестя крыльями, кружили голуби, вспыхивал крест на Васильевской колокольне. Николай молился прямо туда, в сияющее синью небо: сделай, исполни, так, чтобы мне поехать в деревню, чтобы купаться там в речке, ловить рыбок, плавать на плоте, как они.
Молитва его была услышана.
Панин хутор
В тот день Семен Дмитриевич вернулся домой молча, скинул на руки Аннушке шинель, заперся в кабинете. Выдвинул из-под стола видавший виды дорожный сундук, откинул крышку.
Вот они, старые семинарские тетради, так и лежат высокой стопкой. В семинарии учили не только риторике, философии и богословию, но и геодезии, медицине, сельскому хозяйству.
Первой Семен Дмитриевич вынул тетрадь в черном коленкоровом переплете, стер обшлагом пылищу, раскрыл в середине. На пожелтелой странице было выведено: Ради повышения плодородия почвы потребно удобрять ее обильно. Перелистнул: Для сохранения пчел от мокроты, зноя и холода закрывать улей по бокам соломой. Что ж, отчего бы и не завести пчел – мед полезен. Вспомнил, как зубрили стихи про пчел из Вергилия: Venturaeque hiemis memores aestate laborem…9 He вышибешь семинарскую науку! Если сосредоточиться, мог бы вспомнить и всю эту песнь, когда-то выученную назубок.
Следующей лежала голубенькая тетрадь – как раз по латыни, на которой и преподавали в семинарии большую часть наук. Прочел среди латинских фраз и русские строки:
Тучных овец стада пастухи весною пасут,
В мягкой траве лежат, услаждая свирелью слух.
Quintus Horatius Flaccus. Впервые за эти дни Семен Дмитриевич улыбнулся. Сам отроком переводил когда-то из Горация – лучшего римского поэта.
Медлить довольно, забудь все расчеты, дерзай!
Нет у них Меценатов. Зато есть разум, воля, руки – заживут в деревне не хуже Горация. Обоснуются в сельце поживописнее, в скромном бревенчатом доме. Станут подниматься по крику петуха, завтракать парным молоком и собственным хлебом. Пастух погонит поутру тучное стадо на заливные луга. Хозяин строго, но ласково будет наставлять мужиков, когда лучше сеять, как удобрять почву и получать обильные урожаи (читай черную тетрадь по сельскому хозяйству), а встанут потверже на ноги – займется и пчелами. Будут лечиться медом, печь медовые пироги, варить золотую хмельную медовуху к престольным праздникам. Семен Дмитриевич ясно ощутил в комнате сладкий и тяжеловатый аромат меда, различил гудение пчел, увидел, как по пестрому от желтых и сиреневых цветов лугу идет за стадом белоголовый пастушок, как молодые крепконогие бабы шагают с пением после работы в поле.
Толцыте, и отверзется вам. Surge et age. Scientia vinces10. Упрямо повторял он знакомые поговорки, точно частокол выставлял вокруг, пока не ощутил себя в надежной крепости.
Семен Дмитриевич ободрился, глянул в заиндевевшее окошко – на улице давно стемнело, в стекло царапал мелкий снег, – сложил тетради в сундук и пошел сообщать Маше о своем непреклонном решении: уйти из чиновников в отставку, сделаться помещиком, жить на доходы от собственного имения.
Маша ахнула. На какие доходы? От какого имения? Где оно? Ей мечталось, всё так и будет идти, как наладилось в последние годы: служба супруга в присутствии, его поездки по казенной надобности, завершавшиеся обычно триумфом и недурным вознаграждением, тихое, но неуклонное движение по служебной лестнице вверх, прибавление жалованья. В теплые летние вечера – самовар, ужины на веранде под пение соловьев и благоухание сада, беседа с милыми сердцу гостями. А публика среди приходивших к ним на Третью Дворянскую была пестрая: сослуживцы Семена Дмитриевича, отец Павел из собора, отец Евфимий из гимназии, ближние и дальние соседи – гости и купеческой, и мещанской конструкции, и дворяне. И вот всё рушилось. Почему? Она еще надеялась, что не решено, что муж только советуется с ней, – напрасно.
Семен Дмитриевич слов на ветер не бросал. Объявляя жене о решении уйти в помещики, он уже подал в отставку, не успев выслужить себе пенсии, ничего не сосчитав и не взвесив.
К тому времени семейство Лесковых выросло: в 1836 году появилась на свет Наташа, ставшая впоследствии монахиней Геннадией, никем, начиная с Марии Петровны, в семействе не любимая, в следующем – Алеша, напротив, материн любимец, будущий доктор, опора киевской части семьи. Двухлетний Петя, рожденный в 1834 году, умер в 1836-м; его похоронили на Троицком кладбище, описанном позже в «Тупейном художнике»15.
Много лет спустя Николай Семенович так объяснял внезапную отставку отца: «Он имел какое-то неприятное столкновение с губернатором Кочубеем (кажется, Аркадием Васильевичем), в угоду которому при следующих выборах остался без места как “человек крутой”. От отца требовали какой-то уступки губернатору, которую он будто бы мог оказать в виде вежливости, съездив к нему с визитом. Я помню, как несколько дворян приезжали его к этому склонить, но он додержал свою репутацию “крутого человека” и не поехал, а дворяне не нашли возможным его баллотировать»16. Это объяснение художника – психологически достоверное, но с фактическими ошибками.
В 1839 году губернаторский пост в Орле занимал уже не Кочубей, а Николай Васильевич Васильчиков. Незадолго до отставки Семена Дмитриевича он ходатайствовал о награждении того чином за выслугу лет, и коллежский асессор Лесков сделался надворным советником. Производство в чин состоялось в мае 1838 года, а в отставку Семен Дмитриевич вышел в январе 1839-го. Что за кошка пробежала между ним и губернатором в эти полгода, неясно. Понятно одно: что-то в происходившем противоречило представлениям «крутого человека» о справедливости; судя по демонстративности жеста – выход в отставку без объяснений! грохотание дверью! – то была размолвка именно с губернатором. Возможно, и в самом деле ничего, кроме визита вежливости, от Лескова-старшего не требовалось, и в самом этом визите не таилось ни малейшего унижения его достоинства. Не захотел.
Позднее в цикле «Мелочи архиерейской жизни», включающем множество автобиографических деталей, Лесков описал один эпизод из своей семейной истории. Глава Орловской и Севской епархии Никодим (Быстрицкий), по прозвищу «архилютый крокодил», вопреки закону регулярно отдавал в солдаты представителей духовного сословия. Среди них были и единственные сыновья у родителей, и обремененные семьей дьячки и пономари. Однажды сдал он в рекруты и сына Пелагеи Дмитриевны, вдовой попадьи и родной сестры Семена Дмитриевича.
Отец, рассказывает Лесков в «Мелочах архиерейской жизни», поехал к епископу Никодиму восстанавливать справедливость и «в собственном его архиерейском доме разделался с ним очень сурово»17. Спасти племянника от службы в армии Семену Дмитриевичу не удалось, но по этому случаю можно судить о его прямоте, смелости и вместе с тем безрассудстве – грубить духовному начальству было небезопасно. Мог ли губернатор откликнуться на эту историю, сделать чиновнику выговор? Вполне. И тем самым разгневать Семена Дмитриевича еще больше.
Официально из Уголовной палаты Семен Лесков выбыл 24 января 1839 года. Но уже в конце 1838-го, вероятно, предвидя отставку, он приобрел у генерала Александра Кривцова землю в Кромском уезде Орловской губернии – деревню Панино с прилагавшимися мельницей, сенными покосами и всеми угодьями, а также деревню Александровку и два сельца – Гостомлю и Кривцово, вместе с 49 ревизскими душами с семьями18.
Леса здесь росло немного, местность была степная, земля хлебородная. Ее хорошо орошали маленькие, чистые речки. Одна из них называлась Гостомка или Гостомля; отсюда и пошло уточнение к некоторым лесковским рассказам: «из гостомельских воспоминаний». Покупка деревень, вместе называвшихся Паниным хутором, обошлась Семену Дмитриевичу в 20 тысяч рублей ассигнациями, которые он обязался уплатить Кривцову в трехгодичный срок, надеясь на продажу урожаев. Из домов, в которых могли бы жить господа, в Панине был тогда только «курничок» – мазанка под соломенной крышей. Но той же зимой Лесковы приобрели еще одно сельцо – Гавриловское, вероятнее всего, с помощью родителей Марии Петровны, вспомнивших (хотя, скорее, принужденных к тому) об обещанных, но так и не отданных дочери пяти тысячах приданого. Тесть, Петр Сергеевич Алферьев, стал управляющим и в Гавриловском – здесь, в отличие от Панина, располагался уютный господский дом, куда Лесковы и переехали в начале 1839 года по санному пути. Семен Дмитриевич не желал оставаться в Орле и лишнего дня. В Гавриловском они провели еще две зимы, 1839/40 и 1840/41 года, пока не пришлось продать его за долги и обосноваться в Панине – окончательно к лету 1841-го19.
Дом на Третьей Дворянской улице покинули, но не продали; отдавать в чужие руки обжитое гнездо Марии Петровне было жаль. К тому же Лесковы пока не теряли надежды вернуться или хотя бы наезжать временами и сберечь жилье для детей – им всё равно предстояло учиться в Орле.
Надеждам этим не суждено было сбыться.
Сначала дом сдали в аренду за 60 рублей в год, но через два с половиной года, в марте 1842-го, всё-таки продали, чтобы в оговоренный срок выплатить остаток долга Кривцову, не пожелавшему ждать. Денег всё равно не хватило. Выплатить долг целиком Лесковым помог Луциан Ильич Константинов – новый родственник, второй муж Натальи Петровны. Михаил Андреевич Страхов умер, когда ей было 27 лет, четыре года спустя она снова вышла замуж, на этот раз счастливо.
Луциан Ильич, отставной гусар Елисаветградского полка, красавец, щеголь, после женитьбы сделался «садоводом, художником и мечтателем», как описывает его Лесков, а также совестным судьей и председателем Орловской уголовной палаты. Константинов принадлежал к тем немногим родственникам, кто заслужил от племянника-писателя ласковое слово. Лесков ценил «дядю» за благородство, прямоту и за то, что он, как сказано в «Несмертельном Головане», был дворянин аи bout des ongles11. Но взгляды Луциана Ильича были «племяннику» чужды: слишком консервативен, очень уж активно защищает власть. Впрочем, быть милым и добрым ему это совсем не мешало. Наталья Петровна счастливо прожила с ним 38 лет.
Для Семена Дмитриевича и Марии Петровны переезд в деревню стал источником разочарований и едва посильных трудов, для их старшего сына – счастливой вольницей. Его подхватил поток свежих впечатлений, он нырнул в новые экзотические знакомства, неведомые прежде занятия и разговоры. Никогда в жизни он столько не гулял. Аннушку от него давно отставили: подрастали младшие – трехлетняя Наталья, двухлетний Алексей. Николаю зимой исполнилось восемь – совсем взрослый! Но не настолько, чтобы привлекать его к серьезной работе, и он бродил, где хотел, говорил, с кем желал, часто не возвращался даже к обеду. Родителям было не до него – они трудились: мать занималась младшими детьми, правила огород, гоняла кухарку, сушила матрасы и подушки, выписала из города письменный стол, чтобы отцу было где разложить бумаги. Крестьяне прозвали барыню Лесчихой. Даже небольшое имение требовало немалых усилий. «Панок» уже не из книг и тетрадей постигал азы земледельческой науки, бился с мужиками, как мог.
Николай купался с ребятами в Гостомке, ловил пескариков, смастерил из тальника лук и пускал стрелы с шариком вара на конце. Он выучился ездить верхом и ходил в ночное, под тихий храп лошадей и клики ночных птиц слушал, наслушаться не мог рассказов у ночного костра. «Бежин луг» Тургенева он прочел много лет спустя и, как сам писал потом, «весь задрожал» от представленной там правды: с такими же деревенскими мальчишками он сам сидел летними росистыми ночами, варил в котелке «картошки», и говорили о том же.
О русалке, что сидит на дереве, спрятав в листве рыбий хвост, чешет волосы золотым гребнем и заманивает путников.
О жутком разбойнике Кудеяре, кинувшем в колодец красавицу Василису, которая так и плачет там до сих пор. О зарытых им кладах.
О колдунах. Мальчики знали их по именам.
Самый страшный, Гусак, еще недавно жил в Гавриловском, в крайней избе, ближней к лесу. Он умел исцелять людей и скот, а мог навести порчу. Посадили его раз за колдовство в тюрьму, нарисовал он лодочку на стене, плеснул на нее водой – разлилось прямо в камере озеро. Сел Гусак в лодку, только его и видели… Снова стал колдовать. Беглеца опять поймали, крепко всыпали и назначили в наказание дворником в один орловский дом без жильцов. Так он и живет там, метет двор, в котором нет ни листочка и ни единого человека, любит только осень да зиму, когда летит листва, когда сыплет снег.
Николаю казалось, что он знает, где тот двор, чудилось, что и дворника этого он видел, когда гулял с Аннушкой: косматый седой мужик с бородой по пояс – Гусак это, видно, и был.
Слушал, слушал ночные рассказы у костра, укрывшись продымленным овечьим тулупом, задремывал незаметно. Гусак прямо на глазах уходил в сырую землю. На поля, в васильках и лютиках, выезжал добрый молодец на коне – молодой Егорий светлохрабрый, по локоть в красном золоте, по колено в чистом серебре. Во лбу всадника розовое солнце, в тылу – месяц, по плечам – звезды перехожие.
Николай поворачивался спиной к костру. С небес опрокидывался ливень, разноцветного всадника размывало, краски текли каждая сама по себе, сливались в цветные озерца. Он тянул их через тут же подобранную соломинку.
Первым пригубил пурпурный – и горящий этот цвет сейчас же окатил жаром легкие, сердце, затек в живот, налил свежей силой; всех теперь можно было одолеть. Следующий – перламутровый – сделал его лучезарным; изумрудный – прозрачный, как роса на траве в утренних лучах, – наполнил весельем.
Вот что он будет делать, как вырастет, – рисовать красками. Всадника Егория в розовом рассвете, страшного Гусака с метлой, пропитанное дымком ночное в красноватых отблесках.
Днем Николай заходил к дедушке Илье, мельнику, и сказка складывалась дальше.
Под мельничным колесом жил водяной – мирный, прирученный, свой. Не то что леший – тот гулял по чаще, любил посвистать, дерзал даже приблизиться к самой мельнице и густевшему рядом ракитнику, чтобы вырезать себе новую дудку, а потом играть на ней в тени у запруд-сажалок, пугать рыбу. У родников и речек хоронились его подружки-русалки и одна дальняя родственница – кикимора.
Как-то раз брызнул грибной дождик, Николай забежал в пустой амбар, смотрит – в углу кто-то сидит, скромно потупившись, вроде женщина, в пыльном повойнике, с золотушными глазами, но лицо что-то очень уж странное… она! Кинулся прочь, побежал куда глаза глядят. В лесу его страх сейчас же заметили: филины затукали, леший засвистал в зеленую дудку, а чтобы попугать посильнее, схватил Кольку за ногу, прижал намертво к земле. Насилу вырвался, еле жив воротился домой.