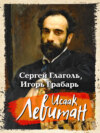Kitabı oku: «Отзвуки войны. Жизнь после Первой мировой», sayfa 2
О смирении
Приехали националисты, депутаты от нашего края, читали о Финляндии, Польше, евреях <…>. Интерес поднялся на минуту, когда заговорили о ритуальных убийствах, но и этот вопрос националисты постарались стушевать, оставляя для будущего двери открытыми: с одной стороны, конечно, «кровавые наветы» и прочее – дело нехорошее, но, с другой стороны, почему бы не быть таким убийствам: «существуют же у всех народов всевозможные изуверские секты».
Ничего яркого, волнующего скучную провинциальную жизнь, депутаты не сказали, прочли, раскланялись и уехали. Между тем в ожидании их лекции большое оживление было в «Капернауме». Куда любопытнее лекции было послушать рассуждения купцов-подрядчиков, ремесленников в трактире.
Среди посетителей «Капернаума» есть несколько евреев, типа тех «талмудистов», которых можно встретить в глубочайших недрах России, где-нибудь, например, на Мурмане или Печоре, и в отвлеченной беседе о природе человеческой, о боге с каким-нибудь агентом Зингера отдохнуть душой.
Русские в «Капернауме» разделяются на крайне-левых и крайне-правых; те и другие беседуют друг с другом благодаря особенности темы, а тема эта в большинстве случаев – Христос. Левые все хотят доказать, что бог существует в общественности неимущих людей, – левые социалисты, бедные люди. Правые, все – люди богатые, церковники, но совесть их часто взбаламучена несогласием бога, покровительствующего имущему, с Христовым учением.
По случаю приезда националистов, конечно, все эти люди собрались в «Капернауме» перед лекцией и отправили трактирного мальчика купить им билеты.

М. М. Пришвин. Михаил Пришвин родился 4 февраля 1873 года в имении Хрущево-Левшино Елецкого уезда Орловской губернии, которое в свое время было куплено его дедом, елецким купцом. В 1893 году Михаил Пришвин поступил на химико-агрономическое отделение Рижского политехникума. За связь с социал-демократической организацией Пришвин был арестован и приговорен к году тюремного заключения с последующей высылкой на родину. Поскольку ему было запрещено учиться в России, он в 1900 году, уступив настояниям матери, уехал учиться в Германию.
– Конечно, в основе всего – национальность, – сказал талмудист. – Моисей и пророки все до одного за народ стояли, за кровь, шли они с мечом и огнем, а не то чтобы как-нибудь тихо и смирно. Только вот один Христос – исключение, но ведь и не живут, как учил Христос, церковь устроила для жизни дело Христово, и, стало быть, в основе опять-таки – национальность.
– Пророки, известное дело, были суровые люди, – подхватил и по-своему стал толковать стекольщик Сергей Иванович, левый и неимущий человек. – Вот, например, пророк Елисей. Дети кричат ему: «Лысенький, лысенький», – а он и напустил на них медведицу!
– Не горюй, Сергей Иванович, – сказал другой левый и передовой. – Не горюй, этого не было!
– Как не было! Давайте Библию, сейчас покажу!
Буфетчик достает из-за прилавка Библию и почтительно преподносит ее Сергею Ивановичу.
– Вот медведица, да еще и не одна, а две!
– Ну, что ж, все равно этого не было.
В таком роде и начался разговор «о национальности» и о том, что националистские депутаты, подобно древним пророкам, идут с огнем и мечом, а не с христианским смирением; а если со смирением ничего не поделаешь, то, стало быть, где же Христос?
Спор, наверно, разбежался бы в конце концов ручейками и сошел бы на нет, если бы один молодой человек, очень левый, проникнутый учением Толстого, не сказал бы:
– А все-таки русский народ смиренный.
– Русский народ смиренный? – с насмешкой переспросил деловой человек.
– Конечно, смиренный. Вот, например, какой расчет ему, нищему, сидеть у земли? Ясно, что ему выгоднее бросить и уйти от нее, а вот он все сидит и кормит нас с вами.
Это был lapsus linguae [ошибка – лат.] со стороны толстовца: нет ничего опаснее иллюстрировать идею христианского смирения на примере смирения русских мужиков.
– Провокатор! – крикнул до глубины души оскорбленный Сергей Иванович.
Толстовец вовсе не провокатор в жизни, но тут, в трактире, среди большинства крайне-правых, слова его, конечно, сейчас же были использованы: церковники по-своему заговорили о «смирении».
– Черносотенцы, погромщики! – закричали левые на правых.
– А вы – подкидыши! – заревели смиренные. – У вас ни отцов, ни матерей нету.
Потом начался шум невообразимый: кто-то кого-то обвинял в разгроме женской гимназии, кто-то настойчиво доказывал незаконнорожденность Сергея Ивановича, и тот обещался «смазать»: «Молчи, – смажу! Замолчи, – смажу!»
С изумлением следил я за спором, стараясь понять, как слово «смирение» и даже «христианское смирение» могло вызвать подобные страсти. Мне припомнился спор в Петербурге в одной из фракций Религиозно-философского общества. Помню, читался доклад о «совлечении и нисхождении». Мысль докладчика состояла в том, что русский народ, воспитанный православной церковью, стремится не к земной жизни, материальной, а к духовной, небесной, достигая этого упрощением своей жизни («нисхождением и совлечением»).
Развивая эту мысль, докладчик приходил к тому заключению, что русский народ, воспитанный православной церковью, выработал в себе пассивное отношение к общественности, гражданственности и что в конце концов придут некие и поработят этот пассивный народ. Кто-то в кружке понял «совлечение и нисхождение» по-своему и выразил своими словами как «смирение и покорность». Ужасно возмутился этим искажением докладчик, он говорил о христианском смирении, а его поняли совсем иначе: смирение и покорность, как известно, были основами крепостного строя. Помнится, и тогда поднялся, как и теперь в трактире, беспорядочный спор с «личностями», но само собой, конечно, в более благопристойных формах, чем в «Капернауме».
Кто же виноват в таком смешении чудовищно противоположных понятий, как смирение христианское и смирение обыкновенное, смирение как средство приобщения к жизни небесной и другое смирение, результатом которого является усиленное, напряженное желание жизни земной? И как быть теперь с этим опасным словом в общежитии? Слово необходимое, а скажешь как-нибудь неловко в «Капернауме», подобно толстовцу, и вдруг еще кто-нибудь «смажет».
Бог знает чем окончился бы спор смиренных и подкидышей в «Капернауме», если бы не возвратился мальчик с билетами на лекцию националистов; все стали получать свои билеты и успокоились.
– А фамилия-то иностранная! – увидав на афише имя одного депутата, ядовито сказал подкидыш смиренным.
– Ничего, – ответили ему, – инославным виднее наши дела.
Не от мира сего
Я иду вдоль оврага по тропинке, пробитой исключительно людьми, имеющими дело с банком. По той же тропинке впереди меня идет девочка с большим мешком на плече; тяжесть не по ребенку: она то пойдет, то сядет. В мешке у девицы – бутылки с водкой, и тащит она их из «винополии» в шинок. Завтра – банковский день, съедется много народу, и водка необходима. округ кредитного товарищества кишат шинки.
Так сочетается в русских условиях жизни кооперация с винной монополией. Потребительское общество возникло здесь давно, еще до «забастовки». Один либеральный барин, большой земец, устроил общество при содействии «третьего элемента». К наблюдению были привлечены учителя, учительницы, помещики с женами, служащие в экономии. Но как ни хлопотали все, плут-продавец перехитрил, проворовался, и лавка закрылась до последнего времени.
Кредитное товарищество имело подобную же судьбу: не только ссуды распределялись при помощи водки, но даже без бутылки вина, бывало, и свои-то собственные деньги назад ни за что не получишь; и так мало-помалу и товарищество запуталось и сошло на нет. Теперь я иду в село, потому что услыхал по своем приезде новости: кредитное товарищество будто бы процветает, а потребительское общество возрождается; и самое главное, самое для меня удивительное – что там и тут заведующими делами избраны баптисты. Быть может, в местах, где много сектантов и где к ним привыкли, и не удивительно, что население оценило их нравственную стойкость, но здесь, у нас, это поразительно.
Наши сектанты – не какие-нибудь чужие, пришлые люди, что-то вроде «немцев», а здешние, всем известные Никита и Егор. Они изменились у всех на глазах. Никита был где-то на заработках и пришел домой баптистом. Егор, глядя на него, тоже, как говорят, «стал книжки читать и водку пить бросил». Чего-чего не пришлось испытать на первых порах сектантам: становой опечатал и увез у них Библию; священник придирался ко всему, чтобы их изгнать; население издевалось, чуждалось. И еще бы! «Эти люди угодников отменили, отказались от всего родительского». И вот теперь, спустя три года, я слышу поразительную новость: этих самых людей село выбрало на завидные и почетные должности и будто бы в связи с этим процветает кредитное товарищество и возрождается потребительское общество.
Кредитное товарищество – внутри села, в красной кирпичной избе. В маленьком человечке, склоненном над книгой, покрытой цифрами, я с трудом узнаю Никиту. Я привык его видеть или в доме в семье, где он по воскресеньям читает с домашними и объясняет им Библию, или же на поле всегда усердно работающим. Теперь он приспособлен к чуждому его натуре делу. Тут же стоят его серые, обыкновенные односельчане и глядят с раскрытыми ртами на пишущего. А ведь три-четыре года тому назад эти же мужики собирались для обсуждения вопроса об изгнании этих людей и чуть-чуть не изгнали; и было тогда так вообще, что приходило в голову: точно ли русский человек относится, как принято думать, терпимо к сектантам? Вот этот-то вопрос я и ставлю на обсуждение тут же, прерывая на несколько минут занятия.
– Вот с божьей помощью и выбрали, – говорит Никита.
– Раньше мы их боялись, – говорят мужики, – а потом привыкли, и они к нам прирусели, водки не пьют, не безобразничают, так и выбрали.
И все объяснение. Так бывало, когда приедешь на лето в чужое село, то все долго косятся, пока не привыкнут, а обойдется, – какое кому дело до убеждений, до верований приезжего. И, думается, что так, предоставленный самому себе, обошелся бы и всякий народ и везде. Тяжелый будничный труд – главное в деревне, а верования, убеждения – вопросы праздничные, имеющие значение для исключительных людей.
С этим согласны все в этой избе, где я своим приходом вдруг прервал обычное занятие.
– А костры инквизиции, религиозные войны? – спрашиваю я Никиту.
– Так то – времена, – отвечает он. – Их было семь времен. И было по времени семь церквей. Теперь же все мертвое. Но я закрою глаза и выйду.
– Куда выйдешь?
– Выйду к духу, верну свои утраченные права. А на все преходящее закрою глаза.
Никита сидит над цифрами развернутой счетоводной книги и рассуждает о вечном; серые мужики, которые пришли сюда по своим маленьким, «переходящим» делам, ничего не понимают, но слушают сочувственно.
– Трудное ваше дело, Никита Евдокимыч, – говорит один.
– Как поймешь, так нетрудно, – отвечает сектант, – то – белое, а то – черное.
– Как понять-то?
– Сразу: вот белое, а вот черное.
– Я пойму, а как же бабы-то, другая такая злодейка… Никита терпеливо объясняет:
– Не в бабе тут дело; сам поверишь, – баба поверит; тут сразу нужно, чтобы душа встрепенулась и пробудилась; закрой глаза на все остальное и увидишь; а это все здешнее – преходящее, на этом нам основываться нельзя.
Когда я возвращался домой по той же тропинке, где встретил девочку с водкой, возле глубокого оврага, разделяющего все село на две части, то совсем почему-то не испытывал чувства умиления перед терпимостью русского народа к людям других убеждений. Я чувствовал только досаду, что между людьми земли не нашлось ни одного честного человека и пришлось сделать заем у неба, выбрать для простого житейского дела человека не от мира сего.
Голгофское христианство
С одним моим знакомым случился «отрадный факт»: был приговорен к смертной казни и помилован. Он участвовал в каком-то военном бунте, начатом из-за дурной пищи. «На самом деле, – рассказывает он теперь, – «червей в мясе» не было, а восстали так, вообще за правду». Религиозным он был всегда, но ожидание смертного приговора его поколебало в вере: настолько он не сомневался в правоте восставших. Он колебался в тюрьме… Помилованный, он поставил себе задачу: найти оправдание перед богом своему революционному гневу.
Он сделался баптистом из-за того, что в этой религии «есть хоть немножко протеста». Но баптизм его не удовлетворял, и напрасно пресвитер рассказывал ему об апостолах, которым всем было дано одинаково, но которые не все одинаково выполнили свою задачу. Он возражал на это тем, что каждый из апостолов все-таки сознавал всю полноту дела Христова. А баптизм он считал делом частично хорошим, удобным для семейной жизни и воспитания детей. В дальнейших своих исканиях он попал наконец в интеллигентские кружки.
Я помню, – он делал доклад в одном из таких кружков, – старался убедить нас, что царство божие должно быть на земле.
Большинство возникающих на наших глазах религиозных общин и всяких религиозных исканий в народе и в интеллигенции объединяет всеобщая тяга к земле и бунт против неба, забывшего «прокаженную» и поруганную землю. Лучшая жизнь у людей, лучшее будущее здесь, это – земля. Как на яркий пример такой народной религии, устремленной к земле, из вновь возникших сект я укажу на «Новый Израиль», а из культурных слоев вытекает «Голгофское христианство», идейным выразителем которого считается епископ Михаил.
На нашего докладчика о царстве божием на земле напали. Возможно ли, – говорили, – на такой прокаженной земле царство божие?
И что такое – эта земля, о которой все говорят, к которой все стремятся теперь, но все по-разному?
Искатель бога был смущен, больше не выступал с докладом и долго оставался в. тени. Я его встречал потом в народном университете, на лекциях по истории религий, и, наконец, совсем утерял из виду.
И вот теперь, направляясь в Белоостров, к епископу Михаилу, чтобы узнать от него о голгофском христианстве, я снова увидал на вокзале моего знакомого богоискателя.
Нашел ли он свою землю, нашел ли оправдание в боге своему бунту? Да. Он теперь спокоен. Он все нашел в христианстве Голгофы.
Мы едем вместе. И вот это небольшое путешествие в Финляндию, к «запрещенному» епископу. Незаплеванный вокзал. Опрятные вагоны. Дельные и вежливые проводники. И все это – после русских станций и полустанков, где я только что проводил по шести, по семи часов в ожидании поезда.
– Как просто то, что нужно делать в России, – сказал я своему спутнику.
И он так хорошо меня понял, улыбнулся, будто отдыхая от той сложности, куда завели его искания правды.
Но вот на границе Финляндии мы проходим мимо часового. Этот солдат на обратном пути будет шарить в наших карманах: не везем ли мы револьверы?
– Как трудно то простое, что нужно делать в России, – внесли мы поправку к прежним словам. Мы шли по глубокому снегу, по пустой улице, между занесенными дачами. И когда я представил себе, что где-нибудь тут, между этими покинутыми деревянными домиками, в холодной комнате, живет бывший профессор канонического права и теперь старообрядческий епископ, то все больше и больше приходили мне на память мои посещения отшельников в Ветлужских лесах. И эти массы засыпанных снегом дач вблизи огромного города оставляли по-своему не менее жуткое впечатление, чем заросшие мохом и заболоченные леса.
Ставя свои калоши в чьи-то следы, мы обошли одну дачу до черного хода. Прошли одну пустую комнату, холодную кухню; в третьей, в старообрядческом кафтане, у стола, покрытого бумагами, сидел епископ Михаил.
Он весь в своих думах и вздрагивает от чужой мысли, как от физического прикосновения. Монах двадцатого столетия. Один из немногих убежденных людей в России.
Епископ сам затопил печку, сам согрел самовар и начал свою беседу с нами.
Что же такое голгофское христианство и чем оно отличается от баптизма, толстовства, учения духоборов и, наконец, от христианства господствующей церкви?
Все эти исповедания, по мнению епископа Михаила, держатся на одной великой ошибке: они исповедуют, что Христос принес в жертву за мир кровь свою и с этой поры совершено искупление мира. Люди спасены. Им открыты двери рая, если они только впишутся в списки искупленных. Стоит только поменьше грешить и побольше каяться в благодарность Искупителю. Так верят все: и православные, и протестанты, и баптисты, и толстовцы. А Христос требует, чтобы каждый был, как он. Как он, принял Голгофу, взошел на нее. Почувствовал на своей совести зло мира, как свое дело, свое преступление, свой позор и принял на себя долг сорвать с жизни ее проказу. Христово христианство – постоянная Голгофа. Великое распятие каждого. Принятие на себя, в свою совесть всего зла, в котором лежит мир, ответственность за все, что жизнь разлагает, пятнает проказой. Искупление не совершено до конца. Мир еще не спасен. На Голгофе принесена только первая великая жертва за мир, величайшая жертва, как образец и призыв, как проповедь и великое действие слияния воли Христовой с волей человеческой. Церковное христианство думает, что Христос ушел от земли, чтобы строить на небе чертоги для праведных, что земля – только темная, грязная дорога на небо, которую надо скорее пройти, чтобы прийти туда. Нет! Христос – бог живых, на земле хочет создать царство свое, – для человечества, соединенного с ним. Для земли он умер, чтобы ее спасти, ее обновить, с нее хотел он снять древнее проклятие.
Эта основная мысль о земном Христе приводит епископа Михаила к целому ряду выводов, к которым мы вернемся в другой раз.
– Как такие «еретические» взгляды терпят старообрядцы? – спросил я епископа Михаила.
И получил от него совершенно новое и не ожиданное мной объяснение.
– Старообрядцы, – говорит епископ Михаил, – нетерпимы только в обрядах, которые в них входят, как и все природное, от отцов, бессознательно. Что же касается общих взглядов, то они очень терпимы…
Пробираемся домой между пустыми дачами. Во тьме огонек отшельника – все тот же узкий и тесный путь и все к тем же и еще большим страданиям…
«А если я не дан тебе? – вспоминается из Гёте. – Если отец хочет оставить меня у себя?»
Если я и так довольно страдал не по своей вине, неизвестно за что? Если даже заповедь «в поте лица своего обрабатывай землю» я не могу выполнить, потому что земля уже до моего изгнания занята, истощена и мои здоровые руки делают не свое, чужое дело?
И как поверить, что этот узкий, тесный путь новых страданий непременно приведет меня к светлой земле?