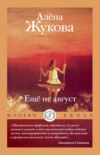Kitabı oku: «Ковчег Иоффа»
© Н. Шунина, текст, 2023
© А. Онасис, иллюстрация, 2023
© А. Кудрявцев, дизайн обложки, 2020
© ООО «Флобериум», 2023
© RUGRAM, 2023
* * *
У нее нет органов пищеварения.
Она питается огнем, в котором обновляется ее чешуя.
Средневековое естествознание. Salamandra
«Нью Эйдж» выше религии и выше идеологии.
Часть I
Глава 1
Я помню голоса гостей. Яркий свет. Разные по звучанию шаги. Звон посуды. Почему-то я бегу в темную гостиную и рядом с креслом застываю. Передо мной переливается, как голограмма, петух. Я ору. Включается свет. Петуха нет. И я никому не говорю, что он был. Так в возрасте трех с небольшим лет у меня появились первая тайна и червоточина.
С вопросов, что это был за петух, к какому классу созданий он принадлежал и как попал, такой грозный и напыщенный, в нашу гостиную, – я отсчитываю свое профессиональное становление.
Однако нельзя сказать, что мое детство прошло под созвездием петуха. Напротив, это как раз метадетство, какая-то параллельная воронка, которая кружилась где-то в полуметре от моего виска, изредка сбивала с толку, подспудно рассеивала внимание.
И я четко помню момент утечки из этой воронки части образа. Ощущение, что я своровал частицу своего будущего. Помню, из принтера вместо текста полезли каракули, и я никак не мог остановить печать. Принтер пыхтел, вонял краской, выбрасывал листы, как саламандра – язык. А я застыл перед бумагой, испещренной знаками, которые, конечно, были не чем иным, как буквенным кодом.
Они обозначали не язык. Не стиль. А просто неизвестные буквы. Из них складывался я (вопрос, который меня тревожит и по сей день: насколько?). Мне надо было крикнуть: «Здаров, литераморф, здаров!» Но это смутное узнавание прошло мимо, словно накрыло меня густым облаком.
В возрасте восьми лет мне поставили диагноз эписиндром и повезли в Москву, где погрузили в просторную белую трубу томографа. Процедура длилась недолго. Но из-за чудодейственной триады – насыщенности переживаний, минимализма и замкнутости пространства – в уме трепещет лжевоспоминание: я провалялся там денек-другой. Что я засвидетельствовал, будучи обитателем белой трубы?
Я еще раз подтвердил себе, что в горизонтальном положении человек взлетает. Человек летуч. Он даже более летуч, чем запахи. И я летал без умысла и цели, пока вдруг не вспомнил одну странную сценку, случившуюся накануне отъезда. «У Ивана эписиндром!» – прошептала мать, и ее руки с розовыми следами от косметики поползли к лицу. «И что?! – рявкнул отец. – И что?! – агрессивно повторил он, и в его глазах замерцало нечто непостижимое и огромное, то, чему я не смог тогда дать определения. – И пусть! Может, он станет писателем…»
Как знатоки уже поняли, отец готов был принять даже патологию ребенка, лишь бы тот воплотил то, что не удалось ему, несмотря на буйный и творческий темперамент (с первой же минуты знакомства на отца справедливо навешивали ярлык «творческая личность» со всеми прекрасными и фанфаронскими аспектами последней). Однако, кроме себя и цирка вокруг, он ничего не творил. Ничего вещественного. Хотя сейчас его бы признали мастером перфоманса. И, может, я был бы спасен.
Признаться, мало кто замечал на его эпическом фоне меня – отпочковавшуюся тень, погруженную в саму себя и молчаливо, практически с машинной точностью производящую некий творческий продукт. Как горько, господа, что все мы несвободны! А ведь я мнил… Мнил!
Я ощущал себя реполовом, пьющим росу с листвы девственных кустов (тут наивный лиризм и эротизм должны подкрепить давность и глубину укоренения этих сладчайших иллюзий). А оказалось, что я не лучше заводного вагончика, катящегося по рельсам из точки «Е» в точку «Ё». А мое предназначение (это не оценочное высказывание, и я настаиваю на его нейтральности) – железные тиски бессознательного моего родителя.
В том-то и коварство, что ни ребенок, ни отец ничего не понимают. Высшая степень рабства – быть рабом, полагая себя свободным. Более того, почти беспредельно. О, святой беспредел! Сколько сладости в этом слове!
Оказалось, и с этим понятием в моей жизни был глюк. То, что я воспринимал беспредельным, увы, было лишь более или менее просторной клеткой. Мир оставался подлунным. Реальность продолжала проституировать, не имея единой сути. Текст состоял из местоимений. И даже эти местоимения – вместо имени – были далеки от подлинности.
Все это мне стало очевидно потом. В юности же я пребывал в блаженном невежестве и вершил свои пубертатные делишки. Кстати, пришлась эта зеленая пора на нулевые, когда уже было модно выбрасывать мусор в урну, пользоваться экологическими пакетами и электровелосипедами, жевать пророщенные злаки и бережно относиться к стенам, выплескивая агрессию в Сетке, которая и формировалась как желанная и компенсаторная электронная клоака. Наверное, мы были детьми индиго.
По крайней мере, я не помню, чтобы в моем окружении кто-то что-то жевал, колол, капал или нюхал, не преследуя квазидуховную цель. Не помню и матерных небоскребов, которые тайно героизировались и романтизировались со времен СССР, два процента населения которого прошло через зону. Обсценная лексика открыто культивировалась во время приватизации и появления новой русской «элиты», не сильно отличавшейся от мотавших срок, – эх, олдскульные матерщинники, даром ауру свою дырявили. Хуй – нынче артефакт. Пизда – феномен. И обращения требуют соответственного.
Но сердцу юному нужно насилие. Иначе будет неочевидно, чем оно, это сердце, отличается от сердца животного. Наше же насилие было а-химсой, самым ненасильственным насилием из возможных. Мы потихоньку занимались трансом, НЛП, регрессивными техниками, связанными с воспоминаниями своих прошлых жизней, энергопостами, наращиванием невидимых тел и долбежкой в муладхару понравившейся прекрасной деве. Разумеется, камасутрой на практике. И вели священные электронные войны.
И что бы ни говорили критиканы про поколение с опущенной головой, мы куда разумнее в пользовании Сетью, чем может показаться. Например, давно табуировано пользование смарт-техникой на свидании. Да и закат обожжет нутро детей индиго куда глубже, нежели нутро того, кто не просмотрел миллион раз видео с гротескным и сверхкрасочным электронным дубликатом заката, от которого несет-таки серверной затхлостью.
И чем больше кругом миражей, чем выше вздымаются интерактивные фантасмагории, тем острее становится восприимчивость к истине, тем выше ценится то неуловимое и неустойчивое, что зовется Жизнью.
На этом я к ней и перейду.
Подобно открытым приложениям, активно сосущим энергию, в моей жизни были четыре сферы, находящиеся во взаимодействии и, по-видимому, составляющие квадрат, в который я был вписан, как мандала.
Итак, литература. Нет, это очень долго. Начну с другого бока.
В глухом лесу, недалеко от бывшего капища, я повстречал Веру. Нам было по двадцать. И со мной произошло то, что в примитивных обществах (находящихся ближе к иррациональной правде жизни) выражается в самых невозможных и сочных сочетаниях слов. Например, почувствовавший бешеное либидо мужчина скажет: «я сегодня – красный попугай», «поднявшийся из глубин носорог», «ревущий тигр»… Эти слова были применимы и ко мне. И честнее это животно-лирическое клокотание, которое меня охватило при виде Веры, не выразить.
Хардкор в моей душе заиграл вместе с Бахом, пока Вера, спрятав глаза за полями соломенной шляпы, вроде тех, в которых рисовали гребцов-лодочников импрессионисты, поправляла что-то у себя на талии. Она понравилась мне вся – от веснушчатой мочки уха до щиколотки, на которой блестел браслет из серых мини-клычков и клубничек, до ноготочков, на которых были нарисованы розовые черепки и наклеена черная надпись «Ом».
Потом шляпная ленточка, прикрывавшая лоб, упала на лопатки, и я увидел красивое и недовольное лицо. Прежде всего – большие золотые глаза. Внешние уголки их, устремленные вниз от природы, были так подведены стрелкой, что глаза напоминали взгляд золотой кошки Темминки. Ресницы девушки были оливковыми.
Я, конечно, видел цветные линзы, встречал не раз многокрасочную волосатость на разных участках тела (лобок, как оказалось, у Веры тоже был выкрашен, но об этом позже). Эксперименты с цветом не особо приветствовал, но в этот раз меня пробило.
Я смотрел на нее не отрываясь, пока девушка не сказала:
– Что-то надо?
– Да, – ответил я. – Хочу такие же золотые линзы.
– Чего?.. – поморщилась она.
И только тогда я заметил, что в золото глаза окрашивало солнце, а в тени они были светло-карими с легким желтым отливом.
Довольно скоро мы нашли общие, но достаточно светские темы. Одной из них был энергопост, ради которого мы отправились в ту лесную глушь, где на полянке вместе с другими людьми делали шарики, прокачивали потоки и сосредотачивались на чакрах.
Это была неделя выездного семинара Школы, которую основал наш, русский, математик-рериховец на волне популярности нью-эйдж1 субкультуры.
На момент, когда я пришел в Школу, она имела ряд выгодных отличий от конкурентов: там не мыли мозги, не произносили имя Бога, не морализаторствовали, а учили только технике: развитие личности с учетом энергоинформационной структуры мирка.
Как и в настоящей игре (и как все же человек тоскует по чудесному!), там были уровни «героя» – ступени от первой до пятой. После четверки шли подуровни – 4.1, 4.2, 4.3. Пятерка была одна-единственная, и, в общем-то, это был уже недосягаемый уровень. Уровень «Архангел». Его можно было получить, только предъявив «вещественное» доказательство своей энергоинформационной продвинутости.
Однако боюсь, если я назову примеры вещественных доказательств продвинутости прямо сейчас, то вы решите, что я нахожусь под препаратами, пишу из желтого дома или же не понимаю, что горожу. Позвольте сообщить два факта: будучи в свободном от наркотического, алкогольного и иного воздействия теле (это первый факт), я доподлинно узрел гипотетическую оправданность пятой ступени (это второе). Более того, нашел исторические аналогии, психосоматическую подоплеку и, посмотрев через призму пятерки на день сегодняшний, чуточку продвинулся в понимании сумасшествия кругом. На этом я возвращаюсь к Вере в коротких шортиках.
Вера состояла в Школе с пятнадцати лет и по возвращении с энергопоста должна была пройти на подуровень 4.1. Я отставал лишь на одно деление. Никакой личный контакт ученика и преподавателя в этой Школе не наблюдался – переход на личное и праздно-человеческое был совершенно не в моде, хотя преподаватель все еще был видом биологическим, носил костюмы, порой был порхат или недобрит. Но лучше бы он был экраном. От него бы не ждали похвал, поощрений, эмоций и групп в мессенджерах. А мы ждали. И остро ощущали отсутствие вышеназванного, как ощущали лунки от только что вырванных зубов.
Школа старалась быть сама от себя отрешенной. В ней в абсолютной тишине (точно из подкорки в подкорку передавали сигнал, и этот момент программирования казался мне наиболее сомнительным) воспевалось то, чем она отличалась от нью-эйдж шушеры: ноль морали, ноль снисхождения или критики в адрес конкурентов, ноль религиозности, ноль эзотерики, при этом все сто процентов – механики невидимого. Механики эти позволяли препарировать и расчленять чудесное.
Звучит как реклама с писковой ноткой антирекламы. И это тоже напрягает, потому что человеку, запрограммированному своим родителем, не пристало быть запрограммированным сторонними негосударственными организациями. А может, мой случай как раз двойных оков?
Итак, узнать действительный уровень Веры, поговорив с преподавателем или учениками, я не мог. Никто не мог дать оценку ее навыкам. При этом я ловил от Веры тот же пафос дистанции, что исходил от местных преподавателей. Всякий пафос имеет свой колорит – этот был сочетанием отчужденности робота и человеческого высокомерия. Поверьте, это не надменность красивой девушки.
Я даже подумал, не готовят ли они эту пигалицу в преподаватели? Так и представлялось, как они выбреют ее наголо, разрисуют всю до интимных зон хной, наденут на нее какую-нибудь прозрачно-экзотическую хламиду – и она станет продвигать Школу, аки агнец, что владеет истиной. Однако ни одного подобного персонажа (весьма выгодное отличие, замечу) в Школе не наблюдалось, все преподаватели имели что-то неуловимое от советских физиков и роботов 50-х. Поэтому мои страхи, кажется, были пусты.
«Ну не могу залезть ей в душу», – думал я, глядя как бы с позиции пролетающей стрекозы на нас, идущих по деревянному шатающемуся мосту и заходящих в прохладную хвойную чащу.
И хоть среди моих знакомых девушек валом было тех, кто гордился парой противоположностей – недосягаемостью души и легкодоступностью тела, я с болью размышлял о том, что священный коитус состоится задолго до разговора душ. (В век порнографии любой живой акт совокупления содержит в себе нечто алхимическое.) И не скажешь ведь девушке, что ты – мужчина-индиго и тебе, прежде чем переспать, нужно узнать о ее мировоззрении. Да и просто поговорить!
В лесу меж тем ощущался звон. Так бывает, когда кто-то массово проводит прокачку энергии. И это невидимое присутствие других людей создавало удивительное ощущение – чистый лес оказывался, если присмотреться к нему и принюхаться, прямо-таки человеческим ульем. Если бы мы занялись любовью прямо тогда, я бы ощутил себя эксгибиционистом.
Мы шли около часа и случайно, как я полагал, набрели на множество мелких озер, рассыпанных как шарики ртути. Опасно-красивое место.
– Здесь они поселяют того… – сказала Вера, и я понял, чем она грезит, но, желая продлить разговор на тему, прикинулся дурачком.
– Кого?
– Того, кто после пятерки.
– И ты в это веришь? – Этот вопрос был подобен камню, брошенному в закрытые ворота.
Вера не ответила, сняла обувь, майку, шорты – я не удержался, схватил ее, стал целовать. Но она вырвалась, скинула белье, показав выкрашенный в ультрафиолет лобок, и нырнула в воду.
Минута созерцания загадочного и прекрасного уголка природы, который, представлялось, вынашивал под толщей воды эту обнаженную сирену с ультрафиолетовым лобком, сейчас воспроизводится мною с такой достоверностью, словно у меня никогда не было иных жизней, кроме этой. Даже пустота в животе и лихорадка сердца рецидивируют. Перед глазами встает тот пленительный пейзаж: озера, как капли ртути; взметнувшиеся к солнцу сосны и какое-то легкое голубое кружение, словно небо танцует трайбл.
Наконец прилизанная, как у нутрии, Верина головка с обманно-темными волосами взошла на поверхность. Поплавав на обоих боках, полежав звездой, девушка наконец вышла на берег. По тому, как она даже не попыталась прикрыться, я понял: секса в скором времени не будет.
«Это эмансипация, мальчик», – произнес кто-то в моей голове, и я решил сделать вид, что меня абсолютно не трогают ни ее нагота, ни даже фиолетовый лобок.
– Снять тебя? – спросил я из провокационных соображений.
– Не надо, – ответила она и легла чуть подальше от меня.
Следуя современной заповеди «знание сексуально», я стал рассказывать Вере о том, что становление человеческого самосознания можно проследить по литературе. Раньше человек был свят и блажен. Он верил в то, что он есть. И он предлагал ясную и чистую картину действительности.
Затем он съел яблочко светодиодного древа и сам для себя исчез. Он стал абстракцией, сомневающейся в реальности абстрактно-изображенного, – и появилось это ироничное и сложное, шелушащееся полотно модернистской и постмодернистской литературы, которая агонирует пустотой, калечит себя и злобствует, но не может из пустоты выбраться. «Потому что пустота – это, увы, – глаголил я, – метафизическая личина повседневности».
– Что будет дальше с литрой? – раздался голос изнутри майки, которую Вера натянула со спортивным проворством.
– Начнется метамодернизм, в котором будет акцент на том, что есть, а не на том, чего нет, – отвечал я, посасывая соломинку.
– А что есть? – ухмыльнулась она. – Это будут книги-текучести о вечных изменениях?
– Книги – всегда текучести. Они всегда об изменениях.
– Я имела в виду структурные изменения, когда нет устойчивого персонажа, есть изменения и постоянная мутация сути, – с чувством пояснила Вера.
– Ты – человек своего времени, Вера, – сказал я с некоторым пренебрежением. – Не мутация, а преображение. Акцент, говорю, не на том, что от нас уплывает, а что мы получаем. Понятно?
Веру, кажется, это задело. Я понял, что она не из тех, кто терпим к критике.
Минутой позже пошло воздействие – самое техничное и ясное из всех возможных: давление на мою нижнюю чакру по системе Школы.
Эх, мертвые мои коллеги времен ушедших… Как бы мне хотелось сейчас вставить в рассказ эпизод нашего любовного воркования, впустить детали жеманства и переглядываний! Однако вместо лилейности я вынужден изобразить правдивую картину: в ответ на ее заигрывание, я открыл свой энергетический «клапан», чтобы сразить ее своей мощью и сконцентрироваться, даже закрыл глаза. Так мы обменивались потоками. Пожалуй, все это было интимнее поцелуя. Мы не прекращали энергообмена, пока не почувствовали головокружение (мы, конечно, забыли, что на энергопосту такие резкие манипуляции запрещены).
И сил ни на что не было. Какой там петтинг!..
– Слушай, они нас убивают, – прошептал я, едва сдерживая ругательства.
Поясню. Суть энергопоста в том, что под чутким руководством преподавателя ученик создает некую энергетическую пробку и, образно говоря, затыкает себе два потока, названные в Китае «ци». Ни небо, ни земля теперь не питают человека. И если верить теории, то, достигнув минимума энергии, грозящего летальным исходом, человек, пройдя через стресс, выбивает из себя эту пробку, и его тело бурно наполняется новой и свежей энергией. К нему в избытке текут эфирные блага.
– Боюсь, что сейчас нам сорвет пробки автоматически, – сказала она.
– И что тут плохого? – спросил я.
– Преподы поймут, что мы нарушили технику безопасности. – После такого ответа я еще раз понял, что что-то тут нечисто. Какая ей разница до мнения преподавателей?
Мы встали и поплелись к гостевому дому, не озвучивая главный страх: потеряться в лесу или упасть по пути. Не знаю, как после такого можно сомневаться в существовании ци. Мы еле волочили ноги. И, признаться, я предпочел бы думать, что некий демон озер выпил из нас, влюбленных, силы, нежели понимать, что наша слабость – следствие установки пробки. У меня закрадывалась злость на Школу – может, не все так технично, как они поют? Может, есть случаи, когда с подобного говения человек уже не возвращается? Может, права РПЦ, объявляя подобные Школы сектами?
Каждые двадцать минут мы делали привал. Садились на подстилку из посеревших хвоинок, прислонялись к стволу сосны, брались за руки, дышали.
Мне хотелось использовать момент – может, обессиленная и зачарованная моя сирена заговорит?
– Это твой первый пост? – начал я издалека.
– Нет. Но раньше так не накрывало. Я не нарушала технику безопасности, – ответила она.
Лед, кажется, тронулся.
– Слушай, а я вот не раз думал, этично ли то, чему учат на тройке?
– Манипулирование людьми? – спросила она так, как говорят «подлить ещё кипяточку?». – Думаю, это более чем этично.
Я даже приподнялся на локтях, желая заглянуть в ее золотые глаза. Замечу, что на третьей ступени учили тому, как программировать людей, заставляя их служить исполнению твоего желания.
– Ну что ты, – вздохнула она. – Иначе людьми будут манипулировать бездушные эгрегоры. Эгрегоры производителей телефонов, домов моды, сотовых операторов… Не лучше ли, чтобы людьми, вместо всей этой бездушной массы, – не лучше ли, чтобы человеком правил другой человек? По крайней мере, его желание, хорошее оно или не очень, человечно. А эгрегор просто сосет энергию и растет, потому что такова его суть.
Тут надо кое-что пояснить знатокам «слоев Шаданакара». Термин «эгрегор» имеет длинную и удивительную историю, восходящую к древним апокрифам, зашедшую на новый виток в протофашистких орденах. Наша лишенная романтизма и поэтического пафоса тамплиеров Школа понимала под эгрегором нечто очень простое и почти математическое – энергоинформационную структуру, формирующуюся из схожих психических выделений, эмоций и мыслей массы людей.
Определенный эгрегор связан с определенными желаниями, идеями, стремлениями, которые личность, испытывающая эгрегориальное воздействие, принимает за свои. Конечно, от такого толкования веет венским панпсихизмом, вместе с тем оно подчеркивает главное: эгрегор не злонамерен, как и не злонамеренно раковое образование, обессиливающее организм. Его бы не было, если бы не одновекторное излучение множества людей. А может, эгрегорами и населено коллективное бессознательное? Может, это две стороны одной медали?
Однако вернусь к диалогу. Я не унимался:
– Ты намекаешь, что свободного человека не существует? Если ты не подался в Школу, то ты никогда не вылезешь из эгрегориальной мешанины, обуславливающей твои поступки?
– В Школе тоже много несвободных, – заметила Вера. – Тех, кто действительно освободился со Школой или без нее, манипуляция по тройке уже не проймет.
Я ощутил горький привкус этой правды.
Школа учила тому, что эгрегоры можно отсечь, восстановив тонкую яйцеобразную оболочку. Собственно, избавление от вездесущего воздействия эгрегоров и установление оболочки было первой ступенью, которую проходил «герой» (употребляя это компьютерно-игровое и литературоведческое словечко, я возделываю почву, в которую набросаю зерен). Я видел молчаливый вопрос в глазах людей, которые, конечно, понимали, что и у Школы, следуя простой логике, есть эгрегор. Что хуже: массы эгрегоров, давящих на тебя, или один эгрегор?
Меж тем уже смеркалось. Слышались кажущиеся нездешними всплески воды. Замшелые пни как будто укорачивались, погружаясь корневой системой глубже в землю, приобретали фосфорическое свечение и смотрели на нас глазами врубелевского пана. Стволы казались почерневшими и гладкими, как выходящие из вод богатыри. Пространство между деревьями загустевало под перестук дятлов, «лю-ли» каких-то вечерних пташек и нарастающий лесной шорох. Шершавая кора становилась малоразличимой.
На фоне истощения, бессилия хвойная тьма вдруг показалась мне родной, старинно-русской. Словно бродил я, как тень, средь морока реклам и экранов и вот наконец нащупал живой корень. «Отсюда наши славянские отцы, наши святые допетровские предки. Тут я и умру». И я упал.
Не знаю, прикоснулся ли ко мне эгрегор Великой Руси (и как же мерзко объяснять подобные возвышенные переживания чем-то!). В теории, в чащобах минимум подобного воздействия. Однако я подумал о многострадальной нашей Матушке-Руси, представил Веру в расшитом кокошнике, и сознание улетело.