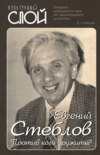Kitabı oku: «Мои дневники», sayfa 4
Прибыли в Эссо. Был звонок от первого секретаря обкома ВЛКСМ, который шумел – говорил, что мы поносим комсомол и вообще «подрываем все!». Это, конечно, жена нашего комиссара звон пустила по инстанциям. Не пропал тот вечер даром.
Уже часов в шесть поехали в совхоз «Анавгай». Это национальное село оленеводов. Мороз был приличный, дорога сложная, но ярко светила луна… Приехал с нами туда и завотделом пропаганды райкома, алкаш-эвен.
Над поселком дым стоит столбом от труб. Ветра нет. Только в морозном воздухе далеко-далеко разносятся песни Бюль-Бюль-оглы о Баку и других теплых странах. Смешно и пронзительно.
Выступали. В конце заставили петь «Я шагаю». В первом ряду очень серьезно сидели дети лет пяти-шести. Вообще все ламуты и их дети сидели, сплетя пальцы рук на животах… В этот день у них было перевыборное собрание в рабкоме, и по сему поводу новый председатель устроил пьянку, отчего в зале большая часть зрителей была в кусках. После выступления угостили и нас. Косыгин, естественно, нарезался и пел.
Приехали «домой». Свет в Эссо вырубается в 24 часа, так что уже было темно. Но все же я решил пойти в бассейн.
Вот с этого-то я и хотел начать писать сегодня! Это фантастика. Вот идешь по улице. Темно, хоть и не очень. Луна все-таки. Ну да, в руках у тебя полотенце, мочалка, мыло и шампунь, вроде бы все как положено, но не то чтобы в воду какую ступить, а просто руки из рукавиц вынуть страшно. Мороз! Снег хрустит. Иней на проводах. А над бассейном – пар! Но не хочется даже представить, что будешь сейчас раздеваться. От одной мысли становится жутко! Но все же…

Горячий бассейн в Эссо
Я разделся. Ноги примерзли мгновенно к бетонной плите. Все тело прожег холод. Я подбежал к воде и влез в нее. Боже мой! Боже мой, какая это сказка! Ключевая, горячая, мягкая вода под нависшими над ней тяжелыми от инея телеграфными проводами. Я мылся и плавал – и не верил, что я это я и что это вообще возможно.
Оттого, придя домой, не мог не записать все это. Когда собирал (уже одевшись) свои шмотки – мыло, мочалку, шампунь, – с трудом оторвал их от снега – за минуту примерзли.
Пришел домой, заледеневшую мочалку прицепил на гвоздь, и только когда уже сел писать, она оттаяла и шлепнулась на пол.
Еще из впечатлений, которые просто невозможно все подробно передать (особенно с моей эмоциональностью): видел дом, у которого чердак заколочен большими кусками коры. Это красиво. Хорошая фактура для какого-нибудь эпизода.
20. XI.72
Пропустил несколько дней, так как не было времени писать. Но по порядку. Утром поехали на забой, а до этого был еще занятный вечер. Меня пригласил к себе зоотехник – посмотреть его ленты кинолюбителя. Познакомились мы, когда летали в табун. Лицо его привлекло мое внимание сразу. Мужественное, красивое, суровое. Широкоплеч, молчалив. Я заговорил с ним. Молчалив, но точен и лаконичен в ответах.
Вечером я был у него. Обалдел. Чего только у него нет! Просто сокровищница. Шкуры, национальные одежды, бубны. Красиво, удивительно. Потом показывал свои фотографии. Очень интересно. Вообще, снимать его нужно. Фактурен, похож на Тасиро Мифунэ. Сам шьет себе замшевые одежды и меховые шапки. Ну, конечно, «махнули». Разговорились…

Кораль с оленями
Интересный парень, что и говорить. Я от него ушел, но следующим вечером сам позвонил ему, чем-то привлек он меня. Мир у него интересный. Говорит: «Приходи». Пришел, а у него две эвенки. Сели, потрепались и так далее. Словом, в ночь эту я пал. На шкуре медведя.
Утром уехали на забой. Это жестокое зрелище. Должны забить в этот сезон всего 1500 оленей. На этот раз их было 250. Кораль – огороженный загон-лабиринт, в котором одно отделение от другого отделено черными занавесками. Жутко смотреть, как на ветру, под открытым небом среди снегов и сопок, развеваются черные занавески, между которыми, биясь рогами, мечутся олени. Потом партию штук в 5–7 «отбивают» и загоняют в малый отсек, и там из мелкашки стреляют в упор, в лоб. Олень падает на колени, и его тащат. Взвешивают, затаскивают головой на врытую в землю бочку и перерезают горло. Кровь хлещет в бочку, потом его заносят на этакий эшафот, сколоченный из досок, и «пластуют». Шкуры в одну сторону, мозги в другую, языки в третью и т. д.

Забой оленей
Поели мяса оленьего. Подарили нам шкуры и рога. Я их не взял, куда мне к моим-то, да еще и оленьи. Ребята поехали домой, и я поехал тоже, но только для того, чтобы взять карабин и патроны. Меня пригласили в тайгу на охоту…
Вернулись в Анавгай. Тут я провел три дня, но пролетели они, как один. Это было изумительно. Странно: ехал-то сюда, а возвращался мыслями домой. От этих мыслей слабнут колени, и поет, поет где-то внутри. Сладки мысли и радостны. То Степана перед собой вижу, то отца с матерью, то ребят, то девок своих, дур-куриц!
Приехал к плотнику Коле (пригласившему меня на охоту. – Современный комментарий автора). Лицо у него похоже на кукольную карикатуру на самого себя, сделанную у Образцова. Морщинистое, с оттопыренными ушами, и выражение на нем все время удивленное. Голова маленькая на тонкой шее. Остроумен и добр. Говорит, например, дочери: «Не балуйся, а то прибью гвоздем к стенке!» Та хохочет, аж на пол валится. Жена его – эвенка, фельдшер-акушер. Веселая, хорошая хозяйка. Держит мужика в руках. Она, например, на роды по вызову едет и его берет, воду греть и вообще дела делать. Он покорно поднимается и едет с ней, и днем и ночью. Дети у нее взрослые были, но не от Коли. Мужа ее первого зарезали спящего, из-за ревности. Еще там был очень здоровый парень. Наполовину грек, из Харькова. Зовут его Виктор. Глаз умный, хитрый, губы тонкие, злые. Родители на материке, но отношения с ними странные. Кажется, сидел. В отношениях со мной сначала был ироничен и пренебрежителен.
А еще там были Тюлькины. Замечательные Тюлькины. Горьковские. Волжские. Веселые, смешные. Она – Рая – с удивительным русским лицом. Волосы соломенные, глаза голубые, а ресницы и брови белые. Володя, муж ее, – механик. Зубы кривые, хохотун и простак. Добр и открыт. Дочь их, Таня, на мать похожа. Ну, опять же выпили. Пошли волжские песни…
Утром ушли с Колей на охоту. Красотища неописуемая. Снег, сопки лиловые, солнце всходило, и речная вода (река тоже зовется Анавгаем) – холодная, быстрая и совершенно изумрудно-зеленая. Шли по тайге, пробирались через завалы. Тяжело – чапыга, кедры… А поскольку поговаривали, что в округе объявился медведь-шатун, кроме ружья я тащил и карабин. Измучился, но молчал. Понял, что торбаза – вещь гениальная. Легки, мягки, теплы.
Старейший комсомолец с пафосом просил нас передать соседнему району дословно следующее: «Передайте им, что мы есть, что мы живем здесь!»
Ничего, кроме соболиных следов, не видели. Лайки бегали молча. В конце спугнули глухарку, которая пронеслась на «бреющем» полете у нас над головами. Стрелять не стали.
Пришли домой. Ах ты, Господи, что это за наслаждение – сесть на табуретку у печки после того, как пробежишь по тайге 20 верст, и вытянуть ноги! И посидеть так. Тело ломит, плечи болят, но благодать.
Сели обедать, ели оленьи сердца, пили спирт и разговаривали. Я должен был уезжать, но не вышло. Загудели. Пришли Тюлькины, потом Виктор, еще гости, и понеслось!.. Вечером пошли на танцы и плясали до упаду, так что на мне чуть торбаза не сгорели. А ироничный поначалу Виктор оказался и вовсе прекрасен. Возил меня на мотоцикле, да так, что я чуть от страху не помер…
Легли спать, а утром я сбегал, принес три бутылки, и завелись опять. Пошли на реку ловить гольцов и водку пили прямо на льду. Стреляли в цель из мелкашки. Я стрелял лучше всех, это чистая правда.
Вернулись в дом, варили застреленного «на рыбалке» зайца, и я опять бегал за «бескозырочкой». Девки наши совсем обалдели – и пили, и пели, и все подтягивались какие-то новые люди, и не было празднику конца. Я устал и прилег. Уснул… Но тут приехал Володя Косыгин за мной. «Я, – говорит, – по тебе соскучился, поехали домой». Да какое там! Опять побежал. Володя выпил и моментально запел. И как ведь пел хорошо!..
Потом ко мне подошел Витя и говорит:
– Слушай, ты знаешь, к нам кто ни приедет – все шкуры просят, а ты – нет. Ты нас всех этим прям-таки купил. Вот тебе от меня сумка пыжиков, а Толька тебе вот, смотри, медвежью шкуру держит и барана дубленого, и тарбагана на шапку, и кухлянку. Мы тебя полюбили, и ты нас помни!
У меня слезы так сами и побежали. Но уж он пошел плясать и петь. А Рая горьковская поцеловала меня в губы и смеялась все.
У машины все столпились и шумели. Русские люди – неуемные!
Приехал домой пьяный и расстроенный…
Утром уезжать. У меня же, естественно, «головонька бо-бо, денежки тю-тю». Но ничего, начали собираться. В 8.00 нас ждали в райкоме партии.
Приехали. А там в кабинете секретаря сидит все бюро. При галстуках. Сама секретарь в черном костюме. Стали толкать деревянные речи. И трогательно все это было, и глупо ужасно.
Выступал старейший коммунист, всю жизнь проживший на Чукотке. Мало того, он еще оказался евреем. Верно Валентин Ежов сказал: «Уж если еврей сильный, так такой, что страшно, если глупый, то глупее не бывает, уж если северянин, то из всех северян северянин».
Потом выступил старейший комсомолец, который с пафосом просил нас передать соседнему району дословно следующее: «Передайте им, что мы есть, что мы живем здесь!» – и замолк. Просто по Андрею Платонову!
Подарили нам кукули (мешки спальные), термосы и рога оленьи для передачи в соседний регион.
Позавтракали, сели в вертолет и улетели в Козыревск. Ну и, естественно, забыли в Эссо все мои пленки, а также ботинки и кеды.
Из Козыревска нужно было лететь в Усть-Камчатск. Бортов нет. За вертолет платить нечем. Наконец через обком договорились. Над нами пролетал «Ли-2», его по рации вызвали, посадили, и он нас забрал.
Сели в Усть-Камчатске. Устроились. Балаян сварил подаренные нам оленьи языки. Это изумительно вкусно. Дрова мы с Женей (один из секретарей обкома комсомола. – Современный комментарий автора) украли у соседей…
Очень трудно записывать в один присест впечатления нескольких дней. Чувствую, что многое теряется. Постараюсь впредь быть в этом отношении более оперативным.
Когда я сидел у ребят в Анавгае, подумал, что для русского характера очень важно, и даже необходимо – то есть то, без чего русский человек жить не может, – это возвращение. Всегда – возвращение. Потому, когда я от них уезжал, сходил сначала к горячему озеру и бросил в воду монетки, чтобы сюда вернуться. На обратном пути от озера, правда, упал здорово.
И еще: зрелость человеческая – это способность не оценивать других раньше времени. Уметь подождать, присмотреться, почувствовать изгибы характера, его странности, причуды.
21. XI.72
Утро началось с ожидания вертолета на Командорские острова, а именно – на остров Беринга. Но была накладка, и мы никуда не вылетели. Потеряли только время. Вернулись, и я сел дописывать статью для «Камчатского комсомольца». О, Господи! Как же мне надоело воспевать этот идиотизм! Наверное, именно воспевая, начинаешь ненавидеть по-настоящему.
Да, вспомнил опять про этого старика, Иова Титовича. Ему очки нужны были очень. Он и поведал о своей нужде одной знакомой комсомолке: «Внучка, мне бы… очки, что ли, надо». Та отвечает: «А вам какие нужны, дедушка? В аптеке теперь стекла +6 и –5, вам какие?»
– Да какие есть. – Удивителен русский характер. «Какие есть…»

С Володей Косыгиным
И еще, забыл совершенно! Девушки из Анавгая мне частушки спели, которых я не знал, все замечательные:
1. На Ивановской платформе
Х… стоял в военной форме,
А п…да на каблучках
Подошла к нему в очках.
2. Я б тебя, да я б тебя
да за три копейки!
Обокрала ты меня!
Отдай на х… деньги!
3. Из-за леса выбегает
Жеребенок без узды.
Моя милка потеряла
Документы от п…ды.
4. Моя милка из окошка
Высунула голову.
«По…те хоть немножко,
Помираю с голоду».
– Внучка, мне бы… очки, что ли, надо.
– А вам какие нужны, дедушка?
– Да какие есть.
Просто записал, так как боюсь забыть.
Вечером опять работал над статьей и проклял все! Закончил. И сразу сел писать сценарий для Хабаровска.
Зорий тем же вечером упрекнул меня, что плохо пишу (имел в виду статью). Это правда. Язык у меня в этих виршах мертвый, казенный и безвкусный. Но меня критика Зория задела, хотя я понимаю, что все правда. Решил почитать ему кусочки из повести. Давно сам их в руки не брал, и потому самому было интересно. Прочел. Надо сказать, мне понравилось. Кажется, придумано ничего. Зорию нравится тоже. Но посмотрим…
Лег спать.

Зорий Балаян
22. XI.72
Утром работал. Потом опять поехали на аэродром. День солнечный, но снова накладка. Вернулись. Зашли на почту. Мерзкие советские бабы почтовые. Крикливые хамки. Ненавижу таких баб. Всегда они с визгливыми голосами, ужасно едят – пальчик отогнет, а кусает от всего ломтя, да еще и в тарелку шиньоном залезет. Еще они нечистоплотны, склочны, да и… многое!.. И вдруг я подумал: а виноваты ли они – несчастные эти, темные, измученные великоросски? Когда им о себе позаботиться? Жизнь их тороплива и суетлива, но с места не двигается. Вообще, все мы, вся страна, похожи на огромный пробуксовывающий паровоз, которому мечтается, что он летит на всех парах. А машинист все видит, знает, но всем только врет, потому что сделать ничего не может.
Ну, да ладно. Отправили с почты свою телеграмму и приехали домой. Я сел работать за машинку.
Бывают далеко от дома в течение дня мгновения пронзительные и сладостные. Мгновения эти коротки. Когда в секунду перед тобой проносится какое-то воспоминание или ощущение, когда-либо испытанное. Все невыносимо ясно стоит перед глазами, и сердце щемит. И дело даже не в том, дорого тебе это было тогда или нет. Чаще – нет. Но унесшееся время замещается каким-то остатком своим, оттиском в памяти чувства, остается в каких-то спрессованных точках, и из них всплывает вдруг все, как мираж. И запахи, и лица, и ощущения все… Длится это совсем недолго. А потом летишь себе дальше и дальше в своем настоящем, погружаясь в будущее и стремясь невольно к прошлому.
Вот и теперь музыку какую-то поймал. Музу вспомнил (Муза Инграми – молодая светская львица 70-х, одна из тех редких советских дам, которые имели возможность путешествовать по миру, покупать дефицитные товары в «Березке», впоследствии вышедшая замуж за итальянца. – Современнный комментарий автора), вспомнил и всех мудаков, что вместе с ней вертятся.
Между прочим: дневник я пока не перечитываю и потому наверняка во многом повторяюсь. Но тем лучше – значит, это что-то во мне постоянно, значит, истинно.
…Работал. Ребята ушли в кино. Вернулись. Смотрели «Укрощение огня». Плевались. Это хорошо… А я успел помыться, истопил титан. Душ здесь дает только кипяток, да еще и мощной струей – как из шланга. Поэтому мылся из ведра, как в детстве.
Пришел Балаян, устроил ужин. Вкусно, как всегда. А потом все испортилось. Заспорили о Сталине и о Хрущеве. Ах, Володя. Как он ничего не понимает? Или просто не хочет? Или темен? Сказал, что ему Сталин милее Никиты, хотя отец его расстрелян в 37-м. Наивно уж об этом спорить. Нужно дело делать.
Теперь спать лягу, уже поздно. Хочется еще что-нибудь написать, да боюсь удариться в вечные мои «страдания».
Получил телеграмму от отца с мамой. Как же я по ним скучаю! – и уже даже не верится, что где-то есть они, Москва и вообще все то, к чему привык.
Как я себя ненавижу иногда! Иногда за то, что не могу выразить то, что чувствую, иногда же за то, что не могу выразить то, что от меня хотят. Выразить! Техника это или талант?.. Сижу, доверяюсь вот этой бумаге. Выйдет ли что-нибудь из всех моих мыслей, из всей моей жизни?
Ну, вот и «застрадал». Ах ты, Господи!
23. XI.72
Утром сел работать. День ясный и очень морозный. После обеда прошлись. Зашли в универмаг. Я потом – снова за стол и просидел до вечера. В семь часов вечера – выступление. Пришли. Народу немного. Подошел какой-то человек, попросил записаться для областного радио. Записался, потом выступал. Все прошло как всегда. Без особых радостей.
Ужинали с секретарем райкома и председателем райисполкома. Скучно здесь им. Да и как будто все время боятся чего-то. Видно, жить им тут не сладко. Район рыбный и лесной, но проблема, что он у океана, – цунамиопасный район. Чуть что – эвакуация. Во время осеннего землетрясения в прошлом году началась паника. Народ кинулся бежать на материк. За 9 дней уехало 400 человек с семьями. Для такого и без того малонаселенного района такое количество уехавших считается большим.
Район рыбный и лесной, но проблема, что он у океана, – цунамиопасный район. Чуть что – эвакуация. Во время осеннего землетрясения в прошлом году началась паника.
Честно рассказали нам, что время от времени раздаются паникерские звонки в райком. Недавно, например, звонят: «Почему не эвакуируете? 17 минут прошло!» (А 17 минут – время, за которое нужно успеть эвакуировать население.) «А в чем дело?» – спрашивает секретарь. «Да как же?! Вон председатель рабкома на катер трудовые книжки понес, и всю ночь у него вездеход заведенный у дома стоял!»
Люди отсюда, в общем-то, бегут. Несколько лет назад в шторм оторвало вельбот. Унесло. Там был один только парень. Случилось это под Новый год. У парня с собой были осветительные ракеты. Он начал их пускать, но в это время начался салют, и его ракеты потонули, влившись в общий праздник! Так его и унесло. Новый год провел в шторме, на этом вельботе. Еще была у него бочка соленой рыбы и чай в термосе. Ел рыбу, пил чай и песни пел. Нашли его через неделю. Вернулся и сразу женился.
Вот и все на сегодня.
24. XI.72
Проснулись. Холодно было ночью, и снилось что-то очень сложное, но во всех этих сложных снах были пронзительнейшие места… Степа снился. Много и по-разному. А в конце, уже под утро, приснилось, что умер А. А. Вишневский (профессор, главный хирург Министерства обороны СССР, умер только через три года, в 1975 г., именно в ноябре. – Современный комментарий автора) Почему-то. А сегодня пятница.
Теперь должны лететь в Ключи. К самому высокому в мире действующему вулкану – Ключевскому. Чтобы попасть на вертолетную площадку, переправлялись на пароме.
Взлетели. Трудно описать этот пейзаж. Я все пытался определить его цвет… Это дымчато-лиловые сопки, с белыми замерзшими озерами, окаймленными кустарником, подернутым голубым инеем. И горы с изумительными тенями в ложбинах.
Сели в Ключах. Туман, поземка, – 25° мороза. Аэродром военный, а домик стоит – смешной и странный. Архитектура северная, дом двухэтажный, с лестницами внешними и надстроечками. Над домом этим хлопает и вьется разноцветный флаг, порванный по краям от ветра, а сам дом покрашен в шашечку черно-белую – весь как шахматная доска.

Самолет «Ан»-2 в 70-е
Вулкана не видно. Туман. Но оставаться было рискованно – могли засесть надолго. Полетели обратно на «Ан-2». Этажерка холодная, но прочная, как показалось. Сели в Усть-Камчатске…
Тут прервусь и, пока не забыл, запишу историю, рассказанную вчера Володей Косыгиным. Он выступал перед чукчами, а у них с коряками старая вражда, даже были войны!.. Выступает, значит, он уже расположил публику к себе, а там по ходу выступления и спрашивает: «Вы, – говорит, – корякское радио слушаете?..» А из зала отвечают: «А на хера нам корякское радио, у нас Канада близко!»
Да, так вот, сели мы и решили поужинать шашлыком. Был с нами секретарь райкома и зампред исполкома. Первый – запуганный, учитель в прошлом. Второй – свинья-фашист.
Учитель этот, видимо, всегда побаивается за свой желудок. Все его разговоры – про пищеварение, кишечник и говно.
«А шашлык этот есть можно? Не пронесет?» Потом все-таки есть начал, да все приговаривает: «Идет хорошо! Посмотрим, как будет выходить!» или «Эх, и подрищем!» и тому подобное. Словом, личность бледная такая, похожая на чуть живую моль.
Второй же – жестокая тварь, хотя глупая и пресмыкающаяся.
Пока шашлык ели, лица у них были, будто находятся они в стане противника, и никак не позволяет им большая воинская гордость показать, что кушанье им нравится.
Приехали домой (по пути отправил телеграмму Андрону). В комнате тепло – сразу спать хочется.
Удивительный народ. Великий. Рабский. Живет себе спокойно в этом ужасе, считая все это единственно возможной жизнью. И не потому, что не знает жизни другой. Другая ему «ни к чему».
Включаю приемник по вечерам, а там мир шумит, переливается, шевелится, шелестит… Музыка и радости, и нерадости – все там вместе. И мы тут – в богатейшем, изумительном и засранном краю! И вся жизнь этих людей, так же как жизнь всех нас, убога и гнусна в своей убогости. И в то же время… чистота проникает сквозь все это. И как возможно все соединить?
Удивительный народ. Великий. Рабский. Живет себе спокойно в этом ужасе, считая все это единственно возможной жизнью. И не потому, что не знает жизни другой. Другая ему «ни к чему». А главное, если и попытаешься открыть ему глаза на все, так он сам же тебя и растерзает.
Живут люди, ругаются, плюются, но живут, и ничего другого будто и не нужно. Для них есть Кто-то, кто ими руководит, тот, кто «Начальник», и его дело решать все самому. Царь он, и все тут! И больше ничего не нужно!
Что же делать? Зажимай народ этот – терпит. Отпусти вожжи, тебя же и сомнут. Так что же?..
25. XI.72
Мне снился сон. Будто я ищу свою часть и не могу найти. Вот, наконец, нахожу ее. Но почему-то на территории ее – странный многоэтажный дом, и второй строится. И много, много каких-то девушек. Они участвуют в строительстве этого дома. И сейчас какой-то праздник там, весело все и очень приподнято. «Боже мой, – думаю, – что же это такое?..»
Меня встретили ребята и повели к командиру, а он… почему-то очень старый. И улыбается – весь стол его завален подарками и конфетами, и цветами. Увидел меня и заплакал, и обнимает, и подарки сует, насыпает в карманы конфеты… «Да что случилось?» – спрашиваю. «Как я рад, – говорит. – Вот у нас и еще один день рождения старшины 2-й статьи Мишланова!» Вошел Мишланов, командир его тоже задаривает, оба плачут…
Потом я вышел, а навстречу Алла Ларионова ведет свою дочь. И громко возмущается, что дочь в армию забрали, а условий не создали! Мол, девочке всего 16 лет! Глянул я на девочку, а она – хорошенькая-прехорошенькая. Вот, думаю, как славно, что тебя, миленькая, в армию забрали, вот попала бы ты еще в нашу роту!..
Тут я и проснулся от холода. Володя вчера опять сетовал на тот вред, который принесло оленеводам гагановское движение. Я уже об этом писал – о передовиках, которых загоняют в «отстающие табуны», а там свои семьи, и никого больше им даром не нужно. Вообще, хорошо бы написать сценарий о пастухах. Фактура изумительная. Здесь даже и такое может быть, что Герой Соц. Труда – сын шамана. И вот (по этому сценарию, допустим) этого героя отправляют в табун отстающий. А там – своя семья, на него все «забивают болт», естественно. И его миссия, казалось бы, проваливается. Но(!) – в него влюбляется дочь бригадира, того самого, который никак не смирится с тем, что ему со стороны учителя прислали. И так далее…
Работал, писал сценарий для Хабаровска и закончил его. Вечером выступление в кинотеатре. Неохота, но нужно.
25. XI.72
Утром сел я работать, но пришел какой-то человек в длинном тулупе и в шапке рваненькой. Человек довольно странный – с бородой и молодыми глазами. Спросил меня. Я, честно говоря, принял его за какого-нибудь фанатика или киномана. Хотел говорить с ним в коридоре, но он дал понять, что у него разговор. Сели на кухне. Он мне сказал, что у него много материала для «Фитиля», и спросил, не могу ли я чем-либо помочь в этом плане? Я сказал, что не могу. Но в итоге мы разговорились. Он – «шабашник», то есть время от времени сюда приезжает работать. Что-то строить по подряду. Зарабатывает около 1500 рублей. Сам он москвич, радиофизик. Кончил МЭИ. Но говорит: «Мне нужно много денег, чтобы заниматься наукой. Чтобы меня никто уже не трогал. Чтобы быт меня не мучил. То есть нужно заработать где-то 50 тыс. рублей. И тогда уже все будет хорошо… У меня жена… Она кончила иняз. Сам знаешь, запросы-то у них большие. Вот я и езжу сюда уже три года подряд. Правда, трудно очень, и болею уже, вот зубы летят, как из пушки, и нога пухнет».
– А сколько тебе лет?
– Двадцать четыре. Да нет, денег-то я заработаю, вот только бы в Москву не ездить, уж очень трудно их не тратить. Я тут живу на 30 рублей в месяц. А там они как-то летят и летят.
– Да ты просто русский человек. У тебя никогда денег не будет, неужели не понимаешь?
Он удивился.
– Нет, – говорит, – скоплю.
– Да никогда.
Улыбается застенчиво, а глаза горят. Вспомнил я «Подростка» (роман Ф. М. Достоевского. – Современный комментарий автора) с его «идеей». И подумал: «Вот этот парень ломается тут, рогом упирается, пашет по-черному, а там жена его сидит «из иняза» и получает от него каждый месяц полторы тысячи рублей. А кто она? И все ли он про нее знает?»
– Я все, за что берусь, довожу до точки, – говорит. – Вот в школе начал заниматься легкой атлетикой, но сломали меня. Стал чемпионом района, да мышцу порвал. Стал плавать – через год был мастером. Опять сломали. Потом корью заболел, чуть не умер. Врачи говорят: «Ты без белков не жилец». Я и правда на ходу шатался. А потом ребята говорят: «Поехали на Камчатку». Ну, думаю: «Или так, или никак». И уехал. Ничего – выжил.
Странный, интересный парень. Зовут его Юра Кокурин, даже его телефон записал: 273–34–30. Хотел бы с ним поговорить, когда он скопит эти деньги.
Вчера шел с выступления – горит мотоцикл. Толпа собралась. До чего же человек любопытен к чужой беде. Не участлив, а именно любопытен. Участие требует усилий, а любопытство ничего не требует. «Да, здорово, – думает человек, – эко его покорежило. Да, не повезло», – и пошел. Или стоит, глядит. Я такой же, к сожалению.
Весь день сегодня перепечатывали сценарий. Замучились.
Вечером разговаривали с Сашей Адабашьяном по телефону. У него там утро было. Я, видимо, его разбудил. Недаром всю ночь снилась собака, вот и с другом поговорил. Даже не верится, что где-то есть они все – и Москва, и ее людные улицы, и вообще все то, к чему я так привык и что люблю ужасно.
В 10.00 по нашему времени в «Календаре спорта» прозвучала страничка о нашем походе. Должен сказать, что часто чувствую себя жуликом. Настолько то, что говорю, разнится с тем, как думаю.
Уже поздно, ложусь спать. У нас тут ужасный мороз. Позвонил из города Юра Пшонкин, который делал про нас страничку… Хочу работать. Разговор с Сашей воспламенил меня вновь к фильму. Только не зажиматься! Освободиться, чтобы только был «мир» твой и героев.
Вот еще что подумал: «Костюм! Очень всегда помогает костюм в работе актерской». Но что лучше: сначала выяснить все с актером, дать ему возможность мять роль, мучить ее, доводить или сразу дать ему все внешнее и идти от этого?
Ну, да ладно. Только бы все было в порядке!
26. XI.72
Ох, до чего же иногда хочется разбить себе голову от ненависти, от бессилия. Ну что же это за государство? Картонные люди, похожие на тени. Все на одно лицо. Сидят в этой огромной чудовищной сети райкомов и обкомов, которые опутали страну. Похожие на тихих трутней или пауков.
Вся их жизнь – это сокрытие правды. Правды своей жизни, правды жизни своего народа. Ведь недаром же, недаром же настоящее событие, настоящая радость, и без всякой чужой помощи и «вздрючивания», охватывает людей, и они высыпают на улицы, и поют, и смеются. И как ужасно, фальшиво, унизительно веселье вынужденное, лживое, как и достижения, которыми на этом веселье бахвалятся. Как же все это больно!
Все думал о Сталине. Ненависть к нему порою достигает во мне каких-то идиотских размеров, хочется морду набить кому-нибудь. Что же он наделал? Уничтожил весь цвет, талант, надежду, разум интеллигенции, которая не могла бы, естественно, долго быть обманута этим адским человеком. Всю свободную мысль он подавил. Следовательно, уничтожил и талант. Талант без свободы – ничто, уродство. Он воспользовался тем злом, которое посеял Петр, разделив народ с интеллигенцией. Сталин сыграл на этой страшной ошибке торопливого, бурного гения. «Враг народа». И народ принимал все это на веру – то, что где-то в городах раскрывают заговоры «тунеядцев» и «жуликов» из тех, «которые в очках да в шляпах, шибко грамотные».
А потом начали формироваться, вскармливаться вот эти-то чудовищные кадры, которые повсюду задушили мысль и жизнь. Они росли, как грибы, и для них не было ничего святого. Ничего, кроме собственного благополучия, кроме необходимости скрыть свою серость, бездарность и прорасти, вылезти туда, где теплее, где сытнее, лучше. И немного ведь нужно достоинств для этого. Нужно больше молчать, стараться не лезть с предложениями, которые могут вызвать множество хлопот, и чаще говорить людям «нет», чем «да», так как за это не отвечаешь. «Да» нужно защищать, каждое «да» влечет за собой работу и ответственность. Эта чудовищная, еще с царского времени, бюрократическая машина и теперь ничуть не изменилась, а только стала мощней и обросла демагогическими оправданиями и лжеидейными лозунгами.
Но народ, народ! Вот что более всего удивляет меня. Ужели действительно не может он без царя? Тридцать лет он с благоговением принимал тиранию. Добровольно рабствовал. Потом возненавидел «избавителя» (имеется в виду Н. С. Хрущев. – Современный комментарий автора). Того, кто лишил его идолопоклонства, «советского язычества». С жалостью и восхищением вспоминает народ прошедшие времена. Когда все тряслись и одной кляузы было достаточно, чтобы стереть в порошок любого.
Теперь с воодушевлением врем о все лучше и лучше идущих делах. Как радио ни включишь – все молодцы кругом. Просто страна сплошных молодцов1.

Сталин и Хрущев в 30-е гг.
Начальник отдела перевозок узнал, что у нас оружие, и стал его осматривать, потом потребовал сдать патроны.
На аэродром нас провожал товарищ Таскин Т. П. Зав. общим отделом РК КПСС. Лицо у т. Таскина – полного подлеца. Тонкие губы стрелками разрезали поперек отвратительную угристую рожу, которая все время кажется покрытой салом. Когда он говорит, верхняя губа подпрыгивает и виден ровный ряд железных, подернутых матовым блеском зубов. Пальцы его похожи на сардельки. Говорит незаконченными, неопределенными фразами. Всего боится. Первое, что хочет сделать, это поскорее уехать от всех тех людей и дел, которые ему поручили. Из всего делает проблему неразрешимую, но если вопрос решается вдруг положительно (естественно, не при его участии), товарищ Таскин сразу, как бы между прочим, сообщает, что он вообще-то старался. Во время разговора в глаза не смотрит, и все время всезнающая отвратительная улыбка блуждает по мокрым ленточкам-губам… Он провожал нас на аэродром, и мы опаздывали, самолет должен был уйти, но задержался чудом и взял нас. Таскин же, прощаясь, с чувством жал руки и гордо говорил – мол, видите, как все хорошо получилось.
В те годы, под впечатлением ХХ съезда, «оттепели», все те обличения и «откровения», которые были подарены советскому обществу в отношении И. В. Сталина, расстрелянного Л. П. Берии и т. д., словно воодушевили народ на прозрение. И, как это часто бывает в такие периоды в народе, ощущение мгновенного прозрения вдруг в одночасье расставило простые ответы под множеством сложнейших вопросов, которые не могли не возникать у людей, живущих в столь огромной и многосоставной державе с множеством проблем. А тут вдруг всем стало понятно, кто в этих проблемах виноват и что именно не так он сделал. В чем, так сказать, состояло «абсолютное зло» на пути к коммунизму. Через какое-то время мы уже совершенно уверовали, что Сталин «воевал по глобусу», что никакой он не был Верховный Главнокомандующий, а был он бездарен, малограмотен, труслив, туп, кровожаден и даже психически болен. Хрущев в этой ситуации выглядел как человек, освободивший советский народ от ига заблуждения.
И мало кому из нас приходило тогда в голову, что обличающая предыдущее руководство страны информация выдавалась очень избирательно и порционно, и в полном соответствии с политической конъюнктурой новых «эшелонов власти». Мало кому вспомнились тогда слова Л. Н. Толстого, что «самый страшный враг правды – не ложь, а полуправда».
Сегодня, когда мы с годами стали объективно знать больше (и в отношении статистических данных во всех областях, и в осмыслении стоящих тогда перед страной немыслимых задач, которые в итоге оказались решены, и в отношении многих шагов внутренней и внешней политики Сталина), сегодня, когда мы имеем столь печальный опыт в итоге действительно безграмотных либо предательских действий вождей либеральных реформ, конечно, я уже не скажу так о Сталине.
А тогда… 72-й год! – всего-то лет 10–15 назад пришла к нам «оттепель». Беспечная творческая интеллигенция, Политехнический музей, там – Окуджава, Евтушенко, Вознесенский, Белла… Журнал «Новый мир», публикации Солженицына, Астафьева. Феномен «лейтенантской прозы» – по-настоящему правдивая литература о войне. В кино – тоже первое свободное, свежее дыхание – Марлен Хуциев, Михаил Ромм… Ставшие доступными вдруг зарубежные фильмы.
Было бы все это возможно при Сталине?.. Тогда бы я сказал: «Конечно нет!» А теперь… Не знаю. Проживи он еще пять или десять лет?.. Будущий писатель-диссидент Виктор Некрасов получил еще в 1947 году Сталинскую премию за правдивейшую повесть «В окопах Сталинграда». И «Дни Турбиных» Булгакова МХАТ восстановил в репертуаре только по личному указанию Сталина.
Говорят, история не имеет сослагательного наклонения. Но я не могу с этим согласиться. Принять эту мысль – значит лишить нас возможности вариативности в помыслах и рассуждениях, в детальном анализе истории.
Мы не задумывались тогда о многом. В том числе о том, каким образом можно было за 2–3 месяца перевезти все заводы за Урал и буквально через считаные недели начать выпуск военной продукции для фронта! Нами это воспринималось просто как данность. А сегодня кажется фантастикой.
Как ни странно, именно творческая интеллигенция в столице была единодушна в принятии на веру всех полуправд и обличений. Чего не скажешь о простом народе, который быстро отказал Хрущеву не только в любви, но и в элементарном уважении. Словно весь исторический опыт, природная интуиция и чувство самосохранения говорили народу, что истина – глубже и шире, чем сегодня преподносится.
Как это было мне ни странно, далекий от «культурного центра» корякский поэт Владимир Косыгин (литературный псевдоним Каянта), чей отец был расстрелян в 1937-м, с пеной у рта защищал Сталина, что для нас, его московских гостей, было абсолютным нонсенсом. Мы его просто ненавидели во время жарких споров… И Каянта был в своем великодушии не одинок: очень многие люди из народа, чьи отцы пострадали в годы репрессий, готовы были это Сталину простить. За что-то другое… – чего мы тогда не понимали и что начинает проясняться лишь сегодня.
Шло время, был смещен Хрущев, под трескучие лозунги оттрубил положенное на посту генсека Брежнев… И постепенно, незаметно стали уходить люди, которые «аукались» войной. Запах кожи портупеи, кобуры на ремне и ваксы на сапогах стал выветриваться. Счастливый звон орденов и медалей на кителях ветеранов стал затихать… И постепенно то пронзительное народное единение, те кровные узы, сотворенные Великой Победой, стали нивелироваться, словно освобождая место для предательства и обмана – вольных или невольных, не имеет значения. Явилась «перестройка», начатая человеком с интеллектом секретаря крайкома максимум, которому на плечи упала вдруг огромная страна и которого столь непринужденно обманул Запад, не выполнив ни одного своего обещания! Потом, после короткой борьбы с этим растяпой и демагогом, у него выхватил кремлевскую власть человек, для которого личная амбиция и личная обида имели куда большее значение, чем будущее его родины, и напрочь отсутствовало понимание того, что стратегически-серьезное планирование не имеет ничего общего с сиюминутной популярностью. Этот его популизм, близкородственный методам предшественника, но подвластный воле большего количества поводырей, привел к окончательному распаду прежнего государства – то есть Российской державы в границах, незыблемых уже несколько столетий. Привел к обнищанию народа и разграблению страны. Это разграбление было осуществлено в таких масштабах, которые мы до сих пор еще не можем осмыслить и признать по-настоящему (а я убежден, что это необходимо будет сделать на официальном уровне).
И все-таки… все это было совершено и могло было быть совершено только при молчаливом попустительстве со стороны народного большинства. И, говоря сегодня о своей переоценке роли Сталина, я остаюсь верен своим мыслям и чувствам в отношении чудовищной инфантильности «советского народа» и в то же время цинизма и полной индифферентности, привитых народу лицемерием советских чинуш. Их фальшивыми лозунгами, их вечным враньем о великих достижениях. Их рыбьим молчанием о действительных проблемах.
Ведь именно такой – изверившийся, лишенный инициативы народ легко разграбить, разорить. Лишить исторической памяти, исказив его культурный код. И тогда окончательно растереть в пыль.
Помоги, Господи, скорей нам исцелиться!