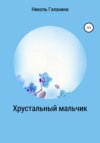Kitabı oku: «Хрустальный мальчик», sayfa 6
Анна встрепенулась и скользнула по нему мутным взглядом. Лучик света мазнул её по щеке, и она опять отвернулась и подпёрла голову руками.
– Да что с тобой не так? – возмутился Землерой.
– Всё так, всё в порядке, – монотонно пробубнила Анна, – я тут просто сижу… думаю, понимаешь ли…
– Ну и о чём таком ужасном ты думаешь?
– О том, что госпожа Дароносица правду сказала, – тяжело вздохнула Анна, – ведь, как ни крути, а я правда старею быстрее тебя. Совсем скоро я уже вообще взрослая буду и тебя перерасту, но это ничего… я всё равно буду приходить сюда и играть с тобой, как прежде. Но когда я стану старой… и не смогу больше быстро бегать… и вообще даже с кровати вставать… что мне делать тогда? И что тогда будешь делать ты? – она вскинула на Землероя полные слёз глаза и прокричала: – Я ведь умру… и ты останешься совсем один… и разве я тебе не надоем, когда стану дряхлой и не смогу больше веселиться с тобой вместе?!
Землерой опустил глаза. Вздохнув, он подвинулся к Анне ближе, и тонкий зелёный лист свалился к нему на ладонь.
– Эй, Анна, – прошептал он, – не надо о таком думать. Никогда ты меня не перерастёшь, и никогда я о тебе не забуду. Мне с тобой всё это время было весело, хоть и злился я на тебя часто… и я уже не понимаю, как вообще мог раньше жить без тебя.
– Вот-вот! – всхлипнула Анна. – А я стану старая и умру… и ты останешься один!
– Никогда я один не останусь, – убеждённо отрезал Землерой, – я буду о тебе помнить.
– С воспоминанием в прятки не поиграешь, – пробурчала Анна. – И со старухой тоже.
– Со старухой мы можем вместе смотреть, как растут молодые крольчата, – пожал плечами Землерой, – мы можем поить корни дерева, чтобы они росли крепкими и сильными, можем подкармливать мальков… и просто смотреть в небо и думать и болтать о всяком…
Анна медленно повернулась к нему. На глазах у неё всё ещё поблескивали слёзы. Землерой сосредоточенно вертел в пальцах полупрозрачный тонкий листок.
– Есть много всего, что мы можем делать вместе, Анна, – сказал он. – И ты не умрёшь так рано, как думаешь. Ты как считаешь, почему люди вообще пытались с духами сдружиться? Многие на это шли потому, что знали: дух тому, кто для него ценен, может продлить его век. Конечно, ты всё равно умрёшь, но… но мы хотя бы сможем побыть вместе немножечко дольше. И если мы расстанемся… надеюсь, мы всё равно будем вместе там, куда попадём после смерти.
Анна непонимающе покрутила головой.
– Но разве духи не… вечны?
– Ты забыла? – улыбнулся Землерой. – Я не совсем-то и дух. Я тоже когда-нибудь умру. И, если это возможно, Анна, то я хотел бы умереть одновременно с тобой, чтобы никогда в жизни не расставаться. Если честно, я… я и сам не могу пока представить, как мне существовать дальше после того, как ты меня оставишь. И я… пока я не хочу об этом думать.
– Но когда же тогда думать-то? – прошептала Анна.
Землерой лишь пожал плечами.
– Когда-нибудь… но точно не теперь. Пока ещё слишком рано об этом тревожиться, Анна. Пока давай… просто радоваться тому, что нам повезло встретиться.
Анна закрыла глаза. Нежный тёплый ветерок слегка взлохматил ей волосы.
– Давай, – согласилась она.
Скульптурная девочка
– Анна! Анна!
Анна всегда летом вставала засветло. У Землероя день начинался в четыре. Предрассветное время суток он жаловал больше всего на свете: он собирал не успевшую высохнуть росу с чашечек цветов и длинных и жёстких листьев травы, он слушал, усевшись где-нибудь под деревом в незаметном уголке, как весело переговариваются между собой ранние пташки и затихает сварливое уханье совы. Анна, протирая глаза кулаками, присаживалась с ним рядом на ещё холодную землю, и они вместе следили за тем, как завораживающе быстро и малозаметно преображается высокое тёмно-голубое небо, заволокнутое сизовато-серыми и свинцовыми тучами. Сначала где-то на границе туч и земли проблескивали золотистые нити, они разбегались во все стороны, стелились причудливыми петлями, перекрещивались друг с другом, сплетались – и создавали гигантский купол, совсем ещё хлипкий, еле выживающий под неукротимым натиском мглы. И каждый раз Анна с замиранием сердце и странным трепетом в горле глядела, как восток озаряется розоватым сиянием, и чернильный поток устремляется туда, словно стремясь задавить солнце, задушить и уничтожить его прежде, чем оно встанет.
– Так мрак сражается со светом, – любил говорить Землерой. – Когда рассвет, солнце побеждает, потому что у него сила прирастает; когда закат, солнце слабенькое, усталое, и мрак его одолевает. Но, пока мрак пытается переварить солнце в своём гигантском желудке, оно борется, накапливает мощи, и потом, когда приходит ему время снова обогреть и осветить землю, прорывается наружу, как ни пытался бы его вечный соперник этому воспрепятствовать. Вот когда солнце так захиреет, что не сможет выбраться на небосклон на востоке, и настанет конец света, и будет холодно, очень холодно. Всё кругом нас замёрзнет и умрёт.
Анна не могла отвлечься от неба. Оно было совсем не таким, как земля – скорее, однообразным, ровным, без удивительных впадин, уступов, плоскогорий, холмов и скалистых вершин; там не паслись козы, там не было пастухов, там не копошились в земле черви и не уничтожала всё на своём пути, обдавая землю ледяным дыханием, белоглазая госпожа Дароносица с ногтями-крючьями. Там всё было иначе, намного проще, как казалось на первый взгляд – но Анна уже давно глядела наверх, и всякий раз ей удавалось обнаружить над собой нечто новое: иное сплетение голубоватых линий, отграничивающих одно облако от другого; облака, причудливо складывающиеся в подобия земных предметов и существ, неровно рассыпанные иголки солнечного света. Существовали тысячи отличий, и небо никогда не бывало таким же, как в предыдущий день, оно не бывало таким же, как и позавчера, и завтра оно стало бы иным и таким же неуловимо-прекрасным.
Анна привыкла вставать до рассвета, чтобы, шлёпая по влажным пригоркам и сухим равнинам, сшибая с листьев и высоких травяных стеблей божьих коровок, как можно скорее добраться до дерева Землероя. Непросто ей это давалось: не всегда удавалось ей проснуться вовремя. Гораздо чаще случалось так, что Анна являлась к Землерою уже в полдень, когда жизнь леса ненадолго замирала под обжигающими ударами солнца, и с вздохом сообщала ему:
– Ну, снова проспала.
Бывало так, что она отвечала ему несколько иначе:
– Ну, подумаешь, маме с папой снова там что-то надо, я что тебе поделаю? Не могу ведь я им вот так прямо сказать: «Знаете, а я в лес пойду, у меня там есть друг, он дух, но вы не пугайтесь, он добрый». Да и не могу я их совсем забрасывать. Они, пусть Марию и не очень любили, после того, как Мария от нас съехала, что-то притихли. У них совсем нету настроения ничего делать, они даже не ссорятся, а смотрят в разные углы и молчат. Как по мне, то лучше бы они ссорились: они тогда хотя бы разговаривали друг с другом, а теперь они словно совсем чужие друг другу стали. Они и дедушку в упор не видят, а дедушка на них внимания обращает столько же, сколько и на стул какой-нибудь или на кочергу. Только я их и расшевеливаю как-нибудь…
Анне было двенадцать лет. Это лето выдалось ласковым и благодатным. В реках прибавилось рыбы, и на полях, которые примыкали к домам жителей окраин, взошёл обильный урожай. Все только и говорили на улицах, что о строительстве кинотеатра, большой парковки и каких-то гуляниях в лесу, и даже дедушка Анны, бывало, об этом вспоминал, только сама Анна к его словам не прислушивалась. То, что говорили в городе, пролетало мимо её ушей.
– Анна! Анна!
Сегодняшнее утро у Анны началось так, как должно было бы, если бы она хотела посмотреть с Землероем на восход солнца. Было ещё темно и прохладно; в такое время в доме не поднимался никто, кроме крепкого и немногословного дедушки, но он точно не стал бы дёргать Анну за ноги и сволакивать её с кровати, настойчиво пришёптывая:
– Анна! Анна!
К ней этим утром прокралась мать. Анна в наблюдениях своих не ошиблась: та заметно сдала с тех пор, как уехала Мария. Когда Мария жила и переезжала со всеми вместе, мать неустанно её попрекала, нагружала работой и жаловалась на неё мужу, чтобы потом устроить громкий скандал и разразиться слезами, а после жаловаться уже Анне, которая, ничего не понимая, могла только злиться на Марию и считать её первопричиной всех семейных неурядиц. Мария теперь училась и жила далеко от дома – так далеко, что звонила лишь отцу и деду и лишь по большим праздникам, из числа которых был исключён даже её собственный день рождения. Мария не досаждала больше матери Анны, и матери Анны не требовалось теперь стенать о том, что кто-то неправильно повесил шторы или не до конца разгладил складки на древнем жёстком коврике у порога; она не могла устроить штормовую истерику из-за неверно произведённой стирки, некачественной уборки или неожиданно испортившегося настроения, потому что теперь она вешала шторы, разглаживала складки, стирала и убирала сама, без раздражающей, неуклюжей Марии с её коровьим взглядом и абсолютно пустой головой. Мария больше не мельтешила у матери Анны перед глазами, и, конечно же, мать Анны должна была бы этому радоваться, ведь не было больше причин для того, чтобы на сердце повисал тяжкий груз, только вот лучше не становилось. Мать Анны по-прежнему злилась, а на что, она сама не могла толком объяснить, потому и сидела часами в неподвижности, копаясь в себе и придумывая повод для обиды. Муж, дочь и свёкор в такие часы старательно обходили её стороной.
– Анна!
Снова Анна попыталась лягнуться, но лишь утеряла равновесие и с кровати скатилась. Мать нависала над ней в полутьме и восторженно посверкивала глазами.
– Анна, тебе надо проснуться! – уверенно сказала она и руки в бока упёрла. – Ты мне очень нужна прямо сейчас, потому что мы с тобой должны хорошенько подготовиться!
– К чему? – Анна сонно протёрла глаза.
– Разве я тебе не сказывала? Сегодня тётя приезжает, с твоей сестрой приезжает, я её всё-таки уговорила, она всё-таки согласилась, значит, заживём, как приличные люди…
Анна зевнула и полезла назад на кровать.
– Нетушки, у меня сегодня дело в лесу нет, – решительно отрезала она и вслепую по постели зашарила, отыскивая синюю юбку, – хочу на рассвет там посмотреть.
– Рассветов у тебя впереди ещё целая куча, – не сдавалась мать и всё продолжала сверкать глазами, как филин – из дупла, – ещё два месяца проторчим в этой глуши непонятно для кого. Я тут всё на себе тащу, а вы, ироды, моих стараний не цените, ничего вам не надо от меня хорошего, только и можете, что кровь мою попивать, а всякий раз, как я что-то хочу сделать, чтобы напомнить себе и вам всем, что я не посудомойка вам какая… вы сразу вот так!
Анна только покачала головой.
– Мам, ну ты же знаешь, что мы тебя все любим.
Только женщин, решившихся устроить спектакль, очень сложно остановить. Мать Анны было невозможно заставить повернуть назад.
– Вижу я, как вы меня любите, – захныкала она и отвернулась, прикрывая лицо чистой белой салфеткой. – Только и попросила, что совсем чуточку, часиков до десяти, мне помочь, потом ступай куда хочешь, только не забудь с собой Иришку прихватить…
– Какую ещё Иришку?! – тут же возопила в гневе Анна. – Я ни с кем туда гулять не хожу, даже с дедушкой, а эту твою…
– Это сестра твоя, – сурово припечатала мать, явно не собиравшаяся сдавать позиции. – Сестра, поэтому ты должна будешь ей тут всё показать. Нельзя гостям давать скучать, невежливо это!
– Да их тут никто не ждёт! – Анна решительно спрыгнула с кровати и отступила в угол, упрямо супясь. – Они и сами приезжать не особо хотят!
– Они уже выехали, так что руки в ноги и за работу, – мать оставалась непреклонна, – я с сестрой пять лет не виделась, и ты с Иришкой не общалась столько же, а вы друг у друга – единственные родные, могла бы хоть немного повежливее с ней! Она-то свою мать слушается и по рассветам непонятно куда не убегает, не то что ты!
– Да тебе откуда знать, как они там друг с другом ладят? – не уступала Анна. – Может, тебе тётя просто врёт, потому что… ну, потому что она так умеет… и ещё она всегда любит показывать, какая она замечательная и какие мы все по сравнению с ней безмозглые и отсталые.
Даже в предрассветной полутьме Анна, не обладавшая таким же острым и цепким, как у Землероя, взглядом, угадала на щеках матери расплывчатые алые пятна, что явно свидетельствовали в её случае о крайней степени раздражённости.
– Хватит спорить, – приказала она, – я ведь сказала: руки в ноги. Всех вас сегодня мобилизую, хотите или нет!
Анна тяжело вздохнула.
– Если я соглашусь тебе помочь, можно будет пойти в лес?
– «Сделал дело – гуляй смело», ты же знаешь, что это моя любимая поговорка, – таинственно ответила мать и чуть усмехнулась.
Анна не сдавалась.
– Без Иришки, я имею в виду?
– Нет, без Иришки нельзя. Она ведь всё-таки гостья.
Анна с размаху прыгнула на кровать и перекрестила на груди руки. Матрас жалобно заскрипел под её весом, и тьма, наполнявшая комнату, казалось, лишь сгустилась, когда она встретилась с упрямой матерью взорами. Несколько секунд они смотрели друг на друга в совершенном молчании, лишь сопение носа рассерженной Анны разрушало напряжённую тишину между ними.
Морщины на лбу Анны, всегда появляющиеся в минуты сильного волнения и кипящей ярости, неожиданно разгладились, и Анна, испустив глубокий вздох, откинулась назад на постели.
– Ладно, – покорно сказала она, – ладно, пускай твоя дурацкая Иришка идёт со мной, только сначала я быстро сбегаю в лес по своим делам и потом её заберу.
– А вправду ли ты так сделаешь? – мать не спускала с Анны подозрительного взора. – Только удумай мне спрятаться от неё в лесу и до самого заката там торчать. Посмеешь так нахамить – честное слово, я тебя домой переночевать не пущу!
Анна только хмыкнула, хоть и дрогнули слегка её плечи.
– Да не буду я ничего такого делать, мама. Ты бы мне только позволила не всё время с этой дурацкой Иришкой возиться, и всего-то.
Мать снова скользнула по Анне подозрительным взглядом, вздохнула горестно и всучила ей в руки швабру и пустое ведро, которые прятала за спиной.
– Времени мало, – призвала она, – скорей за работу!
* * *
Анна никогда не считала, что её старшей тётушке подходит данное при рождении имя. Никакого света она не излучала: она была чопорная, кислая, мрачная, не склонная к шуткам или продолжительным разговорам на любые отвлечённые темы, которые плохо понимала. Тётушка её была человеком строгих и унылых правил и, казалось, не дарила, а высасывала всякий свет из окружающих предметов и людей. В домах, которые она посещала, неожиданно замолкал детский смех и весёлые пересуды взрослых; яркие цветастые шторы и ковры менялись на унылые и однотонные, и везде поселялась слепящая глаза правильная, безукоризненная чистота. Тётушка Анны была в миру монахиней: она не признавала коротких и свободных одежд, не повышала голоса, не держала дома животных и каких-либо предметов, что могли бы придать обжитой вид.
Анна терпеть не могла свою тётушку. Муж её был весёлым и крепким человеком, непонятно как согласившимся на жизнь среди бесконечных нравоучений, молитв и наставлений. Вот его Анна любила, но он умер рано и как-то нелепо, и Анне даже не объяснили толком, как и почему. Для себя она решила, что тётушкин муж не выдержал скуки и холодности вечно сдержанной и унылой супруги и умер попросту от скуки. В жизни случалось и не такое, как говаривал ей Землерой, сам людей почти не знавший. Анна терпеть не могла тётушку ещё и поэтому: она о муже не горевала, а словно бы радовалась, что тот умер, хотя и носила по нему траур.
– Ему открылась дорога в лучший мир, – вот как любила тётушка отзываться об его смерти.
При этом она цветов на могилу не носила и словно бы вообще не ведала, где эта могила находится, да и другим не рассказывала. Она считала, что всё знает и умеет лучше других, высоко задирала толстый нос с крупным мясистым кончиком, фыркала, подбирала складки тёмных глухих платьев и поучала всех, с кем только ей доводилось часто сталкиваться, правильному, полезному и вечному. Усерднее всего она трудилась над собственной единственной дочерью Ириной, которая приходилась Анне двоюродной сестрой (других сестёр и братьев у Анны, кроме Марии, не было). Мать Анны любила говорить, что ближе Ирины у Анны никого нет, и успешно игнорировала любые попытки напомнить ей о существовании Марии, которая, пусть и не связывалась ни с кем, кроме отца, уже почти три года, всё-таки ещё была жива и тоже являлась частью семьи.
Если мать Анны не хотела признавать Марию, то собственная сестра не желала признавать её.
Женщина с именем, подобранным на редкость неправильно, вытягивала свет из всех, кто её окружал, и отгораживалась от тех, у кого свет забрать не получалось: то ли слишком крепко прилепился он к самой натуре человека, то ли света в душе вовсе не было. Собственная младшая сестра с семьёй были для этой женщины бесполезны, вот она и ограничивала общение и запрещала Ирине даже думать о родственных встречах, обменах телефонными звонками и подарками.
Анна была уверена, что Ирину она и вовсе ненавидит.
Ирина была неживая. Считалось, что правильные девочки и мальчики всегда получают в жизни то, что нужно для счастья, и не только – считалось, что они этим радуют своих мам и пап, а для мам и пап ничего не могло быть приятнее, нежели знать, что их ребёнок растёт и развивается именно так, как написано в книжках, ничем не отличается от эталона и подаёт серьёзные надежды на то, что в будущем от него родятся такие же каменно-скульптурные дети с неподвижными лицами и совсем не детскими интересами; унылые взрослые в несоразмерных телах, которые только и знают, что учиться и вызывать у старших лёгкую зависть, ведь старшие, когда сами были такими же детьми, не получали награды за успешное участие в многочисленных конкурсах, им не дарили статуэтки за то, что они отлично играют в шахматы или назубок знают таблицу умножения. У старших тогда, в ранние годы, были разбитые коленки и носы, шумные друзья, бесконечные игры во дворе и такие же взрослые над душой, которые отчаянно хотели бы вырастить из них каменно-скульптурных мальчиков и девочек, выигрывающих в соревнованиях, получающих жёлтые кругляшки на шею и таких же каменных, только неподвижных человечков в подарок, не буйствующих на улицах и не радующихся закату.
Ирина росла скульптурной девочкой. У Ирины было шесть жёлтых кругляшек в комнате – они свидетельствовали о том, что Ирина отлично умеет читать стихи и решать уравнения, неподвластные обычным Аннам. У Ирины было восемь толстых веленевых листов за стеклом, которые подтверждали бесчисленными синими печатями, что Ирина ещё и умеет писать сочинения о том, насколько прекрасен и обилен родной край, который она, растущая в тёплой клетушке-квартире, никогда толком-то и не видела. У Ирины были одни пятёрки в журнале и ещё одна школа, куда она ходила, потому что её матери нравилось с томным видом окутывать голову платком и шагать под звон колоколов в часовню, а потом блаженно улыбаться молитвам, смысла которых ей было не понять. Ирина тоже покрывала голову платком, кланялась, крестилась и часто пела в хоре, пока была совсем маленькой и могла носить бесформенное одеяние, придававшее ей сходство с ангелом.
Мать Ирины любила говорить каменным холодным голосом, что Ирина похожа в этом одеянии на ангела, потому что у Ирины было такое же каменное и ничего не выражающее лицо, широкая улыбка, приклеенная к губам, и какая-то вековая печаль и усталость в глазах, как будто бы через все эти испытания ей довелось пройти уже не однажды и она давно устала искать сострадания в земных родителях.
Ирина была идеальной девочкой. У неё было одинаковое количество мальчиков и девочек среди друзей. Когда они выходили прогуляться, мать Ирины могла быть спокойной: ровно в обозначенное время вся компания появлялась на пороге и никогда не приносила лишней грязи, боли и царапин, а равно с тем – неприятных историй – в дом. Ирина никогда не получала двоек и не нарушала правила.
Ирина была скульптурно-стеклянной девочкой, растущей под стеклянным колпаком в бескрайнем мире, и она могла наблюдать за миром лишь сквозь всё искажающую призму этого стекла.
Ирина пыталась пообщаться с Анной.
А Анна бежала от Ирины, как от зачумлённой, чтобы на неё не перекинулась эта удушающая холодность, всё разрушающая в своих слишком крепких объятиях; всё замораживающая и не выпускающая, раз ей удалось схватить, ничего. И Ирина не бежала за Анной, а смиренно сидела у себя где-нибудь в уголочке и ждала, пока Анна вернётся, потому что к Ирине всегда приходили, если она была необходима.
А если Ирина не была кому-нибудь необходима, она не особенно расстраивалась: у такой скульптурно-стеклянной девочки, как она, было полным-полно увлекательных занятий: рисование, игра на пианино, пение, математика, декламирование стихов и долгие разговоры о чём-то с такими же скульптурно-стеклянными, как она, детьми – взрослыми в несоразмерных телах и с вековой усталостью в глазах.
Анна терпеть не могла Ирину – а вот теперь Ирина к ней приехала, вернее, её привезла, как невесту на смотр, высокая, тощая, угрюмого вида мать в тёмном глухом платье и представила, как будто бы Анна и Ирина встречались впервые.
– Позаботься о ней, – скомандовала мать Анны и увлекла сестру пить на кухню чай, пока та не успела передумать и убежать: а она, бывало, так делала, если неожиданно являлась, видимо, сама не до конца понимая цель своего визита и большей частью души желая этого визита избежать.
И Анна, и Ирина остались друг напротив друга, с недоумением похлопывая глазами.
Ирина была маленькая – на двенадцать лет она совсем не выглядела. Видимо, как Анне подумалось, она нарочно осталась такой крошкой и упрямо отказывалась расти, чтобы пролезать в бесформенное одеяние и без устали радовать свою мать, которой очень хотелось бы хвастаться перед всеми идеальной дочерью. У Ирины были круглые водянистые глаза и чуть припухлые щёки, и она вовсе не была белокурой, а потому, как Анна упрямо считала, на роль ангела отнюдь не подходила. У Ирины были светло-каштановые волосы, они были короткими и совсем не вились, но стояли кругом головы, обрамляя её, точно пух – головку одуванчика. У Ирины были слишком короткие пальцы с нестерпимо розовыми ногтями, и она, когда улыбалась, показывала длинный ряд мелких и чуть заострённых зубов. У них в роду у всех были такие зубы: и у самой Анны, и у её матери, и у тётки, – только у Ирины зубы не казались такими хищными. Она разговаривала тихим голосом, чуть ли не пришёптывая, и Анна не помнила, чтобы Ирина когда-то впадала в гнев. Когда её что-то не устраивало, она хмурилась, краснела, что-то бормотала и упирала руки в бока, а потом, если на неё наседали упорно, уходила в молчаливую оборону, садилась где-нибудь в уголке и начинала выдёргивать по одному собственные волосы.
Ирина не любила кинотеатров, выставок и шумных площадей. Она любила библиотеки, тихие заурядные фонтанчики и нагретые солнцем опушки лесов. Именно поэтому в первую очередь Ирина попросилась с Анной в лес.
– Вот уж нет! – отрезала Анна и оттолкнула сестру от себя. – Сначала пойдёшь в кинотеатр и посмотришь там, что идёт, а я пока к другу сбегаю и вернусь.
– Но я тоже в лес хочу, – прошелестела Ирина, – очень хочу, и я знаю, что ты туда побежишь, пока я в кинотеатре буду.
– Да иди ты, много знающая выискалась! – сплюнула Анна и резво развернулась кругом своей оси, только чтобы сестры не видеть. – Я тебе говорю: посмотри пока фильм, у нас только что кинотеатр открылся, все хотят там побывать, а ты как дикая – леса ей подавай. В отшельницы собралась, что ли?
Ирина надулась и отвернулась. Она не умела спорить, в особенности с Анной, и в разлуке она этому, конечно, не могла научиться. И всё-таки Ирина, конечно, мирно добилась бы своего, ведь такой идеальной девочке невозможно было отказать, даже не любя её, если бы только неожиданно не вмешалась её мать.
– И вправду, – стальным голосом сказала она и свысока посмотрела на Анну, – мы сегодня только приехали. Можешь сходить в кинотеатр и поглядеть, что в этом городе показывают, – однако Иринина мать говорила так, словно бы считала просмотр фильмов на большом экране самой жуткой, самой страшной и самой гадкой грязью на свете, хуже даже предательства семьи, близких и родины.
Девочки повернулись друг к другу. Ирина с мольбой сложила руки и выставила вперёд нижнюю припухлую губу, но Анна осталась непреклонной.
– Пойдёшь в кинотеатр! – сказала она, и на том было решено.
Кинотеатр совсем недавно начал свою работу, но на входе было не так много людей, как Анна привыкла видеть в самые заурядные выходные в родном городе. На кассе, окружённой цветастыми буклетами, плакатами и всевозможными бросающимися в глаза безделушками, сидела молодая улыбчивая женщина в красном берете и продавала хрустящие белые карточки билетов. Над головой у неё горели красным буквы, складывающиеся в название фильма, который сейчас показывали в полутёмной широкой зале.
Анна уверенно подошла к кассе и подтянула следом Ирину. Та осматривалась широко распахнутыми глазами, будто бы никогда прежде ничего подобного не встречала, чуть слышно ахала и даже не шагала, а словно скользила по земле, едва не падая. Анна поморщилась и с неохотой приняла на себя большую часть веса сестры.
– Нам один билетик, пожалуйста, – с ангельской улыбкой, сладким ангельским голоском попросила Анна и подтолкнула к билетёрше мятую, влажную от пота купюру, которую так долго и упорно сжимала в руке. – Пожалуйста, как только начнётся новый фильм, что там у нас, кстати…
Билетёрша, улыбаясь, назвала мультфильм, который показывали совсем маленьким детям, даже не шестилеткам. Анна только шире заулыбалась.
– Отлично, нам подойдёт. Вот, это моя сестра, она только приехала, – Анна склонилась над столиком билетёрши и зловеще зашептала: – Она совсем тут ничего не знает, а мне надо кое-куда срочно сбегать, и я была бы очень рада, если бы вы проследили, что она верно села и никуда не потерялась.
Билетёрша лишь накрашенными глазами похлопала, а потом кивнула. Даже в таких маленьких и затерянных кинотеатрах, как этот, едва успевших открыться, женщины часто оставляли своих маленьких детей, а сами бежали в магазины или к подружкам; братья и сёстры – надоедливых младших, мужья и жёны – своих супругов; даже влюблённые парочки расставались на самом пороге полутёмного таинственного зала, а уж воссоединялись ли они потом, билетёрша не знала, да и знать ей не особенно хотелось: печальной новости старается бежать всякий.
Итак, Анна убедилась, что двое улыбающихся, отменно вежливых сотрудников кинотеатра препроводили не особенно сопротивляющуюся, но невероятно грустную Ирину к её месту и усадили в самом центре зала. Анне удалось выбрать отличное место: этот мультфильм не особенно желали смотреть даже шестилетки.
– Эм… может, подождёте следующего сеанса? – улыбаясь всё такой же приклеенной улыбкой, предложила красивая билетёрша в красном беретике. – Как раз будет идти фэнтези для девочек вашего возраста, наверняка будет полный зал зрителей!
Анна подумала, посмотрела на часы и помотала головой. Ирина уже надёжно угнездилась в своём одиноком ряду в центре зала, куда постепенно начинали проникать разморённые жарой мамаши с крошечными детьми и усталые, красные, потные папаши, которых донимали непоседливые сыновья.
– Не, – отказалась Анна, – этого ждать слишком долго, да ей и без разницы, что смотреть. Я быстро вернусь, туда и обратно, но вы всё равно посмотрите за ней, ладно? Пусть никуда не уходит, пока я не вернусь, не то точно потеряется…
«И мне шибко от мамы с тётей влетит», – испуганно закончила она про себя и сурово поглядела на красивую улыбчивую билетёршу.
– Не беспокойтесь так, – сказала та в ответ и уверенно кивнула, – у нас ещё никто в городе не терялся.
Анна не стала и дальше тратить время: в единственном таинственном зале, где только что разместили Ирину, совсем погас свет и раздалась громкая музыка: фильм начинался. Анна развернулась и тотчас бросилась бежать; даже не попрощалась с билетёршей, не поблагодарила – оборвала беседу и кинулась со всех ног на улицу, которой постепенно начинала завладевать летняя истома.
Анна мчалась в жару и поту, спотыкаясь о собственные ноги. Солнце уверенно взбиралось выше и выше, к своему зениту, в ореол из двух облаков с перистыми краями, его лучи резали, плавили, беспощадно сияли ярким, безжизненным, бессердечным и бесстыдным жёлтым с примесью оранжевого по краям. По улицам города, совсем недавно не ведавшего ни машин, ни заводов, катились, натужно пыхтя, чьи-то серые от пыли легковушки, и они даже создавали маленькие пробки на изгибах улицы, когда загорался предупреждающе алые свет маленького кривого светофорчика. Где-то, где размещался центр, похожий на раздавленного жирного паука, не уставая, ворчали и извергали в небо, подкисляя его и выпадающие осадки, трубы единственного на весь город завода. Многие мужчины, что считали себя коренными горожанами и понимающими полноту прелести научно-технического прогресса, заявляли с уверенными и напыщенными выражениями масляных лиц, что, разумеется, лишь благодаря заводу город не только оживился – «воскрес из пепла», это было их любимое выражение, – но и стал всё увереннее и громче заявлять о себе.
А город по-прежнему то не отмечали на картах, то упрямо прозывали посёлком городского типа, а то и вовсе – селом, что даже для коренных горожанок, совсем пожилых бабушек, было оскорблением.
– Мы при прежней власти городом были, а теперь нас в колхоз записывают? Ха! А дальше что – землю пахать?
И горожанки могли злиться, а благообразные, уверенные в себе и несколько полноватые мужчины с портфелями – верить в счастливое будущее, да только толку от этого особенного пока не было, и не особенно это кого-то задевало, если не считать их самих и их родственников, устававших от однообразных жалоб и безадресных претензий.
А Анна бежала по сужающимся, пыльным, неухоженным дорожкам по весь опор, и под её подошвами путь словно бы плавился. Солнце било лучами ей в глаза, как будто стреляло прицельно, и ветер бросал ей в лицо сухие скрюченные листья. Анна сердито отмахивалась от листьев, от зудящих мошек, от слишком ярких лучей-стрел и бежала дальше, пускай лёгкие у неё словно горели, а сама она топала, как заправский слонопотам.
Наверное, это сам лес не хотел пускать её под свою молчаливую тёмную сень – но это не было таким уж точным заявлением. Анна проникла под первые лесные кроны, когда солнце заслонила громадная, как замок, и широкая, как река, туча, и над городом вдруг стало темно, тихо и прохладно.