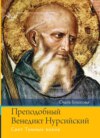Kitabı oku: «Преобразователь»
Не успев стать людьми, захотели стать богами.
Святой Ириней Лионский
Итак, Вилли, давай мы с тобой будем честно расплачиваться со всеми людьми, особенно с Дудочниками. И когда они избавят нас своей игрой от крыс или мышей, если мы пообещали им что-нибудь, выполним свои обещания.
Роберт Браунинг. Пестрый дудочник
Пролог
Пробирка вдребезги разбилась о кафельный пол. Марк Михайлович на секунду зажмурился и представил себе, что эта доза препарата первая и последняя. Что это – все. «Все» – значит нет и не было старинного манускрипта с путаной рецептурой на жаргоне Альберта Великого, долгих ночей и вируса, вызывающего мутацию у черных крыс, из крови которых и нужно готовить сыворотку…
Марк Михайлович открыл глаза и усталым жестом стянул с лица хирургическую маску. Ему вирус не опасен, рядом, в металлическом контейнере, лежат еще девять пробирок с точно таким же веществом. А приготовить их он может хоть тысячу, потому что здесь, в этом грязном азиатском городишке, таким вирусом заражена каждая вторая помоечная крыса, а рецепт тинктуры столь прост, что освоить его под силу любому студенту из Менделеевки. Собрав осколки и подтерев маленькую лужицу, он взял одну из пробирок и поднес к глазам. Чудесная голубоватая жидкость плескалась в ней, жирно сползая по стенкам, как хороший коньяк. Вот она, истинная Aqua Vitae 1 древних – вожделенный Преобразователь Гильдии, метаморфинол Успенского. Вода жизни, которая без вируса превращается в воду смерти. Марк Михайлович достал с полки замысловатую коробочку и, открыв ее, аккуратно вложил в нее пробирку. Потом ловким движением повернул ее вокруг своей оси и в открывшееся новое отделение вложил другую пробирку – культуру того самого вируса. Щелкнула скрытая пружина, и флаконы с живой и мертвой водой оказались внутри. Теперь достать их, не раздавив, мог только тот, кто владел секретом, а определить, какая из пробирок должна быть употреблена первой, – только тот, кто хоть раз в жизни…
В этот момент дверь распахнулась, и последнее, что увидел Марк Михайлович, было дуло пистолета, нацеленное ему прямо в лоб. Через несколько минут мощный взрыв потряс дом, и лишь дикие крики случайных свидетелей прорезали душную пустоту тропической ночи.
И никому не было дела до огромной черной крысы, метнувшейся от пожарища в сторону старого мусульманского кладбища.
Глава 1
Как я переехал, не помню…
Хотелось пить. Жара на Гоголевском бульваре стояла невообразимая. Я развалился на лавке и разглядывал свои замечательные летние, сшитые на заказ ботиночки из тонкой и гладкой как шелк кожи. Наверное, такие ботиночки получались у фашистов из человечины – и ничуть мне не жалко этих человеков, угодивших под маховик национального романтизма белокурых бестий.
Мне сегодня вообще никаких человеков не жалко – себя в том числе. Мне жарко, и жажда справедливости, клокочущая в моей груди свирепым вулканом, смешивалась с жаждой холодной чистой воды. Целым бассейном чистой воды, таким, который ждет и не дождется меня где-то в районе Новорижского шоссе. При воспоминании о так безумно утраченном мною имуществе острое шило ненависти к негодяям, лишившим меня всего, больно кольнуло меня под сердце, и сердце мое заболело уже не в переносном, а в самом кардиологическом смысле этого слова.
– Убью, найду и убью, – пробормотал я и, воровато оглянувшись, поднял с тротуара почти свежий окурок с налетом розовой помады. Зажигалку у меня, как ни странно, не отобрали, и она – остаток былой роскоши – приятно оттягивала карманы моего английского пиджака из светлого льна. Хлопнув золотой крышечкой, я закурил. Окурок оказался ментоловым, что приятно освежило мое пересохшее от зноя и ненависти горло. Я снова прикрыл глаза, уставшие от беспощадного солнца, и предался воспоминаниям.
… Они зашли ко мне в кабинет без доклада. Куда смотрела охрана, где сгинула секретарша и почему никакой добрый гений не нашептал мне об опасности, я не знаю. Их было трое: Клото, Лахесис и Атропос 2, впрочем, на этот раз они материализовались в моей судьбе несколько по‑трансвеститски: двое мужчин и одна женщина. Одного из них я знал: это был соучредитель нашей нефтяной компании, другого, возможно, где-то видел, женщина же была мне абсолютно не знакома. Я посмотрел им в глаза по очереди и, осторожно втянув носом воздух, догадался, что мой час икс настал. От них веяло хорошо знакомыми ароматами силы, богатства и неопределимой общности то ли происхождения, то ли интересов, то ли… Наверное, это и есть запах могущества. По крайней мере, большинство сильных мира сего, которых я знал или видел, обладали именно этим странным и общим запахом. Да и что тут говорить – я сам так пахну. Или пах до недавнего времени. Трудно теперь сказать: без привычного душа стройный этюд моих запахов превратился в жуткую какофонию с сильной доминантой пота и ужаса.
Спустя десять минут я наконец осознал, что меня банально подставили. Откуда взялась моя подпись на банковских документах, согласно которым я украл пять миллионов долларов, переведя их на Карибы, я никогда не узнаю. Но подпись была моя – или кто-то гениально ее воспроизвел. По крайней мере, вежливый и несколько опечаленный случившимся соучредитель Александр Яковлевич Лозинский приложил к оригиналу злосчастной бумаги результат графологической экспертизы, который гласил, что вышеозначенная подпись идентична прилагаемому образцу и с уверенностью в 98,2 % принадлежит тому же лицу, которое… в общем, мне. Стервозная тетка, благодаря ботоксу застрявшая на пороге сорокалетия, как муха в смоле, оказалась пострадавшей стороной и главным свидетелем обвинения. Помахивая наманикюренной клешней перед моим безукоризненным римским профилем и едва не задевая мою прекрасную есенинскую челку, она безапелляционно заявила, что я присвоил эту кругленькую сумму буквально у нее на глазах, а она, несчастный финдиректор, вынуждена была смолчать, так как я пригрозил ей увольнением, а ее невинным малюткам лютой гибелью.
В этот момент все происходящее наконец обрело некий смысл. Я понял, что не сошел с ума и не украл у самого себя (пардон, забыл представиться: Председатель совета директоров нефтегазового концерна «Нефть» Сергей Георгиевич Чернов) никаких миллионов. Я понял, что действительно вижу эту Антропос в первый раз, а сопровождающего ее господина Лахесис– в сотый. Меня разыграли как по нотам, потому что я или что-то узнал, или чего-то не понял.
Я изобразил удивление и, глядя в лучистые черные глаза Александра Яковлевича, так гармонирующие с нежно-голубым воротом его рубашки и темно-розовым галстуком, сказал, что вины своей не признаю, милую даму вижу в первый раз, но готов к конструктивному разговору о том, что нам всем теперь делать.
– Милый Сережа, – вздохнул Александр Яковлевич и, приподняв невесомые очки с платиновыми дужками, потер переносицу безымянным пальцем, – я верю тебе, но вынужден склониться перед фактами. Поэтому ты сейчас подпишешь дарственную на свой дом, квартиру и автомобиль – и будем считать, что мы в расчете. С сегодняшнего дня мы освобождаем тебя от занимаемой должности по твоему собственному желанию. Все учредители согласны.
В этот момент я зачем-то оглянулся и посмотрел в окно. Вечернее солнце, набухнув золотом, яростно светило мне в спину. Оцинкованные крыши старых доходных домов расстилались передо мной, а над ними опрокинутой чашкой жирно посверкивал ребристый купол Храма Христа Спасителя. Ощущение потери возникло в области солнечного сплетения и, проникнув в кровь, побежало по венам и артериям, сея панику, подобную смерти. «Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: “Взойду на небо…”»
Я взглянул на свою руку, придерживающую жалюзи, и, заметив мелкую дрожь, усилием воли заставил себя отпустить ни в чем не повинную веревку подъемного механизма. Полоски схлопнулись как веер, золотое сияние померкло, и я обернулся к терпеливо наблюдавшим за мной людям. К моему удивлению, подлый претендент на мою должность и невесть откуда взявшийся финдиректор исчезли из моего кабинета, а Александр Яковлевич, сняв очки, теперь вертел их перед собою. Я рассмотрел старческие вены на его маленьких аккуратных ручках, которые я помнил с детства, перевел взгляд на умный лоб с высокими залысинами, в очередной раз удивился ресницам Лозинского и вновь обнаружил его сходство с кротким ликом святого Иосифа с картины Лукаса Кранаха Старшего «Святое семейство». И тут я увидел, что Александр Яковлевич действительно взволнован и очень переживает. То ли его смущала сложная роль Иуды, то ли он действительно ничего не понимал, то ли…
Александр Яковлевич наконец отложил в сторону свои очки и, посмотрев мне в глаза, промолвил:
– Сережа, Сереженька… Мне очень тяжело теперь. Факты говорят против тебя, и мне трудно сейчас что-либо сделать… Но я очень прошу тебя, в знак нашей долгой дружбы и в память твоей покойной матери, признаться мне – уверяю, это останется между нами, – зачем, все-таки ты это сделал. И еще. Если ты честно расскажешь мне о завещании своего отца, может быть, я сумею помочь тебе разобраться в сложившейся ситуации. – Произнеся это, Александр Яковлевич снова потянул к себе очки.
Я уловил флюид правдивой мольбы, исходившей от него, и окончательно перестал что-либо понимать. То, что в какой-то момент кто-то решил свои проблемы за счет меня (допустим, даже почти заменивший мне отца Александр Яковлевич), я еще мог понять. Но причем здесь моя мать и мой милый папа, которого я отродясь не видывал? Я и имя-то его узнал из собственного свидетельства о рождении, которое нарыл у маменьки в ридикюле лет осьми от роду. Да и запах! Запах невозможно подделать. Запах правды. Ведь когда человек врет, запах его меняется, как меняются давление и пульс. Мозг не любит вранья. Вранье – это сбой в картине мира. Хакерство в программе. Вмешательство в систему ценностей и координат. Поэтому врать надо умеючи, ежели правду сказать никак не получается. Но все говорило мне, что сидящий напротив меня пожилой и очень уставший человек правдив настолько, насколько вообще может быть таковым.
– Сережа, я попытаюсь растолковать… Сережа, не происходило ли с тобой чего-то странного, необъяснимого? Может быть, у тебя были такие состояния, если можно так выразиться, в момент которых ты превращался, так сказать, в м-м-м…
– Давайте начистоту, Александр Яковлевич. Вы думаете, я псих и в какой‑то момент, сбрендив, подписал эти бумаги. Или я употребляю наркотики, под воздействием которых я и… спер эти миллионы. Но я не ширяюсь и не нюхаю. И собаки у меня не лают и руины не говорят, что, может быть, свидетельствует о моей исключительности. И дедушка не сумасшедший, впрочем, ни одного своего дедушки я не знаю. Да и по ночам, насколько знаю, в оборотня не превращаюсь. И депрессии у меня не было. И в казино я не играю. У меня вообще все хорошо… было. До сегодняшнего дня. У меня никогда не было проблем! Понимаете, Александр Яковлевич? Понимаете, я спрашиваю? Никогда! – воскликнул я и сам испугался. Мы с Александром Яковлевичем уставились друг на друга и замолчали.
А ведь действительно, дожив до тридцати трех лет, я не помнил никаких проблем. Ну, таких, из-за которых обычно пьют, плачут, колются и одалживают деньги.
Я машинально забросил в угол рта сигарету и закурил. Мой собеседник молчал и крутил в руках очки. Увидев, как я курю, он непроизвольно поморщился, и во взгляде его мелькнуло что-то странное.
– И тебе нравится курить? – неожиданно спросил он тихим голосом.
Тут я сообразил, что раньше никогда не курил при нем. Ни дома, ни в офисе, нигде.
– Да не то чтобы нравится, но так, успокаивает, – я помахал сигаретой и вдруг вспомнил, что теперь я нищий.
– Так что же, Сережа, ты так и не расскажешь мне о завещании отца?
Я смотрел на белеющие в золотистых лучах солнца струйки дыма и абсолютно не понимал, о чем речь. Кому как не Александру Яковлевичу, старинному другу семьи и, скорее всего, любовнику моей матери, не знать, что никакого отца у меня нет. То есть, конечно, биологический папашка где-то обретается, но мать никогда не говорила мне о нем, впрочем, как и о других родственниках. Но сквозь плотную вату паники, облепившую мой мозг, ко мне все же пробилась мысль о том, что по некой причине все происходящее странным образом связано не с пропавшими долларами и ушедшими налево баррелями, а с неким мифическим для меня завещанием. Мать моя заживо сгорела в автокатастрофе, не оставив после себя ни записочки, про отца я не знаю ничего, не уверен даже, что отчество мое подлинное, а не сочиненное матерью в роддоме для заполнения пустой графы. Но по неведомым мне причинам группа товарищей неожиданно сбрендила, вообразив, что я обладаю завещанием папы-Билли Бонса, и скрываю от своих друзей и благодетелей по меньшей мере карту острова сокровищ, а по большей – вакцину от рака или СПИДа, уж не знаю. Короче, зажал, падла, и делиться не хочу. Ну, раз предполагается, что есть чем делиться, значит, будем торговаться.
– А что рассказывать-то? – я улыбнулся застенчивой улыбкой гомосексуалиста, подсмотренной мной на одной из вечеринок, и ласково погладил ладонью дубовый подлокотник своего любимого кресла.
– Сережа, не дури. Где бумаги – это раз. Второе – какие необычные состояния и в каких случаях ты испытываешь? – тон моего визави стал почти угрожающ, и я почувствовал волну злости и тревоги, излучаемую им.
– Не скажу, – ответил я и про себя махнул рукой. Имущества они меня уже лишили, но, раз твердо убеждены, что я знаю что-то еще, ощутимого вреда моему здоровью не нанесут. А вдруг будут пытать утюгом? Я вздрогнул и поежился. Становилось страшно.
– Сережа, ты не оставляешь мне выбора. Я не понимаю, почему ты не хочешь сознаться мне в том, что и без того нам известно. Нам нужны твоя добрая воля, твое согласие, понимаешь?
Я ровным счетом ничего не понимал, но признаваться в этом не имело смысла: все равно бы Лозинский не поверил. Поэтому я снова покачал головой.
В тот же момент Александр Яковлевич неожиданно легко перегнулся через мой стол и нажал кнопку вызова секретарши. В кабинете появились уже знакомые мне лица, только в руках у женщины был небольшой чемоданчик. Мужчина зашел мне за спину и, пока я соображал, что к чему, ловко приставил к моему виску пистолет. Наверное, пистолет, потому что самого оружия я не видел, но зато ощутил прикосновение чего-то металлического, тяжелого и прохладного к моей голове.
– Не двигайся, – процедил он, и я замер, ощущая неловкость и недоумение от абсурдности происходящего. И страх, конечно.
Александр Яковлевич не спускал с меня глаз и, как мне казалось, сам явственно чуял, что я боюсь. Я боялся не только смерти. Я боялся, потому что я окончательно перестал что-либо понимать.
Тем временем женщина раскрыла чемоданчик и извлекла из него одноразовый шприц и коробочку с ампулами. Привычным жестом вскрыв упаковку, она щелчком выбила из нее ампулу и, ловко свернув ей головку, стала медленно наполнять шприц неизвестной дрянью.
– Сережа, подумай, не заставляй нас прибегать к крайним мерам, – увещевал меж тем Александр Яковлевич.
Из какого-то безнадежного и тупого упрямства я снова мотнул головой, правда весьма осторожно, чтобы мой страж не принял этого жеста за сопротивление и случайно не нажал курок. По моему лицу градом катился пот, колени противно дрожали, а глаза визитеров не отрываясь следили за мной.
Закончив возню со шприцем, женщина подошла ко мне и принялась засучивать рукав моего пиджака. Невыносимый панический ужас сковал меня при виде шприца. С детства я боялся уколов и ненавидел их, как и вообще все, что могло причинить мне боль и нарушить целостность моей драгоценной шкуры. Наркомания была для меня абсурдом, ибо ни за какие блага мира я не мог бы пересилить отвращение ко всему, что может мне повредить. Нет, я не был трусом в собственном значении этого слова, но некий страшный, неподвластный разуму инстинкт заставлял меня отвергать все, что могло бы причинить мне вред. Я никогда не мог решиться на бессмысленный и неоправданный риск, за что мои одноклассники, а позже и однокурсники, слегка меня презирали. Я терпеть не могу экстрима в любой форме.
От женщины не исходило практически никаких парфюмерных и химических запахов. От нее пахло… Нет, не женщиной. Вернее, женщиной, но иначе, чем от других женщин. Женщины по запаху делились на разные категории: ухоженные, дорого пахнущие фемины и замученные дешевыми дезодорантами и духами тетки. Пару раз мне встречались дамы без личного запаха женской плоти, но они пугали меня своим звериным оскалом. Эта принадлежала к последним. И от нее исходил запах злобы и лекарства. Этого страшного и невыносимого лекарства. Я в ужасе дернулся, пистолет уперся мне в висок, мои пальцы вцепились в ручку кресла, а игла, легко проколов мою плоть, въехала в вену. В шприце заклубилась кровь, Атропос, как и положено мойре, нажала на поршень, и я потерял сознание.
Очнулся я утром, часов в семь. Судя по намертво затекшим суставам, я провел большую часть ночи лежа на чем-то твердом. Например, на скамейке. Я со стоном поднялся и сел.
И тут меня накрыло. Сначала нахлынула волна звуков, которая ворвалась в мой мозг и, спазмировав сосуды, растеклась по нейронам гудками, топотом, визгами тормозов, шелестом листвы, голосами, шуршанием шин, шарканьем ног и цоканьем каблуков.
Следом притекли запахи выхлопных газов, потных тел, мусорных бачков, сигаретного дыма, горелого масла, духов, кошатины и бензина.
А потом пришла боль. Страшная своим бессилием что-то изменить, вернуть и исправить. Тугая петля сдавила голову, перед глазами расплылись цветные пятна, а к горлу комом подступила рвота. Я обхватил руками лицо и упал на четвереньки, прямо на асфальт. Наверное, подобным образом протекает абстинентный синдром. Суставы выкручивало и корежило, самого меня трясло так, что зубы клацали, а внутренности сводило судорогой с такой силой, что болели даже натренированные мышцы пресса. Из желудка потоком извергалась вонючая слизь с остатками вчерашнего ланча.
Неожиданно боль в голове стихла, словно кто-то нажал на кнопку. Я поднялся с колен и попытался отряхнуть с ладоней налипшую на них грязь и блевотину. Отряхнуть было нечем. Я беспомощно оглянулся, и взор мой упал на пучки жесткой травы, клоками торчащие из густого слоя торфяной смеси. Когда коммунальщики делали вид, что благоустраивают территорию, они решили, что растения могут расти в торфе, и щедро покрыли им землю. В результате бурно всходящая трава сгорает на солнце буквально через три дня. Этой же повезло. Видимо, семена упали в родную московскую глину, где благополучно произросли. Я дернул на себя клок и попытался хоть как-то стереть с рук эту мерзость. Руки приобрели загадочный зеленовато-коричневый оттенок, следы блевотины исчезли, но запах остался. И вкус во рту тоже. Я снова оглянулся и краем глаза увидел, что на меня сквозь закрытое боковое стекло припаркованного на бульваре автомобиля внимательно смотрит незнакомый мужчина. Встретившись со мной взглядом, он отвернулся, машина мигнула поворотником и тронулась с места.
Боюсь, я опять все понял неправильно. Жажда меня мучала нестерпимая. Оглядев себя с ног до головы, я убрался подальше от заблеванной мной лавочки и пристроился в теньке. В ближайшей урне недопитых банок и бутылок не оказалось. Мелкая противная дрожь все еще периодически потряхивала меня, а на пиджаке с внутренней стороны локтевого сгиба предательски ржавели засохшие следы крови. Я осторожно закатал рукав и обнаружил вокруг вены огромный багровый синяк. Полный аут. Ладно.
В конце аллеи показались две девушки вполне подходящего вида. Типа студентки гуманитарного вуза. Сойдет. Когда они подошли ближе, я, схватившись за сердце, вышел им навстречу и, одарив их улыбкой умирающего героя, вполне сексуально прохрипел, стараясь находиться с подветренной стороны:
– Девы, помогите Бога ради. У меня с сердцем плохо стало, а тут какая-то гопота бумажник стырила. Купите водички, а? Я хоть таблетки запью…
В принципе я не помню, чтобы девушки мне отказывали. Мой средиземноморский загар и взгляд из-под челки, проникающий в самую душу не подвели и сейчас. Девушки ойкнули, хихикнули, заметили что-то про опохмел и предложили дойти с ними до палатки возле метро. Я сделал пару шагов, снова схватился за сердце и опустился на первую попавшуюся лавочку.
– Не могу, девчонки. Вправду болит…
В глазах девушек мелькнуло сочувствие, смешанное с сомнением. Но победило первое. Они метнулись к палатке и вручили мне долгожданную пластиковую бутылку с водой. Аж пол-литра.
Я их поблагодарил и хотел было уже откланяться, когда одна из них вдруг как-то странно посмотрела на меня. На ее лице мелькнуло недоумение, словно она что-то увидела или вспомнила. Ей было лет восемнадцать, у нее были не очень правильные черты лица, коротковатый, на мой вкус, и немного вздернутый носик, влажные серые глаза с поволокой и нелепо торчащие во все стороны волосы из криво причесанного короткого хвостика. Я услышал слабый запах, такой знакомый мне, запах, который был у женщины со шприцем. Я невольно вздрогнул, девушка посмотрела мне в глаза и, смутившись, быстро опустила ресницы.
– Как вас зовут? – я словно услышал свой голос со стороны. – Кого мне благодарить как спасительницу?
– Мария, – услышал я в ответ и, прежде чем успел что-то сообразить, увидел, как она схватила свою хихикающую подружку за руку и потащила прочь от меня, обратно к метро.
– Мария, – повторил я и посмотрел ей вслед. Какие-то неясные воспоминания или ассоциации туманились у меня в голове. Она обернулась, и наши глаза снова встретились. Ветер донес до меня слабый аромат ее кожи, аромат, лишенный привкуса духов и косметики.
Вспомнив о том, что еще пять минут назад умирал от жажды, я вернулся на скамейку и, сорвав синюю крышечку, жадно припал к пластиковому горлышку. Когда я опустил бутылку воды, там оставалось совсем на донышке. Неэкономно как-то я пил, по старинке. А надо бы привыкать к новой жизни.
При мыслях о новой жизни гнетущее нехорошее чувство собралось посетить меня вновь, но я отогнал его встречным желанием покурить. Это было несколько проще, чем добыть воду, и только я собрался прогуляться вдоль урн, как возле меня на скамейку опустилась женщина. Она была закутана в нелепую шаль, из-под которой выглядывала длинная цыганская юбка. Но от нее исходил терпкий аромат модных духов, и я подуспокоился, в то же время удивляясь обилию душевных переживаний, посетивших меня за последние сутки.
Тем временем претенциозная молодая леди вытащила из необъятной сумки золотой портсигар, громко щелкнула крышкой, извлекла длинную сигарету и не глядя вручила ее мне. Я благодарно хмыкнул и ответным жестом протянул зажигалку. Дама кивнула и, с удовольствием затянувшись, повернулась ко мне.
У нее оказалась прекрасная кожа оттенка кофе с молоком, глаза цвета персидской ночи и нос, вызывающий стойкую ассоциацию с лошадью арабской породы. Для непосвященных поясню: длинный, тонкий с едва наметившейся горбинкой и немного уклоняющийся книзу на конце. Короче: нос арабской лошади, и точка. Вообще, она была вся как лошадь – тонкая, нервная и норовистая. Не люблю лошадей, но тут я понял страсть Алексея Вронского как к Карениной, так и к своей несчастной кобыле.
– Я Анна, – молодая женщина улыбнулась, показав краешек ровных, похожих на крупный жемчуг, зубов.
– Сергей, – представился я и подивился своим ассоциациям.
– Что, кризис жанра? – женщина окинула меня оценивающим взглядом и усмехнулась.
– Похоже на то, – я уже почти наслаждался неожиданной легкостью бытия, приоткрывшей мне новые горизонты.
– Тогда пойдем ко мне. Чего здесь сидеть-то? – она ловко пульнула окурок в урну, поднялась, поправила сползающую с плеч шаль и закинула на плечо сумку.
Я оценил ее фигуру. Как и бессмертному коллеге, мне было бы вполне достаточно ее щиколотки, чтобы дорисовать все остальное, но нынешняя мода предоставляет информации куда больше, чем действительно нужно. Согласившись с Анной, что сидеть на лавочке действительно ни к чему, я поднялся и вместе с ней двинулся плечом к плечу в неизведанное будущее.
Мы вышли из-под сени деревьев и, оставив бульвар за спиной, углубились в сторону *** переулка. Нырнув в подворотню, мы оказались во дворе обшарпанного дома. Каким образом не снесли эту серую махину, столь не похожую на культурно‑исторический памятник, я не понимаю. Подойдя к дверям, Анна набрала код. Пройдя в скрипучую обитую железом дверь, мы очутились в темном парадном. Когда-то красивая и широкая, а ныне облупленная и замусоренная лестница уходила во мрак, а грязная лампочка едва освещала недра старого дома. Пахло плесенью, сырой штукатуркой, далеким подвалом и, естественно, кошками. Я вежливо подхватил женщину под локоть, и мы поднялись по лестнице на один пролет – к лифтам. Лифт был под стать дому. Конечно, зеркала, скамейки и бархатная обивка из него давно исчезли, но сохранились резные дубовые двери и кованые решетки, ограждающие доступ в шахту. Анна вдавила кнопку вызова, и откуда-то сверху, демонстрируя кишки электропроводов, громыхая и постанывая, сползла кабина лифта. Мы забрались в ее допотопное чрево и, лязгая и скрипя, поползли на последний, шестой, этаж.
На площадку выходило всего две двери. Правая принадлежала Анне, и, погремев внушительной длины ключом, она открыла одну створку и пропустила меня вперед.
Я протиснулся сквозь двойные двери дореволюционного производства и оказался в просторной прихожей.
Слегка подтолкнув меня в спину жестким кулаком, Анна вошла следом и с грохотом захлопнула дверь, отчего мне на голову моментально осыпалась старая штукатурка.
– И как это тебе удалось сохранить такие хоромы? Поди, ведь бывшая коммуналка?
– Я бы сказала, что это все-таки бывшая квартира, переделанная большевиками в коммуналку, – Анна переобулась в расшитые бисером домашние туфли и, облокотившись о стену, с интересом разглядывала меня.
– Не будем спорить о понятиях, – примирительно заявил я, пытаясь с места оценить масштабы жилья. – Но все же как тебе удалось отбиться от риелторов? Мне кажется, многие из них охотно поживились бы такой хатой. Кстати, мне разуваться?
– Все риелторы – крысы, – вдруг заявила Анна, забрасывая на плечо хвост безумной черной в красную розу шали. – Ну, может, и не все, но преуспевающие – точно.
Высказав эту достойную удивления сентенцию тоном уверенным и даже где-то безапелляционным, она, отделившись от стены, перестала меня разглядывать и, стуча каблучками по рассохшемуся, местами сбитому паркету, гордо удалилась вглубь необъятной, погруженной в аквариумный сумрак квартиры, оставив вопрос о переобувании открытым.
Вдалеке раздался грохот, шум воды, лязг чайника о плиту и шипение ожившего радио. В воздухе плавали пылинки, как сор в пруду. Я вздохнул и, опираясь о стену, попытался стащить с ног ботинки, не развязывая шнурков. Обои под моей ладонью зашуршали как опавшие листья. Я повернул голову и обнаружил на них загадочные цифры и буквы типа «Кл. обр. – 198 шур.», выполненные жирной пастой старой шариковой ручки, которая висела неподалеку на белой веревке, зацепленной за гвоздь. «Классический оброк – 198 шурупов» – расшифровал я надпись и ужаснулся странным извивам своего ассоциативного мышления. Стараясь не наступать на совсем уж выдающиеся клубы пыли, все еще на цыпочках (вот она, классовая брезгливость недавно разбогатевшего к давно обедневшим!) я двинулся в полную гулких раскатов глубину. Как лосось на нерест. По дороге, вдыхая густой, пропахший куревом и скипидарной вонью воздух, я почему-то начал дышать ртом. И так и замер возле очередной полуоткрытой двери. Там, внутри, солнечный свет заливал необозримое пространство комнаты, утопающей в золотом сиянии. В комнате находилось несколько мольбертов с холстами, которые подпирали подрамники и, по видимости, готовые полотна. На уголке шаткого столика лежали кисти и краски. Лицом ко мне стояла картина, на которой открывался безумный вид на старый московский дворик, которых и нынче не делают, и сделанных уже почти не осталось. Почему безумный – не знаю. Может, перспектива, может, цвета, но что-то сигналило прямо в мозг о некой ненормальности, некоем вывихе в восприятии. Я сделал шаг к полотну, но меня грубо схватили за плечо и развернули.
– И куды пресся? – поинтересовалась Анна. – Все равно ничего не увидишь.
Между указательным и средним пальцами левой руки она сжимала беломорину, а правой больно прищемила мою холеную кожу. Рукава-то на рубашке короткие.
Я поймал ее взгляд, и на несколько секунд мы замерли, пытаясь извлечь полезные сведения из глаз друг друга. Мне это удалось довольно плохо: кроме безыскусной мысли о том, что вижу перед собой очень привлекательную женщину, и притом отнюдь не дуру, мне не пришло на ум почти ничего. Надеюсь, и Анна не особо много во мне разглядела.
– И что ж ты даром на девичью красу пялишься? – в голосе ее, как коньячное послевкусие, отдалась бархатная хрипотца. – За погляд-то деньги берут! Она засмеялась, и в черных глазах ее зазмеилась тоска.
Не знаю, как другие, а я уже через пять минут после знакомства с женщиной знал, пересплю я с ней или нет. Невидимые нити, что протягиваются между людьми, были для меня очевидны, и, глядя в глаза женщине, я безошибочно чувствовал, хочет она или нет. Конечно, я не претендую на роль Провидения и ситуации могут складываться различным образом. Но что согласие или отказ даются в первые пять минут, это факт. Но в глазах женщины, остановившейся в опасной близости, была чернота. Там не было ни отказа, ни согласия, лишь какая-то безликая неумолимость, и я вдруг со страхом вспомнил вчерашнюю Атропос со шприцем. Нет, все-таки плохо мужчины изучают тех, от кого зависит их если не жизнь, то ее качество! Мотивы, кто их разберет, эти мотивы Медеи и Каллипсо, Артемиды и Афродиты!.. А ведь один и тот же поступок может влечь за собой совсем разные следствия, чего уж говорить о такой призрачной субстанции, как мотив?
Мы еще смотрели друг на друга, каждый тщательно выискивал что-то во взгляде другого, когда я представил Анну в малахитовом уборе и все сразу встало на свои места. Я не я, и шапка не моя. Не по Сеньке, стало быть. И сани чужие, и каравай прозеван. И кокос осыпался, и крокодил не ловится. В общем, не жизнь, а пикник на обочине.
Анна словно прочла мои мысли.
– В жизни каждого человека, – назидательно произнесла она, отстраняясь и тыча мне в нос папиросой, – бывают такие моменты, когда ему нужно окончательно решить кто он и с кем он. Иначе жизнь выкинет его из птицы-тройки, и будет он лежать на обочине, с завистью глядя, как мимо него проносятся, словно сон роскошные экипажи.