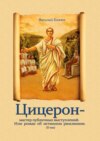Kitabı oku: «Философия любви», sayfa 4
Причуды фарса
Спектакль условных масок тем богаче и интереснее, за событиями на сцене тем яснее видны перипетии реальной жизни, чем лучше подобраны персонажи. Старая прелестная поэтическая игра, одна и та же во все века и у всех народов. Между тем среди поэтов-переводчиков, а благодаря им и среди читателей многие полагают, что Хайям искренне воспевает вино и превозносит пьянство. Впрочем, наличие таких читателей свидетельствует: спектакль в театре масок удался на славу.
Персонажи ведут себя соответственно маскам. Вино и шариат несовместимы? Тем хуже для шариата! Впрочем, поначалу-то герой фарса пытается подчиняться запретам, но…
Можно предложить читателю нечто вроде автобиографии морально неустойчивого обывателя, выполненной сатирическим пером Хайяма. Какая головокружительная пропасть грехопадения! Но обратите внимание, как уже в этих шутовских текстах Хайям представляет в смешном виде не столько своего героя, вначале чуть оступившегося, а в итоге пропившегося насквозь, сколько запреты шариата, а порой вкрапляет в его самые разудалые монологи намеки на самые серьезные свои мысли: «Возня добра и зла давно постыла мне». Или: «Нет веры, нет судьбы, местечка нет в раю». Да ведь это в чистом виде хайямовская программа: преодолеем гипноз мусульманской веры – перестанем надеяться на рай – уйдем из-под власти судьбы.
Теперь поэту остается чуть отклониться в сторону и повести за собой увлекшегося слушателя прочь из фарса, ближе к своему учению. И тот уже легче воспримет пренебрежение раем и геенной, гуриями и чертями, поверит, что есть средство обмануть судьбу, отстранит Коран, спокойней отнесется к мысли о невнимании к нему Творца – и, наконец, доверчиво воспримет Хайяма и его учеников не более чем как еще одну секту в исламе, в которую почему бы и не вступить?
Теперь завербованного слушателя Хайям понемногу начнет приобщать к сути своего учения, и если вдруг проболтается, что оно стоит вне мусульманства, что ж, новичку и на это надо когда-нибудь намекнуть.
А потом ученик убедится, что кубок хайямовского «вина» действительно несет ему благородный душевный покой как избавление от суеты, от погони за иллюзиями и ложными ценностями Бытия; причем мудрость этого покоя настолько далека от мудрости молящихся Богу, что совместить их нельзя, можно только выбирать одно из двух.
Согласитесь: не случайно почти все эти четверостишия звучат как экспромты из диалога. Отчетливо видится, как остроумными стихотворными аргументами поэт подталкивает к нужным выводам сомневающегося собеседника.
Будь весел!
Ну, а какова же стратегия и тактика Хайяма для избавления от власти небес, для направления человечества к будущему Счастью – каков же тот универсальный метод?
Его рецепт до гениального прост и звучит чуть ли не из четверостишия в четверостишие: «Будь весел!» Поначалу это воспринимается как обычное присловье перед застольными тостами (потому и переводят эти слова часто как «пей вино!», полагая, что у Хайяма это одно и то же).
Но постепенно настораживает: едва ли стоит легковесно относиться к формуле, которую он внушает нам так настойчиво. Внимательно приглядевшись, обнаруживаем: она тесно связана с намеками на промашки небес. И становится ясно вот что.
Как человек может узнать про момент, когда диктат небес ослаб, когда смертный сам влияет на свою будущую судьбу? Никак! И – случайным образом – способен в этот момент повернуть свое будущее не только в лучшую, но и в худшую сторону. Скорей всего, это зависит от душевного настроя: уныние резко кувырнет вниз, бодрость – улучшит судьбу. Потому-то, хотя небеса и обветшали, с работой своей они пока справляются успешно: случайные отклонения в ту и другую сторону взаимно компенсируются. И так будет до тех пор, пока люди не объединятся в заговоре против небес, не начнут действовать сообща – по рецепту Хайяма.
А рецепт исключительно прост. Поскольку промашки небес неощутимы, остается одно: все время пребывать в положительном душевном настрое. Тогда не ошибешься.
Будь весел, говорит Хайям, ибо мир непостоянен. Будь весел и жизнь на ветер не пускай. Не растрать впустую своего мгновения.
Кстати, о мгновении. Порой Хайям сокрушается: жизнь мгновения; даже время существования Вселенной – миг. И после этого, когда он то и дело повторяет: не упусти доставшегося тебе мига, не проплачь его, проведи весело! – мы воспринимаем его так, будто он по-прежнему говорит о краткотечной жизни, будто мы имеем дело с постоянной метафорой: жизнь – миг. Однако метафорический язык Хайяма очень подвижен и разнообразен, законсервировавшихся метафор (если не считать слов-символов и «рубиновых уст») у него попросту нет. Часто упоминаемое превращение людей в кувшины у поэта, полагавшего, что человеческая плоть в самом деле становится глиной, – не метафора, а прямой факт. Так, может, и это «мгновенье» у него не метафорично? Каждый раз, когда он призывает не упустить, не погубить слезами свой миг, действительно имеется в виду именно миг – тот самый, редкостный, важнейший, в течение которого небеса могут «проиграть» тебе.
Таким образом, по Хайяму, человечество способно прийти к Счастью, если люди согласятся для этого несколько потрудиться: отвлечься от ложных ценностей Бытия и полюбить его истинные ценности («Пей вино!»), чтобы не прожить жизнь впустую; вытравить из своей души грязь и пороки; и, наконец, научиться быть неизменно веселыми, чтобы при каждой оплошности небес добавлять свою толику к совместным общечеловеческим устремлениям к Счастью. И когда эти крохотные добавки суммируются в реальную силу, тяжелая инертная повозка нашей Истории постепенно свернет с колеи унылого существования, когда-то предписанного Аллахом, вырвется из-под механической власти небес и устремится на иной, на гордый, светлый и высокий путь. Надо иметь достаточно гражданского мужества, ответственности перед своими прапраправнуками, чтобы оставаться веселыми до самого последнего мгновения:
Когда в погоне Смерть задышит за спиной,
Когда в глазах у нас померкнет мир земной,
Сердца – веселыми швырнем на сито жизни!
И можно пылью стать под уличной метлой.
Хайямовское учение нуждается в дальнейшей расшифровке, и не исключено, что многие важные подсказки таятся в еще не найденных четверостишиях.
Не только тайный языком
Конечно, не все стихи Хайяма иносказательны и далеко не все посвящены философским проблемам. Есть, например, у него и любовь – не символ, а любовь в первозданном смысле. Около сотни его четверостиший, разбросанных по разным источникам, мало популярных даже в них (поскольку стиль их далек и от философских, и от сатирических стихов Хайяма и кажется чуждым), в большинстве не переводившихся на русский язык (поскольку порознь они звучат фрагментарно), собранные воедино, сливаются в прекрасный лирический цикл, очень земной и непосредственный. В этих стихах практически нет подтекстов и символов, они – откровенная летопись любви поэта к женщине, внешность которой он традиционно идеализирует, но строптивый характер ее, да и все перипетии этой истории и все оттенки собственных эмоций, не всегда благородно-возвышенных, изображает реалистично, зримо и без прикрас, открываясь нам с неожиданной стороны, как уже не мудрец и ученый, а как простой человек, в меру лукавый, остроумный и глубоко страдающий, несчастный человек, которому по возрасту и ослабевшему здоровью как бы и неприлично так по-юношески влюбляться.
Эти стихи, среди прочих похожие на инородные вкрапления, при слиянии их в цикл обнаруживают несомненное стилистическое единство; более того, в них становятся видны сквозные поэтические и бытовые сюжеты.
Именно эти стихи более всего относятся к «блуждающим». Но если не Хайям писал их, то коллективным автором лирического цикла приходится признать десяток различных авторов, мало схожих между собой. Однако весь стиль и сюжетные линии цикла свидетельствуют безусловно, что автор его – кто-то один. Единоличных же претендентов на него, кроме Хайяма, нет. Более того, в стихах этого лирического цикла, несмотря на стилистическую простоту, немало в приемах письма, в характере поэтических тропов, даже в прямых текстовых цитированиях перекличек с остальными стихами Хайяма.
Нам остается признать, что Хайям был не только глубоким философом и блистательным сатириком в своих стихах, но и удивительно тонким лириком. И в том, и в другом, и в третьем он выработал особые, точно соответствующие каждому из этих направлений приемы письма. В лирике речь его проста, нежна и откровенна. Взгляните, например, на редчайшее в жанре рубаи явление – прелестные, психологически точные диалоги.
Есть у Хайяма и картинки из жизни, то будничной, то праздничной; есть и дивные пейзажи; и стихи по случаю, например благодарность за присланную кем-то рукопись.
Своеобразны и довольно сложны для понимания шуточные стихи, образы которых навеяны научными размышлениями Хайяма. Он пытается ввести читателя в заблуждение, лукаво перемешивая строго научный смысл с обыденным, со здравым смыслом неуча. Например: «Неужто до того окружность уст мала, что центр окружности был вытеснен наружу?!» Это про родинку возле губ. И одновременно – про то, как спотыкается воображение, пытаясь совладать с бесконечно малыми величинами. Взять ту же окружность: трудно отделаться от ощущения, будто она, неограниченно уменьшаясь, должна в конце концов выдавить из себя – наружу – точку собственного центра.
Или такая серия подтасовок. По древнегреческим определениям: линия – это траектория точки. Плоскость – траектория линии. Точкой делится пополам линия, линией – плоскость, и т. д. Хайям шутливо утверждает, что и на этом скромном уровне математика уже сильнее установлений Творца:
Над каплей, плакавшей, сбираясь в дальний путь,
Смеялось море: «Вновь вернешься как-нибудь:
От Бога мир – един. Однако не забудь:
„Движенье точки ‘всё способно разомкнуть!»
Крохотная капля (точней даже, молекула) воды, испарившись, прочерчивает в пространстве линию. Так? Несомненно. Усложняясь хаотическим движением капли, эта линия может с какой-то вероятностью превратиться в плоскость. Так? Вроде бы не исключено. Плоскостью делится (разрезается) трехмерный объем. Наш мир трехмерен. Значит, и весь мир способна разделить эта плоскость. Так? Трудно возразить. Разделить – расчленить – разомкнуть – развалить на части – разметать в разные стороны!.. И это – мир, созданный Творцом как единый – неделимый! Ну сильна капля, ну и сильна математика!
Шутливая логика? Пожалуйста. Небытие – место не-бытия, не-существования. Но Бог ВЕЗДЕСУЩ, значит, и в Небытии он есть, существует. Следовательно, он обладает свойством инвертировать (обращать в противоположное) воздействие окружающей среды; назовем это божественным свойством «НЕ», благодаря ему Бог в НЕ-бытии НЕ-несуществует. Но если бы и здесь, в Бытии, вездесущий и всемогущий Бог присутствовал с этим свойством «НЕ», он превратил бы Бытие в Небытие! Остается одно из двух: либо в Бытии Бог отсутствует, либо где-то на внешних границах Бытия он должен отделять от себя, оставлять где-то в стороне от себя свое свойство «НЕ»:
Коль есть в He-бытии, Ты есмь, Не-тленный, – «НЕ».
А здесь?.. Распад, и мрак, и смерть Вселенной – «НЕ».
О, He-зависимый от мест, причин и следствий,
Ты здесь – отсутствуешь? Иль есть – с отменой «НЕ»?
Альтернатива? Как бы не так. Это логическая ловушка. В первом варианте – следствие: Бог не вездесущ! Во втором: есть нечто внешнее по отношению к Богу – значит, Бог не вездесущ! Итак, где ошибка в рассуждениях?
Точно так же, как значительную долю стихов о любви, из разряда иносказательных следует, как ни странно, вывести и часть стихов про саки – виночерпия. Суфийская трактовка побуждает видеть в виночерпии то религиозного наставника, то самого Аллаха. Но те стихи, которые действительно нуждаются в такой интерпретации, чаще всего стилистически далеки от Хайяма, чужеродны. В остальных же стихах, в большинстве своем явных экспромтах по случайным поводам, образ виночерпия настолько реалистичен и индивидуален, что за ним видно вполне конкретное лицо. Перед нами молодой человек («сынок»), благоговейно относящийся к группе ученых, посещающих его кабачок. Такое могло быть, видимо, только в период работы Хайяма в обсерватории, в годы, когда и всесильный визирь, и всемогущий шах относились к шариату не слишком ревностно, устраивали царские пиры, а Хайям, забавляясь, писал для них трактат о свойствах вина (он сохранился). Так что и в реальных кабачках, очевидно, Хайям бывал, и в реальных застольях участвовал, но конечно же не в таких фантастически безудержных, какие живописуются им в фарсовых четверостишиях.
Виночерпий медлителен, его часто приходится подгонять, порой даже высмеивать в стихах за нерасторопность. Принеся вино, юноша подсаживается к почетным клиентам и завязывает беседы на ученые темы. Заметим, его не интересуют ни астрономия, ни астрология, ни медицина. У него один конек: философия. Четыре стихии, Семь небес, расположение рая, возмездие за грехи… Его наивная болтовня про «Четыре, и Семь, и Восемь» тоже порой служит предметом насмешек Хайяма.
Он отвлекает простоватого юношу, начиная приписывать различным сортам вина сказочные свойства: вот, мол, вино, дарящее бессмертие, а это – возвращающее молодость, и так далее. Такие абсурдно-глубокомысленные пассажи, кстати, напоминают некоторые места из шуточного трактата Хайяма «Науруз-намэ», особенно главу про поиск кладов. Виночерпию нравится эта игра, и позже Хайям – стихами – заказывает для своих друзей то или иное вино, пользуясь придуманными раньше причудливыми описаниями их свойств, как бы проверяя память виночерпия. Следы этой игры можно найти в экспромтах Хайяма.
Несмотря на свою профессию, виночерпий набожен. Особенно ярко сказалось это после смерти его отца, от которого молодой человек и унаследовал кабачок. Хайям нисколько не щадит его горя, едко насмехаясь над религиозными стенаниями. И, похоже, помогает.
По простоте своей саки падок на лесть, даже самую беспардонную, какой не стерпел бы и привычный ко всему султан. И Хайям, пользуясь этим, восхваляет виночерпия, демонстрируя на нем – по сути-то мальчишке, на которого всякий пропойца покрикивает, – чудеса в искусстве лести. В самом деле, не султана же восхвалять!..
В старости, в плачевный период жизни, Хайям опять обращает стихи к виночерпию. Но теперь это уже образ-призрак, образ-воспоминание. Вместо прежнего весельчака-ученого входит в майхану дряхлый изгой. А толпа всё та же, и юноша-саки тот же, он по-прежнему мил и приветлив; только пусто за столом, где когда-то пировали друзья Хайяма. Какими мгновенными кажутся годы, когда сподвижники, один за одним, уходили в Небытие! Эти годы вмещаются в те секунды, когда произносится первая строка:
В шести… в пяти живых… нет, уже в двух!., в одном! —
С рожденья Смерть сидит в любом из нас, в любом!
А взять пиры Судьбы: сберемся за столом —
То соли не найти, то соль лежит на всем.
Теперь слово «вино» приобретает символический смысл, а фигура виночерпия начинает раздваиваться, и мы видим сквозь него Время, доливающее кубок поэта до роковой черты, Рок, поящий нас одной горечью – мутным отстоем со дна небесной чаши.
Стихи Хайяма, как и любого другого поэта, неоднозначны, и подгонять их под какую-то схему, толковать их в одном ключе – значит получить заведомо ошибочный результат. Каждое четверостишие требует тщательного анализа: хайямовское ли оно по стилю и духу? Если да, то в какой период жизни могло быть им написано? В каком настроении? Как перекликается со всеми остальными? Если это явный экспромт, в какой ситуации мог он возникнуть? Переводчик должен совершить невозможное: перенестись в то время, слиться с поэтом, воплотиться в него. И тогда Омар Хайям – оживет.
Тайный лирический шедевр Хайяма
Осмелюсь раскрыть читателям один секрет и один перевод, которые держал я почти от всех в тайне 20 лет. Во всяком случае, в издания переводов не включал… Изучая некое широко известное четверостишие Хайяма, я вдруг задумался: слово ТОУБЭ («зарок») подозрительно похоже по звучанию и по смыслу на полинезийское ТАБУ («запрет»), проникшее во все мировые языки, но – заведомо позже времени Хайяма. Может быть, у Хайяма его следует читать и понимать иначе?.. Конечно, на самом деле это не так (слово «зарок» встречается у Хайяма часто, в других стихах – со смыслом однозначным). Однако… В персидском начертании этот «зарок» можно прочесть и как два слова: «ты – прекрасна!»
Так уж совпало, что в данном случае это неожиданное прочтение оказалось возможным, хотя весь смысл четверостишия стал совершенно иным… Вот что у меня получилось в переводе:
День – солнцу, ночь – тебе. И что же? Ты – прекрасней.
Наполню ль кубок свой, всё то же: ты – прекрасней.
Но вот меня сманить старается весна
Цветеньем юных роз… О Боже! Ты – прекрасней!
Вчитайтесь! Допустим, я не очень удачно перевел, но отчетливо видно, что это – лирический шедевр, какому и у Хайяма равных нет, да и у других поэтов найдите хотя бы десяток столь же емких и проникновенных!
Одно из двух. Либо Хайям был настолько великим поэтом, что даже ошибочное прочтение его стихотворения неизбежно поэтично (но трудно поверить в возникновение редкостного шедевра из ошибки), либо здесь перед нами действительно закодированный текст, который только посвященному (точнее – посвященной) раскрывал свою суть, а для всех прочих звучал совсем по-иному, причем и для них был интересен.
Заключение
Итак, из рубайята Хайяма нам открываются и своеобразная картина мироздания, и весьма смелое для его времени морально-этическое учение, цель которого – счастливая жизнь на Земле, свободной от воли Аллаха. Замысел Хайяма тем ошеломительнее, что он встает на борьбу не только против гигантского монстра – человеческой инертности и косности, но и против воли небес, ведет борьбу сразу на два фронта. А богоборчество, поначалу потрясающее читателей, на фоне этого – так, почти забава.
И Хайям безусловно убежден в осуществимости своей идеи, недаром у него столько рубаи на эту тему, недаром они звучат как фрагменты из бесед с учениками.
Кстати, не на два, а на три фронта, третий – воинствующий шариат. Объект сражения не случаен: шариат – чудовищный анахронизм, если рассматривать Бога отсутствующим, а потому и служение ему – бессмыслицей. Шариат – также и главное практическое препятствие в переориентации духовной деятельности человека на земные проблемы.
Может быть, поэтому язык Хайяма зашифрован: служители Аллаха пусть негодуют на его насмешки, но им незачем знать, что Хайям не только издевается над шариатом, но и воспитывает учеников в духе нового учения, призванного преобразовать мир. И тогда «Мекки гордый храм» действительно проиграет.
Вспомним слова Кифти, что стихи Хайяма – «сборные пункты, соединяющие для открытого нападения».
Как мы знаем по прошествии девятисот лет, преобразовать мир Хайяму не удалось. Едва ли дело только в том, что законы исторического развития оказались сильнее его блестящих идей. В то время хайямовское учение все-таки имело возможность укорениться. Но была у него и неустранимая слабая сторона: оно адресовалось более к интеллекту, чем к эмоциям, и не могло предложить мгновенно зажигающих новичка лозунгов, которые бы концентрировали подспудно бродящие в народе неоформленные мысли: увы, не было у народа таких мыслей – сам по себе, без подсказки, он и близко догадаться не мог, что мы Творцом «выброшены на свалку». Кроме того, требовались десятки лет, свободных от социальных потрясений, чтобы (так же, как это когда-то удалось суфиям) последователи Хайяма смогли, увеличиваясь численно, постепенно укорениться в мусульманском обществе и накопить силы для «открытого нападения» на консервативное мусульманство. Однако этих спокойных лет не было дано: вначале кровавый террор Саббаха, повергший народ в ужас, потом междоусобицы, погрузившие страну в хаос, а потом и нашествие восточных орд, потрясшее половину мира. Учение Хайяма забылось, последователи его исчезли. Остались только стихи. Но не потому ли за последние полтора века так ярко вспыхнул интерес к его творчеству, что в нем звучит тревога за будущее человечества, особенно актуальная сегодня, не потому ли, что его призывы к благородству, к душевной чистоте нисколько не потускнели со временем, а его вера в прекрасную будущность человека – и сейчас, в самые кровавые столетия земной истории, – способна отрезвлять нашу совесть.
Эта работа вчерне была уже написана, когда я встретил рубаи, в котором увидел не только подтверждение основных своих выводов, но и усталое предположение Хайяма, что его учению вряд ли удастся преодолеть людскую косность.
Четверостишие – сплошь на недомолвках. Дословно:
С властью Бога, кроме согласия, /ничего/ не вышло.
С народом, кроме внешнего и лицемерного, /ничего/ не вышло.
Любую хитрость, какая на ум пришла бы,
Мы делали, однако сроком /ничего/ не вышло.
Кстати, это и пример того, почему всего Хайяма действительно можно понять по-иному, не так, как он прочитан в этой работе.
«Согласие» – чье? Не сказано. Отсюда и начало разных толкований. Если «согласие – мое», смысл первой строки таков: «Сколько я ни бунтовал против Бога, теперь смирился с его властью». Тогда и «внешнее и лицемерное» тоже «мои» качества: «не вышло у меня быть с народом откровенным; оказалось, я только лицемерил и притворялся». Точно так же читаются и хитрости против рока: «всячески хитрил я, но рок или судьбу не одолел». Именно так понял О. Румер, вот его перевод:
Чтоб угодить судьбе, глушить полезно ропот.
Чтоб людям угодить, полезен льстивый шепот.
Пытался часто я лукавить и хитрить,
Но всякий раз судьба мой посрамляла опыт.
При таком толковании, впрочем, два легких несоответствия должны насторожить: во-первых, почему «мы» и почему «делали»? Если автор говорит про личный жизненный опыт, «мы» неуместно. Если обобщает: мол, у всех и каждого таков результат, – звучало бы «делаем». Во-вторых, в традиционной системе взглядов бунт против Бога – масштабнее, чем попытки обмануть судьбу, поэтому по принципу поэтического нагнетания, который Хайям никогда не нарушает, про этот бунт следует говорить в последней строке. Недаром О. Румер, заметив это, «Бога» в первой строке заменил на «судьбу».
Иное дело, если «согласие – их, людей». Тогда «их» становится, естественно, и все остальное: «Не удалось преодолеть их „согласия”, т. е. покорности перед властью Бога; не удалось преодолеть их привычку к лицемерию. На какие бы уловки мы ни пускались, одолеть рок не вышло». И вновь раздвоение: уловки – против кого? Против рока? А может, против людей: обманув их предрассудки, все-таки подбить их на совместную борьбу с роком? Но разве возможна такая борьба?.. И вот здесь от этого толкования приходится отказываться тому, кто не разгадал хайямовских идей, и возвращаться к первому, пусть даже хромающему, объяснению. Иначе не справиться со множеством новых вопросов. А в результате – редактировать Хайяма, заменять «Бога» на «судьбу», «мы» на «я».
Между тем второй путь толкования видится единственно верным, если опереться на выводы, полученные в этой работе. Война с роком – важнее, чем преодоление почтения перед властью Божией, поскольку Бог покинул нас, осталась только иллюзия его власти, а рок над нами по-прежнему есть. Главное в работе Хайяма и его единомышленников (недаром «мы») именно в преодолении рока, потому о нем – в завершении четверостишия. И сокрушаться, что «ничего не вышло», можно лишь тогда, когда (именно в прошедшем времени) все мыслимое «мы» уже сделали.
Скорее всего, это четверостишие было адресовано ученикам и друзьям, и недомолвки естественны: им и так понятно, о чем речь.
Оно могло ошибиться: например, в том, активно ли подхватят люди новое учение.
Впрочем, конечно, можно попробовать истолковать и иначе. Например: «вероучение свое» – ислам или какая-то конкретная его секта, выбор которой был подсказан когда-то Сердцем. Но – вот второе четверостишие:
Ученьем этим мир поправил бы дела,
Вседневным праздником тогда бы жизнь была,
И каждый человек своей достиг бы цели
И заявил бы: «Нет!» – безумной власти зла.
Пусть только не пугается читатель, что теперь чтение стихов Хайяма вместо наслаждения искусством превратится в разгадку ребуса.
Во-первых, Хайям далеко не всегда углубляется в дебри иносказаний; есть у него и прелестная откровенная лирика, и дивные стихи о природе, и обыкновенные жалобы на жизнь, и непринужденные шутки и каламбуры, и таких стихов много.
Во-вторых, мудрость, наверно, тем и отличается от умной и точной мысли, что мысль легко сломать, чуть-чуть переиначив, и превратить в глупость или трюизм, но мудрость – пластична, и даже при вольном ее пересказе, даже многое не поняв, мы почувствуем ее глубокое дыхание. Выказанная кем-то мысль дарит нам мысль; но изреченная мудрость обогащает нас целым клубком сцепленных между собою мыслей, и, сколько ни разматывай этот клубок, конца им не видно. Читателю будет чем насладиться.
В-третьих, иносказания и глубинные пласты смысла – в традициях восточной поэзии. И эти традиции требуют, чтобы и внешний, поверхностный смысл был поэтичен, чтобы читатель получал удовольствие, даже не вчитываясь в глубину; Хайям владеет этим искусством безупречно. Но если читатель разглядит и второй пласт смысла, удовольствие его удесятерится; если же различит и третий пласт…
Итак, перед нами была тройная шифровка: Хайям подменил в стихах философские формулы художественными образами; он же превратил их в криптограмму, применив условный язык, слова-символы, потребовавшие разгадки; и, наконец, коварное время сделало из его рубайята анаграмму, произвольно перетасовав стихи и разрушив связный ход мыслей. Лестно было бы надеяться, что с последними двумя проблемами частично удалось справиться, и уступить теперь место философам для окончательной расшифровки.
Однако сам же Хайям учит, что Истина недостижима. И, внимая его предостережению, соглашаюсь: едва ли я был прав во всех своих выводах и догадках, когда пытался разгадать его рубайят; может быть, и все выводы в целом – всего лишь прекрасная иллюзия. Но хотелось бы верить, что какие-то крупицы истины в этой работе есть и что она хоть немного поможет постичь непостижимое – поэзию Хайяма.
Глубоко благодарный всем, помогавшим мне в этой работе, особую признательность хочу я выразить Александру Михайловичу Ревичу – за вдохновлявшую меня веру в успешность многолетнего труда над этими переводами и за практическую поддержку их изданиями, и Азиму Шахвердовичу Шахвердову, составителю многотысячной коллекции стихов в форме рубаи, – за отеческую помощь, уберегшую меня от многих ошибок в работе над переводом.
Игорь Голубев
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.