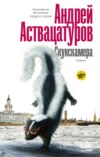Kitabı oku: «Бархатная кибитка», sayfa 7
Глава одиннадцатая
Поезд в рай
Всем известно, что число семь есть нечто чрезвычайно существенное, поэтому вы не станете подозревать меня в склонности к преувеличениям, если я заявлю вам, что в семилетнем возрасте передо мной распахнулся даже не один, а целая вереница новых миров. Судьба достаточно своеобразно подготовила меня к встрече с этими новыми мирами, а именно я приблизился к моменту их раскрытия в состоянии крайне изможденном и истощенном – перед этим я целый год провалялся в больницах: врачи подозревали у меня туберкулез и усиленно кололи пенициллином. В результате каким-то образом выяснилось, что туберкулеза у меня нет и не было, но усиленное лечение оставило после себя разрушения почти столь же катастрофические, какие могла оставить болезнь. Это был тот год, когда мне вроде бы полагалось посещать первый класс школы, но я побывал в школьных стенах за этот год не более десяти раз, всё же остальное время оставался пленником медицинских заведений. Вышел я оттуда в виде маленького призрака. Бледность моя пугала даже очень старых людей, жалующихся на крайнюю слабость своего зрения. Худоба моя приближалась к худобе комара. Особо остроумные люди называли меня Освенцим.
В общем, я настолько перепугал всех своим неземным видом, что меня решили немедленно отправить в Крым. Сразу скажу, что решение это оказалось не только лишь совершенно разумным с медицинской точки зрения, но также и судьбоносным с точки зрения спиритуальной. Благотворные последствия этого решения превзошли даже самые оптимистические ожидания, а у меня самого даже и ожиданий-то никаких не было: я ничего не знал о том полуострове, куда меня собирались переправить. До этого я в Крыму не бывал, да и вообще меня прежде не заносило в какие-либо отдаленные от Москвы края. Так случилось, что это первое в моей жизни далекое путешествие я совершил один. Папа посадил меня в зеленый поезд на Курском вокзале, а мама встретила в Феодосии, но в течение почти двухдневного пути я пребывал в одиночестве. Впрочем, поезд густо наполняли люди, стремящиеся к морю. Но все они были незнакомыми, непостижимыми. Однако никакого беспокойства я не испытывал, едучи в этом поезде. Мне все нравилось и внушало ликование: люди, уютно пожирающие с промасленных газет жареных куриц, вареные яйца в их пальцах. Крепкий чай в граненых стаканах, обутых в изумительные металлические подстаканники, украшенные выпуклыми изображениями космических ракет, кремлевских башен, виноградных гроздьев и пятиконечных звезд. Эти дорожные подстаканники пленили мое сердце, так же как и кусочки твердого сахара в специальных бумажных одеяниях. На этих оболочках мутноватый поезд мчался сквозь просторы столь же отважно, как и тот, реальный, в котором пассажиры совершали ритуальные чаепития – они разоблачали сахар, освобождая его от бумажной одежды, а после бросали эти белые, укромно искрящиеся кубики в чай, где те быстро теряли свою геометрическую форму. Белые кубы молниеносно пропитывались темной горячей влагой, после чего не составляло труда раздавить их чайной ложкой: крепость этого чая уравновешивалась его сладостью. Я настолько привык в больницах к разнообразным микстурам, что мне и этот чай казался медицинским препаратом – впрочем, он и был препаратом: стоило сделать первый нетерпеливый глоток, как в мозгу загадочно прояснялось, а в глубинах ландшафта, проносящегося за вагонными окнами, начинали проступать некие отдаленные и мимолетные детали, которые, возможно, и не удалось бы рассмотреть без помощи магического напитка. Демократический поездной чай оборачивался оптическим эликсиром, а что его делало таковым – об этом оставалось только гадать: драгоценные ли рельефы подстаканников, или быстрый ход состава, или же проносящиеся мимо встречные поезда, в основном товарняки, бесконечные, ржаво-коричневые, с техническими надписями? Или же напиток претерпевал алхимическую трансформацию в результате регулярного встряхивания, как бы некоего взбалтывания, которое обеспечивалось вагонной тряской? Мне вспоминается относительно редкое слово «пахтание». Этим словом обозначают взбивание сливок с целью превращения их в масло, а в русских переводах некоторых староиндийских текстов это слово встречается в рамках словосочетания «пахтание миров» – боги взбивают миры, как если бы изготовляли гоголь-моголь, рекомендуемый детскими врачами для укрепления истощенных детей. Любой поезд, особенно поезд прежних лет, идущий с потряхиванием, с перестуками, с лязгом, с долгими сиплыми стонами – это тоже «пахтание миров», он есть тигль и реторта, он есть во всех смыслах «перегонный аппарат», где осуществляются процессы, называемые в алхимическом жаргоне возгонкой. Итак, всего лишь глоток строгого вагонного чая – и сразу же окно с мягко закругленными уголками покажет вам совершенно удаленный домик, или изгиб реки, или девочку-велосипедистку, ожидающую возле шлагбаума, упираясь одной голой ногой в сухую землю, другую же ногу оставив на педали. Или стрелочника, или царапину на стекле, или великолепное зернохранилище, напоминающее крепость нелюдимого рыцарского ордена. Напившись чаю с обломком печенья, я пялился в окно своего людного купэ с такой увлеченностью, как если бы это был экран, демонстрирующий мне захватывающий приключенческий фильм. Я лежал на верхней полке, упираясь подбородком в плоскую утрамбованную подушку. На сероватой наволочке близ моего лица виднелась печать железнодорожного ведомства, сделавшаяся прозрачной вследствие многочисленных стирок и окрахмаливаний, – эта печать сообщала подушке облик официального документа, заверяющий мой новообретенный статус путешественника, и я уже предвкушал те сновидения, которые, как я полагал, навестят мою детскую голову, когда она будет возлежать на этой подушке в ночные часы странствия. И я предчувствовал, что придорожные огни будут проноситься по пространству купэ, на бегу высвечивая чье-то спящее плечо, баулы, куриную кость, растерянный ботинок, опрокинувшийся набок, как автомобиль, сброшенный в кювет.
В общем, поезд настраивает на прустовско-набоковский лад, и это относится даже к семилетнему мозгу, еще не знакомому с текстами упомянутых авторов. Но не успела нагрянуть моя первая в жизни вагонная ночь, как в купэ вошла дама в очках с очень темными стеклами. Она показалась мне совершенно незнакомой, но обратилась ко мне с приветствием, назвав по имени. Выяснилось, что это приятельница моих родителей, которую мой папа случайно встретил на перроне буквально за минуту до отправления поезда. Он успел рассказать ей, что я еду в этом поезде, и попросить присмотреть за мной.
И вот она пришла меня проведать, сказала, что они с мужем и дочкой тоже едут в Коктебель. Она пригласила меня навестить их купэ в соседнем вагоне. В этом купэ увидел я очень веснушчатую девочку, мою ровесницу, которая также валялась на верхней полке и таращилась в окно, как делал и я еще пять минут назад. С этой девочкой я потом дружил много лет. Нам даже предстояло учиться в одном классе, в школе рабочей молодежи, куда мы с ней попали уже четырнадцатилетними подростками. Папа ее был писатель, так что она, как и я, принадлежала к касте деписов (дети писателей).
Так вот и случилось, что тот день подарил мне двух новых друзей – поезд и девочку.
Впоследствии я так много времени проводил в поездах и так свыкся с поездной атмосферой, что недавно даже предложил своей возлюбленной Соне Стереостырски соорудить совместными усилиями фильм под названием «Поезд». В данном случае слово «соорудить» не случайно. Речь идет не о том, чтобы снять фильм, но именно соорудить его. Я очень увлечен в последнее время киножанром, который можно определить как ресайклин movies. Рецепт прост: берешь множество уже существующих чужих фильмов и перемонтируешь их в новый, свой собственный фильм. То есть киноколлаж, причем усилия монтажа и различные специальные эффекты («изменение порогового значения» – так называется один из моих излюбленнейших эффектов на техническом языке) должны (согласно моей идее) сделать почти невозможным для зрителя опознавание тех фрагментов, которые заимствованы из уже существующих киноповествований. Мы с Соней тщательно составили длиннейший список фильмов, чье действие разворачивается в поездах. Идея нашего фильма заключается в том, чтобы создать ощущение бесконечного поезда, в котором происходит все, что только может происходить в поездах: ограбления, перестрелки, любовные сценки, философские беседы, убийства, вторжения инопланетян, исповеди и прочее. Переход из вагона в вагон должно сопровождать изменением жанра и стиля повествования. Поезд – идеальная и этаблированная метафора кино. «Фильмы – это поезда в ночи», – сказал Трюффо. Безусловно, эти слова заслуживают того, чтобы сделаться эпиграфом к нашему планируемому фильму. Не знаю, хватит ли у нас терпения и усердия, чтобы деликатнейшим и потрясающим образом склеить этот бесконечный поезд. Но если получится… это было бы великолепно!
В нынешние времена семилетнему ребенку никто не позволил бы путешествовать в поезде без сопровождения взрослых – такая идея нынче даже в голову никому не придет, наверное. Но в Советском Союзе семидесятых годов это казалось вполне нормальным: наличествовало некое общесоюзное ощущение безопасности.
Чингисхан и другие создатели гигантских империй часто прибегали в целях обоснования своей деятельности к одной и той же метафорической фигуре. Они говорили, что цель их – создать гигантскую страну, по которой прекрасная и невинная девушка сможет пройти из конца в конец, держа на голове кувшин с золотыми монетами, – и девушка останется нетронутой, и ни одна монета не будет похищена. Я не возьмусь утверждать, что прекрасная девушка смогла бы пронести свой кувшин с золотыми монетами по территориям тогдашнего СССР – от Владивостока до Калининграда. И все же поздний СССР до некоторой степени являлся осуществленной мечтой Чингисхана. Не знаю относительно девушек с золотыми монетами, но тощие изможденные мальчики точно никого не интересовали, так что путешествие мое прошло благополучно.
Зеленый поезд доставил меня в мир, который оказался настолько вызывающе прекрасен, что я даже не сразу смог его полюбить. Словно северный призрак, я блуждал в потоках цветочных ароматов. Поначалу меня немного пришибло от этого разгула благоуханий, от флорического натиска, смешанного с натиском южного солнца. Я привык к невзрачным подмосковным туманцам, к прохладным лужам, к запаху северной хвои. А тут вдруг растительный беспредел, жара, яростное полыхание каких-то чудовищных лучей. Но все это не имело никакого значения, потому что немедленно предстало предо мной нечто гигантское, нечто совершенно всеобъемлющее, чему только и следовало отдавать весь свой восторг, – море. Если я до этого мига когда-нибудь и пытался представить себе облик Бога, то выглядел он именно так.
Реакция моя на первое знакомство с морем всех немало удивила. Я не умел до этого плавать, и прежде за мной не замечали ярко выраженной страсти к природным водоемам: рекам, озерам, болотам, ручьям. А тут вдруг я, как загипнотизированная овца, как зомби, как заколдованный, приблизился к морю, вошел в него и тут же, к изумлению всех присутствующих, уплыл в дикую даль. Я не просто вдруг проявил способность держаться на воде и плыть. Но, более того, я желал заниматься только этим и ничем другим с утра до вечера. Выманить меня из моря было почти невозможно. Ничего спортивного в этих моих бесконечных ежедневных заплывах не наблюдалось. Я плыл всегда медленно, сонно, уплывал далеко, но ни о каких достижениях даже не думал: я просто впадал в транс. В глубочайший транс. Я и без моря любил впадать в транс по тем или иным причинам, но из всех разновидностей транса, которые мне довелось изведать к моим семи годам, этот (морской, йодистый) оказался самым блаженным, самым радостным, самым безупречным. Моя мама и ее многочисленные подруги и друзья вначале слегка нервничали по поводу моих долгих морских исчезновений, думали, не утону ли я ненароком, но быстро все привыкли, и если кто-то спрашивал: «А где Паша?» – все они почти механически, не поворачивая головы, указывали пальцем куда-то в сторону морского горизонта. Там виднелась среди волн ничтожная точка – моя голова.
В море становился я иным существом, обладающим новыми повадками. Если на суше я избегал одиночества, то в водах оборачивался мизантропом: я обожал, когда вокруг меня не плескались прочие пловцы и купальщики, мне нравилось пребывать одиноким пловцом. И когда убеждался я, что вокруг нет никого, только голое море, тогда начинал я свои морские танцы. Я кружился вокруг своей оси, отталкиваясь ладонями от поверхности воды. Я и на суше практиковал долгие одинокие вращения с целью достижения полуобморочного эффекта: мне нравилось испытывать на себе закон земного тяготения, то есть достигать посредством этих долгих вращений такого состояния, когда кажется, что ты вот-вот упадешь на потолок своей комнаты. В такие моменты кажется, что мир перевернули вверх дном, и внутренняя головокружительная щекотка наполняет тебя целиком, в какой-то момент достигая такой невероятной интенсивности, что тебя сгибает пополам и ты действительно обрушиваешься, но не на потолок, а на пол – ты падаешь на колени, как подрубленный, а затем распластываешься – на ковре, на паркете, на теплом летнем асфальте. Но сознание еще продолжает вращаться, и ты стремишься, как маленькая приватная карусель, и твои внутренние лошадки несутся вскачь за внутренними слонами, и все это иллюминировано огнями внутреннего аттракциона.
Мне всегда казалось, что английское слово vertigo не более чем огрызок русскоязычного предписания «верти головой». Но я не вертел головой – я вращался всем телом, раскинув руки крестом и полностью доверив их воздуху (руки должны быть полностью расслаблены и обязаны лететь вслед за телом). То есть головокружение становится следствием телокружения, а основная немудреная задача вращающегося состоит в том, чтобы максимально медленно и плавно наращивать скорость вращения. Вращающийся, или круженец (впрочем, таких энтузиастов можно называть также вертяшками, карусельщиками, колесовиками, оборотниками, вращенцами, вертигонами, винилами, пропеллерами, вертопрахами), заинтересован в том, чтобы максимально растянуть время, пролегающее от начала вращения вплоть до неизбежного падения. А следовательно, скорость кружений должна возрастать неторопливо, чтобы под конец достигнуть предела физических возможностей.
Впрочем, все вышесказанное относится к вращениям на суше, но вращаться в море, когда ноги твои не достигают дна, – это совсем другое дело. И техника, и цель водяных кружений иные. В море невозможно достичь скорости вращения, которая обеспечила бы приступ серьезного головокружения. Да в море это и не требуется – речь идет о несколько ином наслаждении. Сколько ни вращайся в соленых волнах, голова у тебя не закружится. Но vertigo уже не является для тебя искомым состоянием, потому как ты отлавливаешь нечто покруче любого vertigo. Ты становишься веретеном в нежных пальцах невидимой морской царевны, она наматывает на тебя свою незримую пряжу, состоящую из воздушных и водяных струй. И постепенно, в процессе кружения, ты оказываешься в центре гигантского шара, охватывающего собой все прилегающие ландшафты. Наблюдая себя почти отсутствующим, почти совершенно обнуленным центром этого восхитительно шарообразного космоса, ты создаешь вокруг себя внутренний круг – эйфорическую окружность, сотканную из сверкающих соленых брызг, эту окружность ты чертишь вокруг себя ладонями своих распростертых рук, – постепенно набирая ту максимальную скорость вращения, которую согласны предоставить тебе влажная стихия и твое подвешенно-парящее состояние тела, опирающегося лишь на воду, ты вспарываешь морскую поверхность руками, соответственно оказываясь не только лишь в эпицентре гигантского шара, но также становишься стержнем полупрозрачного цилиндра, состоящего из брызг, взлетающих все выше и выше по мере твоего ускорения.
Ну и затем, накружившись вволю, ты начинаешь усложнять фигуры танца – выписываешь восьмерки, кренделя, пируэты, откалываешь водяное сальто, воображая себя обласканным цирковым тюленем или дельфином или рыбохвостым бородачом в духе жирных живописных полотен Арнольда Бёклина (если иметь в виду его русалочий цикл). В общем, ты совершаешь целые каскады движений, чередуя упорядоченные и хаотичные, пока не превращаешься в поплавок, плотно обхватив свои колени руками и прижав к ним свой просоленный лоб, – в этой эмбриональной позе ты окончательно теряешь какое-либо ощущение времени, тебе уже не нужно кружиться – тебя вращает само море, ты полностью отдаешься на волю волн, и тебя то переворачивает вниз головой, то мягко опрокидывает, то колеблет, словно в колыбели. Слова «Коктебель» и «колыбель» не просто идеально рифмуются, но содержат в себе смысловое единство.
В данный миг мы находимся в совершенно бестревожной точке моего повествования, к тому же это как бы исчезающая, испаряющаяся точка, я бы назвал эту точку чеширской – в честь того кота из «Алисы в Стране Чудес», который обожал таять в воздухе, оставляя после себя лишь повисшую над ветвями улыбку.
Моя приверженность к фанатичным морским заплывам не испарилась с годами. Когда я подрос и обзавелся курчавой бородой, девушки в Крыму игриво называли меня Плавающий Фавн – обликом и нравом я был вполне фавничен, но сейчас я рассказываю о годах, когда я еще не вырос в большого фавна, а оставался до поры до времени фавненком или же тритоноидом. Терпкие морские воды излечили меня от болезненной призрачности, что сделалась следствием долгих больничных прозябаний: я обернулся вполне бодрым малышом, хохотливым и прыгучим.
Тогда же вдруг выяснилось, что характер мой не настолько кроток, как казалось прежде, и некоторые взрослые из окружения моей мамы высказывали в мой адрес критические замечания (в те годы было модно высказывать друг другу критические замечания), осуждая меня за лень, безответственность, а также за то подчеркнутое равнодушие, порою переходящее в отвращение, которое я проявлял в отношении некоторых коллективных практик, обладающих в глазах многих почти сакральным значением. Существовали ритуалы и начинания, к которым советские и антисоветские люди испытывали объединяющее их почтение – к таким уважаемым вещам относились горные прогулки. Даже не прогулки, а скорее походы. Видимо, к 1973 году, о котором идет речь, еще не вполне выветрился дух шестидесятых с его культом спорта, с культом преодоления трудностей, с его романтизмом костров, палаток и байдарок. Самые оголтелые диссиденты и антисоветчики обожали подобное времяпровождение и отдавались ему с неменьшим пылом, чем вылупленные комсомольцы. Надо ли говорить, что я ненавидел все вышеперечисленное всей душой и прилагал максимум усилий (как хитроумных, так и простодушных), чтобы уклониться от горных походов. В своей детской гордыне, в наивном своем самообольщении я считал себя виртуозом уклонения, но ничего не вышло – к ужасу своему я был вынужден ходить в ненавистные горные походы в составе детской группировки, которую сколотили специально для этих походных целей двое взрослых – Алексей Козлов и его друг по фамилии то ли Заславский, то ли Засурский. Мне очень не повезло: вырос на моем детском жизненном пути закаленный походник, к тому же еще умелый и харизматичный организатор, обладающий властным и бодрым характером, – Алексей Козлов, известный в те времена джазовый музыкант. За этим человеком числилось как минимум одно выдающееся деяние: каким-то непостижимым образом ему удалось поставить в Советском Союзе знаменитый мюзикл Эндрю Ллойда Вебера «Jesus Christ Superstar» на русском языке. Почему советская власть разрешила ему такую вещь совершить – неведомо. Может быть, у него имелись какие-то неимоверные связи в высокопоставленных сферах? Об этом мне ничего не известно. Я дружил с его сыном, мальчиком моего возраста, белокурым и синеглазым ангелоидом, который не только лишь обладал ангельской внешностью (почему-то мне везло на ангелоподобных друзей и подруг), но еще и пел партию ангела в мюзикле, поставленном его отцом. Так что можно сказать, этот мальчик являлся профессиональным ангелом.
Один лишь только факт постановки в СССР мюзикла «Иисус Христос – суперзвезда» говорит об удивительных организаторских талантах Алексея Козлова. К моему несчастью, тем блаженным коктебельским летом эти выдающиеся организаторские способности Алексея обрушились на невзрослые головы нашей деписовской компании. Козлов убедил наших родителей, что горные походы под его руководством будут чрезвычайно полезны нам, избалованным, шаловливым и недисциплинированным писательским детишкам. Джазовый харизмат умел убеждать, и вот мы все тащились в горы под палящим солнцем. В этих походах мы должны были научиться преодолевать трудности, ну и еще какой-то подобной хуйне мы должны были научиться. Эта отрыжка шестидесятых отравила нам немало райских дней. Помню, с какой невероятной тоской отправлялся я в эти походы. Я постоянно оглядывался на море, которое становилось все более далеким и недоступным по мере наших вскарабкиваний на вершины. Мне неудержимо хотелось броситься обратно со всех ног, добежать до моря и уплыть как можно дальше, чтобы не смогли разыскать меня организаторские глаза джазиста. Затеряться среди волн, стать невзрачной точкой в соленом и свежем просторе, а затем и вовсе исчезнуть в своих морских кружениях и дельфиноидных играх. Но мне приходилось тащиться вместе со всеми, изнывая от жары, да еще волочить на себе тяжелый рюкзак, набитый тем, чем должен быть, по мнению Козлова, набит рюкзак походника. Ничему я там не научился, кроме как слегка ненавидеть замечательного джазового музыканта. Меня тошнило от его хипповского хайра, от его козлиной бородки, от его белозубой улыбки, вспыхивающей на загорелом лице, от его джинсовых шорт с ободрашками, от его смуглых мускулистых ног, которые торчали из этих шорт. Иногда я думал: не столкнуть ли этого крепыша со скалы? Он-то любил постоять где-нибудь на самой кромке, над безднами. Но я бы, конечно, никогда не совершил столь жестокого поступка: я ведь дружил с его сыном и не желал, чтобы ангел сделался сиротой. Да, собственно, я и к самому Козлову-старшему относился вполне неплохо и за пределами походов не испытывал к нему злобных чувств. Стоило мне сбросить с плеч дебилистический походный рюкзак, как сразу же злоба гасла в моей душе.
Я бы, наверное, сам свалился со скалы от удивления, если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что мне предстоит стать любителем и даже обожателем горных походов и прогулок. Я полюбил это дело в девяностые годы, в Швейцарии, где мои швейцарские друзья приохотили меня к блужданиям по альпийским тропам. Но там я уже был взрослым, ноги мои окрепли и сделались выносливыми, как у кенгуроида, и горные взбирания уже не казались мне мукой – напротив, стали источником блаженства.
Но тогда, в семьдесят третьем году, мы ползли по склонам Кара-Дага как удрученные насекомые под пристальными педагогическими взглядами Козлова и Заславского (возможно, Засурского). Заславский-Засурский, впрочем, был подобрее джазиста и иногда, когда Козлову случалось уйти вперед и он уже не мог наблюдать за отстающими, Заславский-Засурский сажал меня на свои могучие плечи и нес – давалось ему это легко, после больничного года я весил меньше рюкзака, и, думаю, отважному походнику казалось, что он влачит на себе птичий скелет. Козлов бы, конечно, никогда не позволил своему товарищу такое непедагогическое поведение, ведь он считал, что во мне следует выковать некую мифическую выносливость, но я до сих пор благодарен мягкосердечному Заславскому-Засурскому за его милосердную беспринципность, за то, что он, пусть и украдкой, но все же не всегда повиновался своему хайратому и козлобородому фюреру.
И вот мы достигали, после долгих мучений, некой высшей точки – обычно она обнаруживалась у подножия марсианских коричневых скал, которые вздымались к яростному небу вулканическими столбами или же торчали гигантскими кинжалами, или же они напоминали останки циклопических изваяний. Из этих высших точек всегда разверзался умопомрачительный вид на бухту, я находил взглядом писательский парк, похожий отсюда на клочок изумрудного мха. Я взирал сверху на море, и мне становилось больно оттого, что оно теперь так далеко. Я вспоминал, как еще в самом начале нашего похода я оглядывался на его синеву – так парень, которого обрили в солдаты, ищет взглядом в толпе провожающих лицо возлюбленной. Но тоска моя уходила, когда я догадывался о том, что уже завтра снова буду кружиться в соленых водах, и оттуда, из моего йодистого логова, я разыщу взглядом ту скалу, у подножия которой мы прервали свое восхождение. И, увиденная сквозь тонкую пелену морской влаги, эта скала покажется мне безвинной, как затерянная на вершинах шкафа шахматная фигурка, изгрызенная зубами пушистого хищника.
После наступления сумерек мне уже не разрешалось оставаться в море – только слегка повзрослев, я изведал наслаждение ночных заплывов. В детстве же, когда наступающий вечер выгонял меня на сушу, я сразу же вспоминал о том, что, кроме моря, здесь имеется еще один эпицентр моих вожделений – открытый летний кинотеатр. Там каждый вечер показывали новый фильм (точнее, фильмы были по большей части старые, но сменялись ежедневно), и об этих фильмах извещали написанные от руки афиши. Название фильма писали обычно слегка наискосок, под названием в скобках значилась страна происхождения (СССР, Франция, Италия, США, Румыния, Монголия и прочие). Позднее стали писать еще и жанр, но это уже в конце восьмидесятых (эротика, остросюжетный боевик, ужасы, драма, исторический детектив, фантастика). Но во времена моего детства жанр еще не писали – только название и страна. На многие фильмы нас, детей, не пускали, и мы смотрели их, сидя на ветвях цветущих деревьев, которые росли сразу же за оградой кинотеатра. В романе «Эксгибиционист» я описал сильнейшее впечатление, которое произвел на меня один наркотический эпизод из фильма «В Сантьяго идет дождь». Но я мог бы продолжить список эпизодов или даже некоторых киномоментов, которые до сих пор помню так отчетливо, как если бы смотрел эти фильмы вчера. С некоторым чувством неловкости я давно уже признался сам себе в том, что помню увиденные моими детскими глазами фильмы гораздо лучше, чем события, происходившие со мной за пределами кинозала. Я помню гримасы де Фюнеса и его механическую руку, помню всадников, скачущих за тенью остроконечной скалы из фильма «Золото Маккенны», помню голую метиску из этого же фильма, помню графа Монте-Кристо и Анжелику, маркизу ангелов, помню старое ружье и лифт на эшафот, помню укол зонтиком и неуловимых мстителей, помню, как расстреливали немецких офицеров в фильме про покушение на Гитлера. Я ничего не знал (и, кажется, и не желал знать) о том, как делается кино. Мне казалось, что излишнее знание об этом может подточить тот религиозный трепет, то экзальтированное восхищение, которое внушали мне фильмы. Я предпочитал думать, что каждый вечер, сидя на корявых ветвях в плотном столбе цветочного аромата (жасмин и акация благоухали столь разнузданно, что это и назвать-то никак нельзя, кроме как откровенной ароматической порнографией) или же сидя на синих длинных лавках внутри кинозала, я становлюсь свидетелем чуда, свидетелем поразительного мистического явления, и меня даже несколько удивляло, что загорелые кинозрители, собравшиеся здесь под конец бескрайнего дня, наполненного всевозможными курортными радостями, не падают на колени в приступе дикарского благоговения, не начинают совершать земные поклоны и бормотать благодарственные молитвы при первом же появлении волшебного луча, высвечивающего подвижные образы на мешковатом, слегка усталом от жизни экране. И хотя я знал, что где-то есть киностудии, что актеры приезжают на работу почти так же буднично, как врачи, учителя, инженеры и следователи уголовного розыска, что затем их гримируют и облекают в сценические костюмы, но все же в глубине души я верил, что этих актеров не существует, это лишь миф, а фильмы рождаются прямо в луче кинопроектора, в этом стрекочущем и трепещущем луче они формируются так, как формируются сновидения. И все же я испытал счастливый шок, когда впервые дважды посмотрел один и тот же фильм, – тогда я осознал, что киноленты располагают грандиозным преимуществом по отношению к сновидениям: они содержат в себе возможность возврата, их можно смотреть снова и снова, – ни в сновидениях, ни в бодрственной жизни мы не обнаружим столь полной радости возвращения. Конечно, после этих вечерних киносеансов голые метиски и агонизирующие гитлеровские офицеры становились элементами моих снов, но в сновидениях они каждый раз обладали изменчивыми лицами, а зрелая метиска могла обернуться растерянной девочкой, чью смуглую наготу я зацепил взглядом в лучах дикого пляжа.
Если уж речь зашла о наготе…
В райском саду каждый иудеохристианский наблюдатель обречен встретить Адама и Еву, нагих прародителей человечества. Случилось так и со мной. А именно: я первый раз в жизни увидел ебущуюся парочку. Такого рода переживание есть важнейший момент в жизни каждого ребенка, а мне судьба подкинула некий люксус-вариант такого переживания. Удивительно, но первыми людьми, которых я увидел в состоянии соития, оказались тогдашние чемпионы мира по фигурному катанию Пахомов и Горшкова (или Горшков и Пахомова, точно не помню).
Я уже рассказывал в романе «Эксгибиционист», что в то первое лето в Коктебеле сложилась чрезвычайно сочная и насыщенная дружеская компания взрослых, куда моя мама влилась на правах гениальной красавицы. Вся эта тусовка состояла из «гениев» – тогда в ходу было это словечко, отчасти соответствующее нынешним «звездам» или «селебрити» («селебы» в молодежном жаргоне).
Соответствующее, но только отчасти, потому что в те времена в таких компаниях признанные и публичные гении нередко соседствовали с гениями непризнанными или даже тайными, сокровенными, неизвестными широкой публике. Эпицентром той компании стал Евгений Александрович Евтушенко, обожаемый советским населением поэт, чья слава как раз пребывала в зените. Высокий, дико энергичный, харизматичный, громогласный – в общем, именно такой, каким и должен быть Поэт, совмещающий в себе два мифа: советский и антисоветский. Впрочем, в случае Евтушенко, советскость (в оттепельной формулировке) превалировала. Он с размаху влюбился в мою маму и стал писать ей в подарок стихи, например такие: