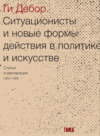Kitabı oku: «Без остановки. Автобиография», sayfa 6
В свободное от занятий время я гулял. В то время окрестности вокруг Шарлотсвилля были прелестными. На дорогах было мало машин, и общее удручающее состояние, в котором в последнее время оказалось большинство американских пейзажей [из-за повсеместного присутствия человека], было ещё не заметно. Я гулял по асфальтированным, грунтовым, просёлочным дорогам, а также вдоль железнодорожных путей. Я исследовал разные направления, и вскоре понял, что самыми приятными прогулками были маршруты на запад, потому что в этой стороне проходила цепь горных хребтов Блу-Ридж. Там росли удивительные леса, в которые я возвращался даже тогда, когда мне надо было сидеть и заниматься. В любом случае, знание просёлочных дорог в этом районе было совсем не лишним, потому что по ним можно было выйти к тёмным и скрытым от посторонних глаз фермам, где продавали алкоголь. С собой надо было принести галлоновые канистры, взамен которых ты получал наполненные бесцветным виски. Дома надо было избавиться от сивушного масла, положив в канистру сухих абрикосов и мешочек с углём, и спустя некоторое время виски становился «выдержанным». Пить такой виски лучше всего было – не разбавляя, быстро и помногу. Так лучше всего отключались вкусовые рецепторы. Раньше я пил очень мало, а теперь решил, как можно быстрее наверстать упущенное.
«Уделаться» можно было и немного по-другому. Этот способ использовали студенты-медики – покупали фунт эфира производства компании Squibb, наливали в небольшой стакан и нюхали его между возлияниями. Однажды я купил сразу несколько банок эфира, вылил на простынь и повесил её в своей комнате. Всем окружающим пришлось крайне не по вкусу – во всём доме стояла такая несусветная вонь, что всполошились хозяйские гости, которые организовали вечеринку на первом этаже дома.
На занятия моей группы по французскому один студент часто приходил в брюках для верховой езды, сапогах, с собакой и ружьём. Он ставил ружье у двери, а его сеттер тихонько лежал под столом профессора Абботта. С классом по геологии я ходил в походы в поисках гематита, сланца и морских лилий. Некоторые студенты периодически отставали от основной группы, чтобы пригубить из фляжки, пока профессор Робертс повторял, для всех тех, кто не понял эту тему в классе, как онтогенез происходит в эволюционном процессе филогенеза. Из всех пройденных курсов больше всего я запомнил материал лекций профессора Пратта «История музыки»28.
Я впервые в жизни получил опыт общения с интеллектуальными снобами и понял: больше всего их интересуют не литература и искусство как таковые, а свои собственные разговоры на эту тему. Тем не менее кое-чему я у этих снобов научился. Той осенью я прочитал «Бесплодную землю», впервые услышал григорианский хорал, музыку Прокофьева, а также с огромным удовольствием заслушивался пластинками оркестра Дюка Эллингтона29, записанными в Cotton Club. И купил свои первые блюзовые пластинки в магазине подержанной мебели в чёрном районе Шарлотсвилля.
На Рождество я вернулся домой. Той зимой многие обсуждали слова песни Let's Do It Кола Портера30. На Новый год мне было крайне паршиво от того, что я перепил самопального пива, занюхивая его эфиром. На следующий день я вернулся в Вирджинию в мрачном состоянии, которое не прошло даже тогда, когда все физиологические причины давно исчезли. То, что я видел происходящее в Вирджинии с точки зрения человека, который побывал в Нью-Йорке, в некоторой степени изменило моё мнение об этом ВУЗе. Я понял, что в душе готов согласиться с мнением отца о том, что университет являлся не колледжем, а клубом провинциальных джентльменов. Мрачное состояние усугубилось ещё и тем, что я подхватил конъюнктивит и попал в больницу, где под влиянием седативных препаратов неделю провалялся на койке, к которой мне привязывали руки, чтобы я не чесал глаза.
У меня была уйма не связанных с образовательной программой колледжа интересов, поэтому я не так много времени тратил на сами занятия, но, к своему удивлению, в конце первой четверти обнаружил свою фамилию в списке декана. В этот список попадали те, кто постоянно получал высокие оценки, и если студент в него попадал, то имел право не посещать занятия. Единственное, что такой студент был должен, так это сдать выпускные экзамены. В результате я иногда проводил уик-энды в Ричмонде или уходил пешком так далеко, что приходилось ночевать в отеле в Стонтоне или Уэйнсборо. Однажды вечер застал меня так далеко от любого поселения на склонах Блу-Ридж, что пришлось просить переночевать на одиноко стоящей ферме. Никто из семьи фермеров никогда в жизни не был в Шарлотсвилле. Они накормили меня и дали матрас на ночь. Утром меня угостили таким большим завтраком, какой до этого я в жизни не видел.
Если не брать в расчёт снобов, все профессора и студенты, интересующиеся литературой, говорили о Джеймсе Брэнче Кейбелле31 с исключительным уважением. Тогда только что вышел «Юрген», все считали, что это значимая вещь. Я быстро просмотрел книгу в университетском книжном магазине и решил, что это не для меня. Вместо «Юргена» я купил новый роман Ryder Джуны Барнс32, потому что она была среди авторов журнала Transition.
Компания Victor в то время выпустила новый фонограф для проигрывания долгоиграющих пластинок. Это была консольная модель, в которой из одной части аппарата пластинки автоматически перетаскивались в другую, но так жёстко, что слишком часто на них появлялась трещина или отламывался большой кусок винила. Продавец этого изъяна не упоминал, поэтому после покупки я пришёл к нему жаловаться. «Ещё не довели всё до ума», – сказал он и показал мне целую коллекцию испорченных пластинок.
В это время у меня был, как я тогда считал, первый маниакальный опыт. (Лишь спустя много лет я понял, что он был из той же серии, что и тот случай, когда я входил и выходил из кондитерской Roth's.) Однажды я вернулся в свою комнату, когда уже потемнело. Открыв дверь, я тут же понял, что сейчас произойдёт что-то удивительное и необратимое, хотя и не знал, что именно. Я подумал, что я – не тот «я», которым себя считаю, а во мне есть второе «я», которое мной овладело. Я закрыл дверь и запрыгнул на кровать. Я стоял на кровати и моё сердце бешено стучало. Я вынул монету в двадцать пять центов, подбросил её в воздух и поймал на ладонь. ОРЁЛ. Я издал громкий возглас облегчения, несколько раз подпрыгнул на кровати, после чего спрыгнул на пол. Решка означала бы, что мне придётся выпить содержимое бутылочки Allouai и не оставить предсмертной записки. Но орёл означал то, что я уеду в Европу в самое ближайшее время, насколько это возможно. Я снова вышел на улицу и ещё немного погулял. Я не вернулся домой до тех пор, пока не отправил телеграмму миссис Крауч в Нью-Йорке. Я написал, что уезжаю в Европу и прошу у неё одолжения. Я хотел бы, чтобы она помогла мне сделать паспорт. С хитростью изощрённого конспиратора я выбрал миссис Крауч своим доверенным лицом. Я рассчитал, что она не сможет отказаться от прекрасной возможности ошеломить всех членов моей семьи. И в том ударе, который миссис Крауч нанесёт всем им, она увидит что-то символичное, особенно, если я дам ей повод – пусть возникнет легенда и развивается в правильном направлении.
Миссис Крауч дала «добро», и я начал действовать. Так как меблировка семьи, в которой я снимал комнату, меня не устраивала, я купил себе мебель. Даже приобрёл персидский ковёр. Я продал всё, за исключением патефона, а кровать продал в день отъезда. Я никому не заикнулся о своих планах. Однако в ночь отъезда мне нужен был помощник, чтобы донести чемоданы до железнодорожной станции, и мне пришлось рассказать о своих планах студенту по имени Чезаре Ллойд, который помогал мне тащить багаж в три часа утра. Когда мы шли вдоль железнодорожных путей от Юниверсити Хайтс до центрального вокзала, гремел гром и сверкали молнии. Чезаре заметил, что это хороший знак перед началом путешествия, и я с ним с радостью согласился. Если всё сложится как надо, я мог бы оказаться где угодно и достичь невиданных высот, поэтому начинающееся приключение я воспринимал как экспедицию и пустился в путь в охотничьих штанах и сапогах.
Первую ночь в Нью-Йорке я провёл в маленьком и старинном отеле на Девятой авеню, где впервые в жизни увидел постельных клопов. Сказал менеджеру отеля, но тот пожал плечами: «Если не нравится комната, никто жить не принуждает, у нас свободная страна». Миссис Крауч и мисс Сью поддерживали мой план побега, они считали, что я поступаю по-своему и знаю, что делаю. «Ты принял правильное решение, – уверяли меня они. – Ты отлично впишешься в европейскую жизнь».
«И какой удар для всей семьи Боулзов», – добавила миссис Крауч, покачивая головой.
Я очень надеялся, что члены моей семьи узнают о моём отъезде только после того, как я уже покину Нью-Йорк. Я съездил в местечко Ямайка и получил фотокопию свидетельства о рождении, которую миссис Крауч взяла с собой, когда пошла получать мой загранпаспорт. Эта часть моего плана была самой рискованной, так как не обошлось без обмана, поэтому я опасался, что всё может сорваться именно тут.
Однако по совершенно необъяснимым причинам мне повезло. За паспортом ездили миссис Крауч и мисс Сью. Они решили, что вместе могут быть более убедительными, поэтому поехали вдвоём, и в тот же вечер пригласили меня на ужин. Как только я вошёл в дверь, миссис Крауч сказала, что теперь я – свободный человек. Она порылась в своей сумочке и достала конверт. «Мы солгали государству», – добавила мисс Сью.
В пункте выдачи паспортов миссис Крауч заявила, что пришла забрать документ для своего племянника. Родители хотят отправить его в Европу на учёбу, но у них нет времени и возможности подъехать лично. Ей поверили и выдали паспорт.
На следующий день я пошёл в контору судоходной компании Holland-America и купил билет на старый корабль Rijndam, который отправлялся в своё последнее путешествие через Атлантику. Билет до Булонь-сюр-Мер обошёлся мне в 125 долларов. У меня оставалось чуть меньше 50 долларов, а корабль отплывал только на следующей неделе. Миссис Крауч нашла, где мне жить до отъезда. Она сказала, что её дочь Мэри снимает меблированную квартиру на Вашингтон Сквер. Сама Мэри незадолго до этого вышла замуж и уехала в Канны. Миссис Крауч дала мне ключ от квартиры, и я тут же туда заселился. Квартира принадлежала человеку, работавшему в издательстве Conde Nast, и вся мебель была обтянута сатином.
Квартира была удобной, полной приятных ароматов, и всё было чудесно. Я прожил в ней несколько дней, как неожиданно появились хозяин с женой. Они открыли дверь своим ключом, но не могли войти, потому что изнутри я накинул дверную цепочку. Хозяева взбудоражились и стали кричать: «Кто это там?» Я впустил их и объяснил ситуацию. Они заявили, что миссис Крауч не имеет права никого заселять в квартиру, потому что съёмщиком квартиры является другое лицо. Прошлись по квартире, чтобы посмотреть, всё ли на месте, я ходил за ними по пятам и повторял, что мой корабль отплывает через пару дней. В конце концов, они разрешили мне остаться. Это был очень удачный поворот событий, потому что деньги мои таяли на глазах, даже несмотря на то, что за квартиру не надо было платить.
Я надеялся, что миссис Крауч и мисс Сью дадут мне с собой немного наличности, когда придут провожать в порт. Денег не дали, но до отплытия я получил от них уйму книг, чтобы читать во время путешествия, и три письма их друзьям в Париже с хорошей рекомендацией. Они не пришли меня провожать, потому что корабль отплывал из Хобокена. Ветреным мартовским утром я переплыл на пароме через Гудзон, параноидально высматривая своих родителей, боясь, что те прознали о моём отъезде и постараются не дать мне свалить.
Провожать меня пришла Люси Роджерс, которая была на пару-тройку лет моложе. Я с ней много общался летом в Гленоре. Миссис Крауч и мисс Сью неофициально удочерили её, отправили в школу во Франции, поэтому она знала трёх женщин в Париже, которым я вёз рекомендательные письма. Пока не прозвучало по громкой связи извещение, что пора всем провожающим покинуть борт судна, мы сидели в ужасно старомодной кают-компании корабля и обсуждали, как лучше всего наладить отношения с мисс Линч, мадам Данилофф и мадам Каски. На борту было всего восемь пассажиров, и один немолодой голландец до самого отплытия угощал всех выпивкой.
Глава V

Из всех книг, которые были у меня в каюте в той поездке, я помню только две. Двумя годами ранее прочитав «Фальшивомонетчиков» Жида, я пошёл в книжный магазин Brentano's и приобрёл рабочие материалы к роману33. Второй книгой был подаренный миссис Крауч том под названием «Серп и молот» – вышедшая ещё в 1920-хх книжка, защищавшая Советский союз. Показалась мне ужасно скучной.
Все пассажиры ели за одним столом, во главе которого восседал капитан. Я сидел напротив миловидной французской девушки, которая плыла, чтобы родить первенца в доме своей матери в Париже. Самая приятная и занятная из всех находящихся на борту, поэтому я с ней разговаривал. Приметил её сразу, как только взошёл на борт. Тогда она, обливаясь слезами, много раз целовала провожавшего её мужа. Девушку звали Кристин. Её мужа звали граф де Гвендюлэн, и он владел собственностью в южной Мексике, откуда и привёз свою жену в Нью-Йорк, чтобы посадить на борт корабля Rijndam. За десять дней путешествия я хорошо подтянул разговорный французский, общаясь с этой девушкой. Она плохо говорила по-английски, но именно на нём ей приходилось общаться с находившимися на борту голландцами. Мы приплыли в гавань Булони после полуночи. Море здорово штормило. Чтобы сойти на берег, нам пришлось по трапу спуститься с корабля в шлюпку, качавшуюся на волнах в открытом море. Когда мы устроились в шлюпке, Кристин сказала пару слов голландке, которая махала ей с борта корабля платком. Она несколько раз прокричала: Don't make big ties! / «He надо делать большие узы!»34, поэтому я спросил её, что она имела в виду.
«Ne faites pas des grosses larmes / „Не ревите!“ – объяснила она. – Comment je le dis? / Правильно я говорю?»
«Ну, „larmes“ переводится „слёзы“ [tears]. Но в любом случае так не совсем правильно говорить…», – начал было я.
«Tears, ties, ears, eyes! C'est impossible. Tous les mots se ressemblent» / «Тиаз, тайз, иаз, айз! Да не разберёшься тут. Все слова похожи», – нетерпеливо отрезала она.
Я снял комнату в отеле и долго смотрел из окна на пустой порт. Пытался убедить себя, что всё происходит не в сказке, а на самом деле. Я потрогал занавески и подумал: «Они французские. Это – Франция. Я во Франции».
На следующий день мы с Кристин сели на поезд, следующий в Париж. На вокзале Сен-Лазар нас встретила её мать, графиня де Лавиллат, и брат, которого мне представили как графа Сен-Симона. У Кристин и у всей родни были исключительно длинные французские носы. Поездка в такси до улицы Св. Доминика казалась целой вечностью. Французы болтали без умолку, а гудки уличных авто звучали как духовые у Гершвина в начале пьесы «Американец в Париже»35. Я слушал звуки города и думал, что Гершвину удалось очень удачно их имитировать.
В доме собрались братья, сестры, кузены и кузины, которые приехали поздравить Кристин. Среди родни был восьмилетний мальчик, которого за обедом спросили, не хочет ли он поехать в Мехико. Тот посмотрел на сестру, отрицательно покачал головой и произнёс: «Ты там сильно растолстела». Все принялись усердно повторять друг другу: «On y grossit trop! / Там, в Мехико сильно полнеют!» и веселиться, полагая, что мальчуган – сама невинность и не подозревает, почему его сестра так пополнела. Пока все хохотали, я следил за выражением его лица и понял, что мальчик прекрасно понимает, почему Кристин набрала вес. Я подумал, что парню очень повезло, что члены его семьи настолько легковерные. После обеда мы расселись на крошечных позолоченных стульчиках, пили кофе с ликёром, а Сен-Симон угостил меня сигарой. Я надеялся, никто не догадается, что я раньше никогда в жизни не курил.
У меня осталось ровно 24 доллара. В тот вечер один из братьев Кристин отвёл меня к мадам Гобер, которая принимала pensionnaires, «жильцов». Я снял комнату и после ужина вынул рекомендательные письма и внимательно их осмотрел. Люси говорила, что мадам Данилофф была очаровательной и щедрой женщиной, которая обязательно время от времени будет приглашать меня на ужин.
Мисс Линч была остеопатом, и её кабинет находился на Рю-де-ля-Пэ. Мадам Каски была актрисой из Ирландии родом и жила на левом берегу Сены. Я решил, что с точки зрения возможности найти работу в первую очередь мне стоит пойти к остеопату. Чтобы работать во Франции, мне нужно было разрешение на работу. На рассмотрение заявления требуется три месяца, но так долго я ждать не мог, потому что работа мне была нужна прямо сейчас.
Мисс Линч передала меня секретарю в её офисе по имени месье де ла Батут, который отвёл меня на ланч, а потом привёл в редакцию газеты Herald Tribune на улице дю Лувр, где у него работали знакомые. В 1929 г. у газеты было две редакции в Париже, главная располагалась на Авеню де л'Опера. Я прошёл там короткое собеседование, и мне предложили работать оператором коммутатора. «А разрешение на работу?» – пробормотал я. «Мы – американская компания и поэтому имеем определённые послабления», – ответил человек, проводивший со мной собеседование.
На следующее утро я вышел на работу. Я стоял рядом с молодой армянкой, которую должен был заменить к концу недели, и следил, когда на коммутаторе загорится огонёк. Когда загорался, надо было включить линию. За это платили 200 франков или 8 долларов в неделю. Армянка показала мне пару дешёвых ресторанов, мы вместе ходили туда полдничать и несколько раз вместе ужинали. Ей надо было уезжать из Парижа сразу после ухода из газеты. После её отъезда я остался один на один с коммутатором. Я нервничал, потому что надо было слушать цифры, произносимые людьми и искажённые акустическим аппаратом, после чего повторять эти цифры оператору на центральном коммутаторе. Было необходимо постоянно быть начеку и не зевать, чтобы не ошибиться. Я искренне полагал, что хорошо знаю французский, поэтому для меня стало делом чести никогда не путать номера. Что бы, например, подумал Эллиот Пол36, если бы я ошибся в нужном ему номере? Эллиот работал наверху в редакционном отделе, вычитывая тексты, и являлся, как мне сообщили, одним из редакторов Transition. Я неоднократно видел, как он, с бородой и с тростью, проходил туда и сюда мимо меня, сидевшего в будке телефониста у входа в здание. Я придумывал разные предлоги с ним заговорить, просто чтобы он знал, что я тут. Но все способы и предлоги, которые приходили мне на ум, оказывались неуместными. Однажды после ланча он вошёл с улицы и двинулся прямо к будке, в которой я сидел. Дверь будки была открыта. «Выйди на секунду на улицу», – попросил он. Перед входом стояло такси с открытой дверью. «Загляни внутрь», – попросил меня Эллиот. Салон такси был полностью обит кожей (это была имитация кожи питона). «Ты видишь то, что вижу я? – спросил он. – Просто скажи, да или нет».
«В смысле, змеиную кожу?»
«Вот!» – казалось, что он остался доволен. Эллиот хлопнул дверью, махнул рукой водителю, вошёл в здание и стал, слегка прихрамывая, подниматься по лестнице. Эпизод показался мне не самой подходящей возможностью, чтобы с Эллиотом начать беседу.
Однажды я пришёл в редакцию Transition на улице Фабер. Я поднялся по лестнице и некоторое время постоял перед дверью, после чего решил, что было бы глупо войти внутрь и просто представиться. Кому я там нужен со своим именем? После этого я уже не делал никаких попыток познакомиться с редакторами журнала.
Мадам Данилофф жила в месте, которое тогда было пригородом Булонь-Бийанкур. Однажды вечером, вскоре после того, как я стал работать в Herald Tribune, я пришёл к ней в гости, и эта русская матрона с высоко собранными на макушке волосами тепло обняла меня. Она уже получила письмо от миссис Крауч. Квартира выглядела пустой, обстановка была простой. В одной из комнат, заваленной книгами, сидел её муж, генерал Данилофф, автор двухтомной биографии маршала Фоша37, которая незадолго до этого вышла. Генералу было нечего мне сказать, но он был совершенно согласен с мадам, что мне надо что-нибудь поесть. Они жили одни и уже поужинали, но она приготовила мне омлет с сыром грюйер и салатом. Было очень вкусно. Гораздо вкуснее, чем любое блюдо в каком-то ресторане с комплексными обедами, в котором я обычно питался.
Бродячая кошка возвращается туда, где её кормят. Я начал регулярно посещать квартиру супругов Данилофф. В те времена я познакомился и с другими русскими, родом из дореволюционного, «старого мира», и вдоволь наслышался их речей с чрезмерной модуляцией. Впрочем, мадам Данилофф, будучи женщиной импозантной, затмевала их всех. Когда она говорила по-русски, её контральто неожиданно поднималось до визжащих высот на определённых ударных слогах практически в каждом предложении. Эффект был очень барочным и драматичным. Но генерал, который в эти моменты был её единственным собеседником, на это практически не реагировал и едва замечал свою жену.
Однажды я взял собой к ним три книги, которые на прощание подарила мне миссис Крауч. Она говорила, что прочитав книги, я могу предложить их супругам Данилофф, которые, вполне вероятно, захотят их взять. Когда мадам увидела «Серп и молот», она громко вскрикнула, прикоснулась рукой к горлу и на миг отшатнулась: «Mais qu'est-ce que vous faites avec ce livre? / Но зачем вам эта книга? – Спросила она, – Ne lisez pas cette saleté! / Не читайте эту гадость!» Потом она произнесла страстную обвинительную речь против Советского Союза, и в конце обозвала советское правительство собачьим. После этого с чрезвычайно недовольным видом вынесла книгу из комнаты. Когда я уходил, то нашёл книгу, лежащей около моего пальто. Мне кажется, миссис Крауч заранее догадывалась, какой будет реакция мадам, и я подумал, как же хитро она поступила.
Париж постоянно радовал меня, мила мне была даже утренняя прогулка до места работы. Ещё не пришла эра, в которой автомобильное движение стало настолько активным, что из-за него в воздухе не пахло весной. Однажды ночью я почувствовал себя настолько возбуждённым, что о сне не могло быть и речи, поэтому я прошёл весь город от площади Данфер-Рошро до площади Клиши. И только после этого вернулся в отель, в котором тогда останавливался. На следующий день я чувствовал себя сладострастно утомлённым, словно слегка парил над землёй. В результате день в клетке прошёл быстрее, чем обычно. Впереди была ночь крепкого и освежающего сна. Однако оказалось, что мне всё равно трудно заснуть. Я менял отели каждые два или три дня, потому что мог позволить себе только заведения, в которых были клопы. Однажды меня соблазнил вид из окна комнаты, и я совершил большую ошибку, заплатив за месяц вперёд. Ночью целая армия клопов залезла по ножкам кровати и пошла в атаку. Я горько жаловался хозяйке квартиры, которая потом поставила ножки кровати в небольшие банки, наполненные керосином. В ту ночь клопы поднялись ордой по стенам, поползли по потолку, расположились ровно надо мной и достигли состояния свободного падения.
Когда я пожаловался мадам Данилофф, она, как обычно, всё обострила. «Des punaises! / Клопы?! – воскликнула мадам. – Quelle horreur! / Какой ужас!» Она сразу решила организовать «крестовый поход» по убеждению моих родителей – высылать определённую сумму в месяц, на которую я мог бы жить. Я возразил ей, сказав, что они никогда не согласятся, и к тому же я должен признаться, они не знают, где я вообще, потому что я не писал им со времён Шарлотсвилля. Мои слова только подстегнули её. Мадам не могла понять, почему я такой скрытный, и решила, что всё это из-за моей гордыни.
В тот момент я совершенно спокойно относился к тому, что больше никогда не увижу членов своей семьи. Я взял дело в свои руки, и они этого мне не простят. Когда я высказал это мадам, она рассмеялась. «Вы слишком худой и нервный», – сказала она и отвела к старому русскому врачу, который, по её словам, был великим терапевтом в Петрограде. Врач задал мне несколько вопросов, выписал рецепты на несколько анализов, и снова заговорил. «Вы не склонны сами себя унижать?» – спросил он. Мне не очень понравилось, что меня про такое спрашивают, но я ответил: «Иногда».
«Ах, вот как! – воскликнул он. – А не лучше ли начинать каждое утро с пробежки в Булонском лесу?»
Я решил, что он впал в старческий маразм, но полностью с ним согласился. Потом мы вышли в другую комнату к мадам, которой врач долго говорил что-то по-русски, а та периодически подавала признаки наплыва чувств великого облегчения. Потом я заплатил врачу четверть моей недельной зарплаты, и мы ушли. После этого мадам неоднократно учила меня: «Et maintenant ne faites pas de bêtises». / «A теперь не делайте глупостей». Чувство облегчения, которое мадам испытывала по поводу моего состояния здоровья, не помешало ей настоять на том, что нужно написать моей матери письмо по-английски. Она так и сделала, и через некоторое время я увидел письмецо. Мадам написала, что мне надо пройти курс лечения. И чуть ниже на той же странице: «Через несколько недель лечения Пол выздоровеет».
Мать, наверное, была рада узнать, что я жив, и где нахожусь, но из-за неправильного понимания, как во-французском используется слово сиге / «лечение», она сделала вывод, что я начал принимать наркотики. В ответном послании она писала о силе воли и понимании – надо перебороть себя и пережить ломку. Понятное дело, никаких денег мне не прислали, как я и предсказывал. Бедной мадам Данилофф было сложно понять, как родители могут быть настолько равнодушны к судьбе своего единственного ребёнка. Ей был чужд менталитет жителей Новой Англии, и их представления – если нарушил правила поведения, неизбежно последуют наказания и траты. Мать написала мадам сухое письмо, которое пришло в тот же день, что и письмо мне. Письмо матери привело мадам в чрезвычайное удивление, но она не собиралась сдаваться и написала Мэри, дочери миссис Крауч, которая была в Лондоне. Вот это возымело результат – деньги пришли незамедлительно и в количестве достаточном, чтобы я мог бросить работу в Herald Tribune и какое-то время искать заработок, который отнимает меньше сил и внимания. Я написал Мэри благодарственное письмо. Почти сразу я понял, что уже не обязан зарабатывать деньги на жилье и пропитание. Я впервые в жизни почувствовал себя свободным. Головокружительное чувство, я оценил его не сразу. Каждые два дня я выезжал из Парижа и каждый раз дальше от города. Наконец, в один прекрасный день я купил билет в Шамони и, одетый в брюки для верховой езды и сапоги, поехал на поезде абсолютно без багажа. Следующие десять дней я бродил по горам вокруг Женевского озера.
Альпийский ландшафт был похож на витрину флориста. Пурпурные гиацинты цвели у подножия заснеженных гор, и чистые горные ручьи журчали в лугах. Треньканье колокольчиков на шеях коров, коз, а также перезвон церковного колокола – только эти звуки доносились из долины. Хотя я шёл по главной трассе из Шамони, за весь первый день путешествия увидел всего один автомобиль. В Орсьер я провёл день Вознесения Господня, сидя за пианино в салоне маленького отеля, где сочинял свою прелюдию для фортепиано. Лозанна показалась мне приятным городом, Женева же, наоборот, не понравилась, потому что показалась слишком похожей на американские города. Французскую границу я пересёк в коммуне Анмас, там из-за пререканий с таможенным инспектором по поводу пачки швейцарских сигарет пропустил нужную стыковку в расписании поездов. Решил опять пройтись пешком. Спустя два или три дня, иногда проезжая короткие расстояния на местных поездах, я оказался в департаменте Альпы Верхнего Прованса. Стояла прекрасная погода, и в радостно-возбуждённом состоянии от непривычных картин сельской жизни я шёл от одной деревни к другой. До этого я наблюдал природу и ходил по дорогам в восточной части Соединённых Штатов, где ландшафт был не самый гостеприимный, поэтому совершенно неудивительно, что сельские районы Швейцарии и Франции произвели на меня такое впечатление.
Снимая на ночь комнату в сельской гостинице, так или иначе, становишься зависим от милостей природы. В отеле я пользовался возможностью постирать и высушить рубашку. Для этого вначале я выковыривал из стены кнопки, на которых держался прайс-лист услуг, пришпиленный изнутри к двери комнаты, чтобы прочитать. Если ночью шёл дождь, утром рубашка была мокрой. У меня был плащ, но я никогда не выходил из отеля, если мне казалось, что скоро начнётся дождь.
В Ниццу я приехал ночью на поезде. Несмотря на то, что в темноте я мало что смог рассмотреть, запах и текстура воздуха подсказали, что я попал в совершенно другой климатический пояс. До этого я никогда не видел субтропическую растительность, а пальмы и мимозы на улицах придавали городу тон сладострастия.
Я пробыл в Ницце неделю. Каждое утро я вставал на рассвете и шёл вдоль моря в парк Мон-Борон, где садился за столик в небольшом бистро прямо у моря. Я пил кофе с круассанами, читал, писал и просто смотрел на воду. Я проводил там много времени. Иногда мимо проезжали запряжённые лошадьми телеги или трамвай. В этом bistrot я писал большую часть своей корреспонденции. Мэри прислала длинное письмо, извещая, что скоро будет в Париже, и советовала растянуть оставшиеся у меня деньги до её приезда. Я воспринял это письмо как напоминание, что пора возвращаться в Париж и начать искать работу.
Красивая и необыкновенно элегантная Мэри сидела напротив меня в номере Hôtel de la Trémoaille. Быстрым движением она вытряхнула на стол все деньги из своей сумочки. «Скорее забирай. Джок будет с минуту на минуту». Он действительно появился. Худощавый на вид, он произвёл более приятное впечатление, чем я ожидал. До того, как они с Мэри уехали из Парижа, мы успели несколько раз вместе поужинать. Однажды мы пришли в гости к мадам Данилофф, которая, увидев нас, вскрикнула от радости. В тот день было решено, что она поговорит со своим другом Сергеем Прокофьевым и попросит его взять меня в ученики. Видимо, предполагалось, что я буду платить за уроки, но об этом не было сказано ни слова. Планы слегка выбили меня из колеи, потому что я не очень представлял, как изменится моя жизнь, если буду брать у него уроки. Когда композитор согласился, я начал скорее волноваться, чем был польщён. К тому времени Мэри уехала в Вену, и я уже не имел возможности обсудить с ней тему обучения у Прокофьева.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.